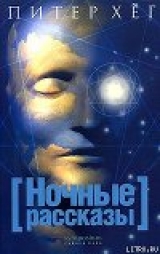
Текст книги "Ночные рассказы"
Автор книги: Питер Хёг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Мне было лет десять, когда Виллумсен, великий художник, попросил отца позировать для картины «Справедливость против несправедливости», и я до сих пор прекрасно помню долгие дни в залитой солнцем мастерской, где отец стоит посреди комнаты, обнажённый, как символ борьбы с чёрной несправедливостью. Я помню, какую он излучал силу, и она передавалась мне, тихо сидящему на полу, и молодому художнику, работавшему увлечённо и лихорадочно, и даже тогда, за многие годы до того, как я смог сформулировать эту мысль, я чувствовал, что сила моего отца неотделима от его общественной деятельности, его судейской мантии и мундира.
Я стоял рядом с отцом, когда Виллумсен показывал ему готовую картину, и тут оказалось, что художник вопреки договорённости изобразил на картине отцовские черты лица. Не повышая голоса, отец обратил внимание художника на эту ошибку, но Виллумсен не желал его слушать и стал рассказывать отцу, как трудно всё переделывать и какая это честь – быть вот таким вот образом изображённым в образе справедливости. И тут твой дед приоткрыл дверцу своей души, дав художнику узнать, что такое непоколебимая сила воли. «Будьте так любезны, – сказал он, – замените черты моего лица на другие. Вы, конечно же, понимаете, что культ личности несовместим с должностью члена высшей судебной инстанции страны».
Помню, как Виллумсен отступил назад, как будто получил удар, а так в сущности и было: чувство справедливости столкнулось с моральной неустойчивостью художника, и всем стало ясно, что лицо будет переделано. Я, выпрямившись, стоял рядом с отцом, слишком юный, чтобы всё понять, и тем не менее полностью осознавая, что даже как частное лицо, стоя перед художником, мой отец был образцом, и даже обнажённый он ни на секунду не утратил достоинства.
Не буду останавливаться на том времени, что отделяет это воспоминание от событий, о которых я собираюсь рассказать. Скажу только, что не было ни одного дня, когда бы он не сиял для меня, как звезда. Я вырос, чувствуя дистанцию между отцом и сыном, которая в наши дни исчезает, но мне она представляется благом, да и, с учётом всех обстоятельств, необходимостью. Мне никогда не нравились сентиментальные черты нашей культуры, я никогда не понимал, почему индивидуумам необходимо цепляться друг за друга словно слепцам, которые шарят на ощупь, пытаясь утащить остальных в свою собственную тьму. Я верю в свет, и таким светом был мой отец. Людям нужны образцы для подражания, чрезвычайно важно, чтобы нашёлся человек, обладающий мужеством и необходимыми достоинствами, который может встать и сказать, что вот так, именно так надо идти навстречу жизни. Большинство молодых людей впервые встречаются с жизнью как с мерзостью запустения – в ту минуту, когда осознают вдруг слабость своих родителей, и в эту минуту им становится трудно или невозможно верить в идеал. Я сам прекрасно помню бесконечную грусть той минуты, когда моя мать впервые солгала мне, помню её слабость и слабость других женщин, словно длинный ряд напоминаний об угрюмой смерти, которая ожидает нас всех. Мне кажется, что когда ко мне придёт смерть, она придёт в виде женщины, убеждающей меня в том, что я буду жить вечно.
С отцом всё было иначе, я знал, что он крепко держит жизнь в руках. Не только те её части, которые хотят того же, что и мы, но и всю жизнь – холодное скользкое существо, которое изо всех сил извивается, когда мы пытаемся ухватить его покрепче, – он держал на вытянутой руке и смотрел ему прямо в глаза.
Я не особенно склонен предаваться праздным размышлениям, но хочу сказать вам, что у меня было видение о старости. Не знаю точно, когда оно появилось, но думаю, что это произошло, когда мне было лет двадцать, и однажды, посмотрев в зеркало, я обнаружил морщинку, тень, которая, словно тоненький червячок, ползла по моей щеке. Я рассмеялся и увидел, что она стала глубже, и понял, что это червь времени, маленькая, чувствительная рептилия, предупреждение о чём-то, что уже началось и больше не прекратится до самого конца. Мне показалось, что до этого дня я всё время смотрел только вниз, ходил, не поднимая взгляда от земли. Но в то мгновение я поднял голову и увидел то, что ждёт всех нас, и тогда я взглянул на своего отца по-новому. Не как на Олимп, не на далёкую вершину, а как на то, что ждёт меня самого, и тогда я создал себе представление о его старости.
С того самого дня я осознал, что мы, люди, поднялись из праха и насмехаемся над ним, как будто никогда более не ляжем обратно в землю. Мне кажется, что спим мы на кроватях, потому что хотим быть на расстоянии от земли, убеждая друг друга и самих себя, что сон наш – это нечто временное.
Но земля ждёт всех нас, и я знал это с двадцати лет. Могу сказать тебе, что каждое утро с тех пор я просыпаюсь с отчётливым чувством, что уже похоронен, что на меня давит тяжесть и осознание отмеренной всем нам доли страдания, словно восемь футов земли, и я знаю, что гроб надо мной уже крепко забит. Потом я понимаю, что ещё слишком рано, хотя и знаю, что смерть небрежна, это отправка на пенсию, которой я ещё не заслужил, это оправдание на противоречащих закону основаниях, и тогда я переворачиваюсь в своём саване, и восстаю из земли, и приветствую новый день, и говорю я это без горечи, но и без всяких иллюзий.
Для того чтобы каждый день находить в себе силы и подниматься из собственной могилы, необходима помощь, и я получал её от своего отца.
Я создал себе его образ в старости, сидящего в своей библиотеке, и этот образ был, конечно, создан в знак протеста против разрушения. Протеста против той старости, которую мы ежедневно наблюдаем вокруг, когда люди теряют веру в себя, когда старики забывают, выходя на улицу, надеть ботинки, когда судьи зовут меня к судейскому месту, потому что не слышат, что я говорю, и прерывают судебное заседание, поднимаясь с места с заявлением, что заседание временно прекращается, мол, судьи должны размять ноги, потому что у судей варикозное расширение вен. И когда они, слушая моё выступление, смотрят на меня прозрачными глазами, полными признаков маразма и всего того, чего они более не в силах понять.
В качестве противовеса этой тьме, начавшей затягивать меня ещё до того, как я повзрослел, я создал себе образ отца. Он сидит в своей библиотеке, морщинистый, седовласый, как на этом портрете, прямой, совершенно прозрачный и глубокий, как источник. Он читает, и я вхожу и вижу, что мы похожи, два человека, которые не сгибаются духовно и физически. И я задаю ему вопрос, и он отвечает мне – краткий ясный ответ, словно сверкающий сосуд кристаллизованного опыта, соли жизни, и я киваю и ухожу. Таким я его видел, и ничто, ничто не предвещало того, что это видение не станет реальностью. Пока я не получил его письма.
Он никогда мне прежде не писал. Ведь отцы не особенно пишут своим сыновьям, к тому же он, как и всякий юрист, с осторожностью относился к письменному слову. Да и о чём ему было мне писать? Один раз в Херлуфсхольме, когда школа обратилась к нему с просьбой сделать мне письменный выговор за то, что я, отвергнув гомосексуальные домогательства товарища, выбил ему два зуба и засунул его на полчаса под холодный душ, чтобы он узнал, что такое мужской взгляд на вещи, отец сел в свой «мерседес», приехал к нам в школу, поставил машину среди клумб с розами, поднялся в кабинет ректора, встал перед ним и сказал: «Я приехал, чтобы обратить ваше внимание на то, что наклонности моего сына – это его личное дело».
Письмо от него пришло зимой, и я прочитал его в этой комнате. Твоя мать также присутствовала при этом, она была беременна, а на улице стоял лютый мороз. Он писал: «Я прошу вас приехать ко мне. Это важнее, чем вы можете себе представить, и не терпит отлагательств».
Помню, что меня как будто бы парализовало. Никогда прежде я не слышал, чтобы он просил кого-нибудь о чём-нибудь, даже за столом. За столом, как и в жизни, он сам дотягивался до всего, что ему было нужно. Он мог обратить внимание на чью-нибудь ошибку, он мог сделать жизни выговор, но никогда прежде он никого ни о чём не просил.
Мне было тридцать лет, у меня была адвокатская должность, квартира, жена, вскоре я должен был стать отцом, и тем не менее мы отправились в путь. Не на следующее утро, не в тот же вечер, а в тот же час, потому что так уж потребовал твой дед, хотя требование его и было облечено в форму просьбы, и при этом я ни секунды не сомневался, что он позвал нас, потому что понял, что скоро умрёт.
Не могу сказать тебе, почему я нисколько в этом не сомневался, но сам посуди, своим письмом он прервал мою работу, а я интуитивно понимал, что мы оба считаем – только зовущий со смертного ложа имеет право отвлекать живых от их дел.
Письмо пришло с острова, который принадлежал нашей семье и который находится там, где пролив Каттегат превращается в пролив Скагеррак, на самом краю Дании. Туда он обычно уезжал, когда ему нужно было изучить много материалов по какому-нибудь делу, туда-то он уехал и в этот раз.
Остров принадлежал нашей семье уже в пятом поколении, и северная его часть представляла собой пустыню, если в этом слове вообще есть какой-то смысл, – попеременно замерзающую и раскаляемую солнцем в разные времена года поверхность плотного песка, на которой северный ветер заставлял растущую в песке траву с трудом отвоёвывать у него каждую пядь земли, – и здесь мой отец построил себе дом. Я бы сказал, что это был дворец, хотя и выстроенный из дерева, но всё же дворец, белый двухэтажный дом с колоннами, глазурованной черепицей и высокой оградой вокруг сада, где садовник выращивал розы. Думаю, что именно эти цветы должны были там расти, потому что отец хотел показать, что мужчина не должен ничего принимать просто так, даже от сил природы.
Мы добирались всю ночь, и на месте оказались к утру, когда всё вокруг уже было залито солнцем, но в прозрачном воздухе ещё чувствовался резкий, пронизывающий холод. На море стоял штиль, не было ни ветерка, а на воде застыла тонкая, словно бумажная, плёнка прозрачного льда, который звенел, ломаясь там, где его разрезал паром, и я подумал, что так же незаметно и неотвратимо, как и этот лёд, к отцу сейчас подступает смерть.
На пароме нас было двенадцать пассажиров, и, когда я впервые их увидел, я сразу понял, что ещё до того, как закончится день, мы окажемся за одним столом, и подумал, как это похоже на утончённый юмор отца – позаботиться о том, чтобы за столом было тринадцать человек – как участников тайной вечери или судей в Верховном суде.
Кого из них я знал? Свою мать, конечно же, двух судей, начальника полиции нравов, одного профессора юриспруденции, епископа Зеландии, который, как я знал, учился вместе с отцом в школе. У парома нас встретили два ландо, и во время короткого путешествия я пережил нечто совершенно для себя новое. Ты знаешь, что я, не будучи мизантропом, смотрю на своих ближних со скептицизмом юриста. На протяжении всей своей жизни я всегда видел людей насквозь, я всегда вижу за любезностью и вежливостью оборотную сторону, а с таким взглядом невозможно сохранять иллюзии. Я – человек, у которого нет предвзятых мнений, но нет и надежд. В своей жизни я испытывал привязанность только к нескольким людям, да и она возникала только после того, как эти люди в полной мере доказали свои достоинства.
И тем не менее во время этой поездки я неожиданно почувствовал симпатию к своим попутчикам, ощутил некую общность с ними. Это, подумал я, те люди, которые были близки моему отцу, именно им он хочет сообщить свою последнюю волю, люди, которые могут засвидетельствовать, что его жизнь, настолько, насколько это возможно для человека, приблизилась к идеалу. Епископ знал его с детства, размышлял я, судьи и профессор знали его в официальном качестве, и даже мать признала бы, если бы нам очень повезло и мы бы стали свидетелями одного из редких для неё проявлений рассудительности, что он и до, и после расторжения их брака неизменно демонстрировал благородную, безупречную ответственность.
Остальные четыре женщины несколько смущали меня, но и их присутствию должно было найтись убедительное объяснение, и во время всего путешествия я относился к ним с удивлявшей меня самого благожелательностью.
Вы прекрасно понимаете, что душа моя была скована холодом, как и окружавший нас пейзаж, что я, с того момента, как отложил письмо отца, не мог представить, как я буду продолжать жить, если отца не станет. Сидя в трясущейся повозке, я чувствовал, что моё сердце покрылось прозрачной, тонкой, как бумага, ледяной коркой. И одновременно во мне – попробуйте это понять – росла какая-то новая энергия, загадочный душевный подъём, и мне казалось, что я испытываю такие чувства, потому что отец хотел бы этого. В той жизни, которую он крепко держал в руках, присутствовала и смерть, и теперь эта смерть, в самой своей страшной мыслимой форме, приблизилась ко мне вплотную, и я почувствовал, что её холод, её обещание некоей всёуничтожающей внутренней вечной мерзлоты я встречаю с вызывающим пренебрежением.
Подобное пренебрежение, как мне показалось, я заметил и у своих попутчиков, во всяком случае у мужчин, потому что все они излучали всеобъемлющее, полное силы благородство. Хотя они и сидели на твёрдых деревянных сиденьях, в мехах и дорожных накидках, закутанные в пледы, в них решительно не было никакой беспомощности, никакой стеснённости или комичности, но, напротив, общая для всех, безграничная выжидающая сила. Служебное положение некоторых людей связано с определёнными предметами и местами, – со спортивным залом, с колбами и катодными трубками, с перьями и чертёжной бумагой. Сила этих людей, как и сила моего отца, была связана с историей, с родиной, и она не покидала их никогда, и даже в тряской повозке придавала им то спокойствие, которое помогало смириться с временным отсутствием комфорта, потому что они знали, что в конце концов они, как всегда, доедут туда, куда им нужно. Я понимал, что еду не со случайными попутчиками. Я еду с периодом истории моей страны, эпохой, неотделимой частью которой был мой отец.
Осознавая всё это, я вежливо кивал смерти, мне казалось, я вижу покрытую крестами, застывшую от холода поверхность песка, и думал, что, только если мы умираем, не оставив по себе следа, мы исчезаем. Когда человек, подобно моему отцу, создавал историю, создавал эпоху, когда у него такие значительные знакомые, когда он построил дом в пустыне и ещё более внушительное сооружение из слов в залах датского суда, то он оставляет после себя полную жизнь, творение, великое деяние, и тогда то, что умирает, оказывается незначительным по сравнению с тем, что остаётся жить вечно, и в этом эйфорическом состоянии я чувствовал себя способным на всё, даже на то, чтобы вести вежливую беседу с матерью, и так мы и прибыли к дому, который, освещённый солнцем, казалось, ожидал нас для праздника, а не для прощания.
Отец встретил нас на террасе, и со мной он поздоровался в последнюю очередь. Он задержал мою руку в своей, и мы посмотрели друг другу в глаза, и мне стало ясно, что я достиг последнего в жизни форпоста, земли старости и окончательной ясности.
Он выписал с материка повара, и на закате мы ждали обеда в гостиной, выходящей окнами на море, мы сидели, а он стоял перед нами, как я сейчас стою перед вами, и тогда я впервые заметил в нём какое-то отсутствие серьёзности. Он показывал нам свои корабли. Сколько я его помню, он любил строить корабли в бутылках, чего я никогда, даже в самом детстве, не мог понять, и эти конструкции наполняли комнату. Для меня корабли в бутылках были и остаются кустарными поделками низших классов – какие-то диковинные, застывшие мыльные пузыри вокруг чего-то легкомысленного и фальшивого – и как такие деревенские развлечения могли занимать отца, мне было непонятно. Но прежде он не выставлял напоказ эти свои занятия, только в этом доме и на этом острове он позволял себе следовать своим причудам, здесь он, сам никогда не притрагивавшийся к спиртному, выливал несчётное количество бутылок вина «Барзак» на землю, потому что ему нравились прозрачные высокие бутылки. Но делал он это, не привлекая ничьего внимания.
Теперь он их всем демонстрировал, теперь он по очереди снимал их с подставок, заставляя проплывать перед нашими глазами какой-то нелепой вереницей. Не знаю, что чувствовали другие гости, но я в какой-то момент отвернулся, чтобы скрыть своё раздражение его беззаботной весёлостью, и тут он неожиданно оказался рядом со мной.
«Гектор, – сказал он, – я вижу, тебе всё это не очень нравится. И тем не менее я настаиваю на том, чтобы ты посмотрел на это судно».
Я посмотрел.
«Это яхта „Спрей”,– объяснил он, – на ней капитан Джошуа Слокам в одиночку обогнул мыс Горн».
«Я вижу, отец», – ответил я.
«Боюсь, – сказал он, – что ты так никогда и не смог понять этой страсти. А объяснить, однако, всё совсем нетрудно. Когда я был мальчишкой, я читал истории о мореплаваниях. Без всяких преувеличений могу сказать, что значительная часть моего детства и юности прошли в море, при этом я никогда не покидал берега. Но в жизни моей, как и у многих других, оказалось меньше бурь и штормов, чем мне бы хотелось. И для меня стало крайне важным научиться заключать свои тропические мечты в бутылки. Понимаешь ли ты это, сын?»
«Да, отец», – ответил я.
«И ещё есть нечто, – добавил он задумчиво, положив руку мне на плечо, – чего ты, вероятно, никогда не поймёшь. Что значит для человека, напрягающего всю свою тщательно сдерживаемую страсть, осторожно проводить такую большую надежду в такое узкое отверстие». И мы сели за стол.
О том обеде я могу сказать, что это была предпасхальная трапеза, день последней вечери, и, думаю, все мы понимали, что совершаем религиозный обряд. Обслуживал нас, должно быть, повар, но я его не замечал. От всего обеда я помню лишь, как иногда мелькала его белая форменная куртка и уверенные руки, и звучный голос, произносивший названия блюд, которые я тоже не помню. Что нам подавали – паштет из гусиной печёнки, седло барашка, экзотические фрукты – не помню, потому что всё было подчинено общению, всё наше внимание было сконцентрировано на том, что мы в последний раз впитывали в себя Игнатио Ланстада Раскера. Это был обед конькобежцев, мы невесомо скользили по тонкому, как бумага, слою прозрачного льда, и тот способ, которым мы утоляли голод, и та уверенность, с которой мы облекали опьянение в словесную форму, всё это вместе было рассчитано на обострение нашей восприимчивости к тому, кого ждала смерть.
Поднявшись с места, он сказал: «Пейте, чтобы освободить место для моих кораблей» и «Ешьте, потому что всё должно расти, разве мы перестали расти?» – и мы смеялись ему в ответ. Смех ослеплённых его светом и скрытой подо льдом печалью. Епископ произнёс речь, он встал, сам не зная почему, движимый лишь душевным волнением, и сказал, что мы сидим за пасхальным столом, последней вечерей, и даже это он сказал с удивительной весёлостью, которая как-то образовалась в продолжение заданного моим отцом тона. Потом мужчины воздали отцу должное, их преклонение перед ним было облечено в форму весёлых анекдотов, в которых они восхваляли его как мастера слова. Помню, что профессор рассказал, как у моего отца когда-то служил садовник, который был уволен за то, что в течение многих лет, извлекая выгоду для себя, продавал цветы и овощи из огорода и который тем не менее имел наглость попросить потом рекомендацию, и тогда отец доброжелательно взглянул на него и написал, что «об этом человеке я могу с уверенностью сказать, что он вынес из моего сада всё, что вообще могло быть вынесено». За этими внешне весёлыми историями скрывался глубокий смысл, все присутствующие восхищались отцом, который принимал их похвалы с терпеливой улыбкой, и я подумал, как хорошо и как важно время от времени встречать богоподобного человека, и сегодня ночью, мелькнула мысль, сегодня ночью никто не предаст моего отца и не откажется от него.
Тогда он поднял руку и оглядел всех нас. «Вы ошибаетесь, – сказал он, – вы все ошибаетесь, и я прошу уделить мне внимание, чтобы я мог объяснить, почему я попросил вас приехать, и боюсь, что сказанное мною приведёт к Umwertung aller Werte[16]16
переоценке всех ценностей (нем.).
[Закрыть] и что, когда я скажу то, что собираюсь сказать, великие среди нас станут малыми, а самые малые – великими», – и мы посмотрели на него, мужчины – сдержанные, но бледные, женщины со слезами на глазах.
«Я пригласил вас, – продолжал он, – потому что понял, что больше не могу так жить, что жизнь моя находится на грани окончательного распада. Сейчас, если можно так выразиться, у последней черты, я хочу вам кое-что рассказать, об одном деле, понимания которого я не прошу, прошу лишь вашего внимания».
Все мы смотрели на него, как смотрят на того, кого видят в последний раз, и я уже знал, что он скажет. Он расскажет нам о смертельной болезни, которую он носил в себе несколько лет, но которая теперь обострилась, что привело его к необходимости сообщить нам свою последнюю волю и попрощаться, и я размышлял о том, что это за болезнь, и решил, что это рак, резко ускорившееся развитие рака, не оставившее времени для разрушения, для постепенного угасания великого человека, стоящего перед нами. Вместо этого он, поражённый слепой несправедливостью, быстро и внезапно уменьшится и исчезнет на наших глазах, и больше его с нами не будет.
Но перед этим он хочет подвести итог, он хочет передать нам, и особенно мне, опыт своей жизни, естественно и гармонично, как естественна и гармонична окружающая нас местность, в очищенной и совершенной форме, словно сверкающие на закате кристаллики снега.
«Я попросил вас приехать, – продолжал он, – чтобы рассказать о рассмотрении Верховным судом дела против писателя Мортена Росса, дела, по которому – как вы, вероятно, знаете – три недели назад был вынесен приговор.
То, что это дело дошло до Верховного суда, что Министерство юстиции дало разрешение на рассмотрение в суде третьей инстанции, объясняется исключительно положением писателя в обществе и принципиальным характером дела. Возможно, вы помните, что молодой человек обвинялся в том, что он в своём романе «Рискованная затея» нарушил общественные приличия, и, кроме того, в том, что он – в том учебном заведении, где преподавал, – состоял в связи с мальчиком шестнадцати лет.
Городской суд, в том, что касается книги, осудил его с применением статьи 184 Уголовного кодекса, которая основывается на статуте о свободе печати 1799 года, а суд второй инстанции утвердил вынесенный приговор и увеличил наказание, и опирался суд на давнюю славную юридическую традицию. Позвольте напомнить вам о суде над Моисеем Левином за перевод «Дивана» с французского, суде над Густавом Йоханнесом Видом за роман «Молодые и старые», процессе против Германа Банга за «Безнадёжные поколения». А в культурах, которые в юридическом смысле близки к нам, – дело против Августа Стриндберга о богохульстве.
К тому же порочные отношения с учеником, отношения, на которые ученик хотя и соглашался и, очевидно, даже спровоцировал их, но за которые тем не менее, поскольку мальчику не исполнилось восемнадцати лет и его согласие поэтому не имело значения в правовом отношении, был вынесен приговор по статье 185 Уголовного кодекса 1866 года о противоестественных преступлениях.
Кроме этого, сначала было предъявлено обвинение согласно закону о клевете, поскольку считалось, что в романе содержатся нападки на устои общества и призывы к восстанию против государственного устройства, но это обвинение было впоследствии снято.
В результате Мортен Росс был осуждён на три года тяжёлых исправительных работ с конфискацией всего тиража книги и возложением на него судебных издержек.
В жизни у меня была возможность познакомиться со многими сторонами бытия. И тем не менее я содрогался, читая этот роман в те недели, которые предшествовали первому судебному заседанию. Я мог прочитать лишь несколько страниц зараз, мне постоянно приходилось откладывать книгу и задавать себе вопрос: что заставляет такого молодого человека описывать подробности чувственной любви с такой грубостью и с таким ненасытным вожделением?
Разумеется, встречаясь с обвиняемым, я стараюсь быть как можно более непредубеждённым. Но когда я впервые увидел этого человека, я уже понимал, что его надо сурово наказать.
Я знаю, что журналисты постарались, описывая бесстыдство Мортена Росса. Позвольте мне добавить, что в его случае даже органически свойственная прессе лживость оказалась недостаточной.
В Верховном суде он появился без адвоката, он сам хотел представлять своё дело, и, когда он впервые вошёл в зал заседаний, помахал публике, посмотрел в окно и улыбнулся нам, тринадцати судьям, мне вспомнилось дело Оскара Уайльда, но одновременно я осознавал, что даже пресловутое надменное тщеславие того повесы показалось бы вежливостью и утончённостью рядом с примитивной заносчивостью этого пролетария.
Ряды для публики были забиты любопытствующими, и государственный обвинитель нервничал. Я читал его мысли, я знал, он боится, что для общественности всё это дело превратится в нечто вроде венчания терновым венцом мученика за рабочее дело, и поэтому он и попросил слова.
«Достопочтенный Верховный суд, – произнёс государственный обвинитель, – закон об отправлении правосудия даёт право в особых случаях закрывать двери Верховного суда. Принимая во внимание сомнительный характер этого дела, я прошу, чтобы двери были закрыты по соображениям морали».
Я посмотрел на обвиняемого. Думаю, что я ждал от него возражений или какой-нибудь гримасы, но молодой человек поправил свой жёлтый пиджак, приветливо улыбнулся и наклонился вперёд.
«Государственный обвинитель, – спросил он дерзко, – боится за свою собственную мораль или за мораль публики?»
«Вы должны относиться к суду с уважением!» – заметил я.
Тут он впервые пристально посмотрел на меня, и от взгляда его глубоких голубых глаз во всём мире не осталось никого, кроме нас двоих.
«Нет, господин Председатель Верховного суда, я должен демонстрировать своё уважение к суду».
Только на мгновение его взгляд задержался на мне, потом я обернулся к государственному обвинителю и отклонил высказанное им предложение.
«Публичность акта судебной власти, – заявил я, – гарантирована конституцией, и только в отдельных исключительных случаях её следует ограничивать. То, что здесь произойдёт, должно происходить в обстановке полной гласности».
Лишь некоторым из вас случалось бывать в помещении Верховного суда в Бернсторфском дворце на улице Бредгаде, но могу сказать вам, что помещения эти невелики, а на втором заседании по делу «Государство против Мортена Росса» они стали казаться совсем тесными из-за набившихся в зал людей. Они стояли плотными рядами до самых судейских кресел, и все приставы были в напряжении.
Пока секретарь суда зачитывал приговор суда второй инстанции, я рассматривал обвиняемого. На этот раз на нём был ярко-синий пиджак с серым жилетом, на шее – красный шарф, и я подумал, что такова эта молодёжь: даже в те минуты, когда их судьба сбрасывает маску и улыбается им голым черепом, они всё равно сохраняют надежду и радуются, что улыбаются именно им. Или взять, к примеру, его книгу, думал я, это какая-то наивная смесь мгновений откровенной похоти и невинных воспоминаний. Потом он посмотрел на меня, и я понял, что эти голубые глаза видят так же далеко, как и мои, а именно сквозь стены суда и через всю Данию до самой тюрьмы в Хорсенсе, ворота которой закроются за ним и которая будет систематически ломать его сопротивление, превращая в карлика, и отпустит лишь когда он станет тенью того существа, которое сейчас, сидя напротив меня, слушает перечисление своих злодеяний. Теперь ему страшно, подумал я, и так и должно быть, суд может и должен внушать страх, и, когда до конца чтения приговора оставалось немного, мне стало казаться, что он потеряет самообладание, лишится дара речи и подтвердит всем известную истину о том, что обвиняемому следует появляться в суде с адвокатом, а не в одиночестве, что те, кто отказывается от адвоката, – самоубийцы.
Тут секретарь суда остановился и сообщил, что обвиняемому, писателю Мортену Россу предоставляется слово для повторного заявления, и тогда я понял, что недооценивал его. Он поднялся из своей задумчивости, словно из глубокого колодца, и, как будто его атомы куда-то разбрелись, а теперь вернулись домой и собрались вместе, выпрямился, светясь дерзостью.
«Достопочтенный Верховный суд, – начал он, – позвольте мне начать с того, что хотя, как все могли убедиться, противная сторона в этом процессе и не изобрела велосипед…»
Государственный обвинитель вскочил со стула, в зале поднялся ропот, и мне пришлось всех успокаивать.
«За это проявление неуважения к суду, – заявил я, – обвиняемый приговаривается к штрафу в двести крон. Если такое поведение повторится, он будет выпровожден из зала суда».
На мгновение Мортен Росс склонил голову, словно проглотил горькую пилюлю. Потом он поднял взгляд, серьёзно посмотрел на присутствующих и медленно и отчётливо продолжил:
«Достопочтенный Верховный суд, об уважаемой мною противной стороне, которая теперь имеет подтверждение Верховного суда о том, что она изобрела велосипед, я хочу сказать…» – и тут его слова потонули в шуме зала. Тогда мы решили отложить дальнейшее рассмотрение дела на следующий день.
Публику в тот день пришлось выпроваживать под её громкие возгласы неодобрения, и, возможно, по причине этого беспорядка обвиняемый забыл папку с бумагами. Во всяком случае, они обнаружились на его месте, когда приставы освобождали помещение, и их можно было бы убрать в шкаф, можно даже сказать, что их следовало бы убрать в какой-нибудь шкаф, но, поскольку я всё равно каждый день хожу пешком мимо площади Нюторв и тюрьмы, я решил сам передать их ему. Я считал, что с любым произведением писателя – пусть даже и такого безнравственного писателя – следует обращаться чрезвычайно аккуратно.
В Верховном суде не существует требования представления первичных доказательств, не вызываются свидетели, судьи видят обвиняемых только в тех редких случаях, когда те сами являются на процесс, и поэтому моё посещение тюрьмы не было обычным явлением, но вам не следует тем не менее осуждать того тюремщика, который пустил меня в камеру. Видите ли, куда бы ни шёл, я никогда не бываю сам по себе, даже когда я снимаю судейскую мантию, я не могу снять с себя авторитет суда. Именно поэтому членами Верховного суда становятся через кооптацию,[17]17
Пополнение состава выборного органа недостающими членами без проведения новых выборов.
[Закрыть] именно поэтому судьи не могут одновременно занимать другие должности или посты в правлениях. Мы не можем вне суда жить жизнью, отличной от жизни в суде, где бы мы ни находились, мы несём с собой juris immaculatio – безупречное правосудие, и я чувствовал, что имею право на то, чтобы слегка отклониться от своего пути и зайти в тюрьму.








