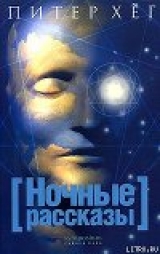
Текст книги "Ночные рассказы"
Автор книги: Питер Хёг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Портрет авангардиста
Октябрьским днём 1939 года художник Симон Беринг вместе со своей подругой Ниной стоял на палубе парохода, плывущего к острову Кристиансё. В день, когда они покинули порт Сванеке-хаун, Симону исполнилось двадцать восемь, и прошло уже шесть лет с тех пор, как его картины впервые заставили посетителей знаменитой художественной выставки сначала судорожно ловить ртом воздух, как бывает, когда выходишь на холод, потом прослезиться, словно на сильном ветру, а затем – и по сей день – платить деньги и укреплять тем самым его уверенность в будущем.
Картины Симона являли собой огромные полотна, по которым вереницей машин, лошадей, марширующих армий и всепожирающих лесных пожаров шествовало двадцатое столетие, и вызвали они настоящую бурю, которая с тех пор так и не улеглась и даже вынесла господина Беринга в Рейхспалату изобразительных искусств Германии, куда принимали лишь избранных и исключительно чистопородных иностранцев.
Десять лет назад, одной мартовской ночью, в состоянии близком к лихорадке Симон нарисовал первую из этих картин, которые представляли собой не замкнутые композиции, а распахивались, словно ворота, ведущие в будущее, – и в этот октябрьский день он чувствовал, что происходящее с ним сейчас есть непосредственный результат той далёкой ночи, что он, если можно так выразиться, на новом и более высоком витке повторяет тот первый прорыв к самому себе.
Более слабого человека внезапная слава сбила бы с ног, но только не Симона, принадлежавшего, по его собственному мнению, к поколению и к породе людей, отличающихся невиданной доселе стойкостью. На средства, что внезапно потекли к нему, он нанял непреклонного агента, поставив его между собой и публикой, и купил в центре Копенгагена дом – старое жёлтое здание с садом за высокой каменной оградой. Здесь он обрёл относительный покой в самом сердце тайфуна, здесь он мог работать, и сюда возникший вокруг его картин и его личности вихрь проникал в виде ласкового попутного ветерка поздравлений и животворного золотого дождя.
Он мог бы жить и работать в уединении. Он мог бы распорядиться вынести все свои картины из ворот дома и с безопасного расстояния наблюдать, как они взрываются, подобно шрапнели, в европейских столицах, но он не удовлетворился бы этим, поскольку вдобавок был ещё и оратором. Он чувствовал непреодолимую потребность подтверждать истинность своих картин словами, поскольку слово – это тоже своего рода кисть, и в своих мечтах, вооружившись этой кистью, Симон стоял перед публикой, слушая, как бурлит толпа, созерцая перед собой неокрепшие души, словно чистый холст, добивался электрического контакта и внимания и, наклонившись вперёд, накладывал свою собственную огненно-красную краску на бесцветные лица, взывающие к нему словно неисписанные листы. Вот почему те же огромные локомотивы, что с грохотом проносились через его картины, вскоре стали возить его, молодого пророка нового времени и новой истины, по всей Европе. Вначале он появлялся перед ценителями искусства, но постепенно начал выступать и на политических собраниях, а 2 августа 1934 года в Берлине он убеждал своих слушателей, что молодое европейское искусство поддерживает нового фюрера и рейхсканцлера Германии, и заявил, что существует только один Бог, и Бог этот – прогресс. К нему прислушивались из-за его славы, ему позволяли сказать больше, чем другим, из-за его молодости, и, таким образом, ему удалось в доступном и сжатом виде высказать идеи, которые в то время ещё не были ни чётко сформулированы, ни распространены. В речах Симона ощущалась та же свежая искренняя сила, что и в Берлине в 1936 году – на одновременном открытии Олимпийских игр и выставки искусств – когда он поднял своё бледное мужественное лицо к собравшейся публике, посмотрел на море людей и решительно, прямо сказал в микрофон, что в предчувствии великой войны, которой все мы с таким нетерпением ждём, нам следует вооружиться искусством, способным доходить до самых глубин души, и искусством этим может стать только живопись. Книги и музыка существуют для людей, больных сомнением; война и грядущие события повелевают нам созерцать и маршировать, а не гнить в концертных и читальных залах.
Нина пришла к нему так же просто, как и его слава или идея картины. Он дал объявление о том, что ищет экономку, поскольку сам не справлялся с хозяйством, и в один прекрасный день она появилась в его доме, и оказалась моложе его, и голос её был спокоен, когда она заверяла его, что поставленная задача вполне ей по силам. Говорила она на незнакомом ему диалекте, но в соответствии со своими теориями о том, что прошлое не имеет никакого значения, он ни о чём её не расспрашивал. Однажды, к своему удивлению, он обнаружил, что её присутствие в доме ему приятно. Потом он начал скучать по ней в своих поездках. И наконец он стал бояться уезжать от неё.
В один прекрасный день они оказались вдвоём в залитой солнцем комнате. Свет растворил черты девушки в золотом тумане, сконденсировав её фигурку в тёмный силуэт. Застыв на месте в неопределённом ожидании, Симон попытался проделать упражнение, к которому прибегал, когда перед чистым холстом его вдруг охватывало сомнение. Закрыв глаза, он опустошил свою память, а затем, медленно открывая их вновь, представил себе, что мир до этого момента не существовал, а словно картина создаётся в то мгновение, когда он снова видит его. И на сей раз этот метод подействовал. Прищурившись от света, он увидел, что рядом с девушкой стоит другая фигура, и, напрягая свои творческие способности, смог разглядеть, что это он сам.
Потом он поцеловал её.
В соответствии со своим убеждением, что все старые ритуалы смешны, Симон даже и не помышлял о браке, а в глубине души он был горд тем, что никогда не высказывал свои чувства иначе, кроме как в виде небрежных замечаний. Он уже давно поведал своей публике, что истинная сущность любви состоит в отсутствии каких-либо обязательств, и у него было приятное ощущение, что он тем самым оказался в хорошей исторической компании с целым рядом художественных движений, которые с середины девятнадцатого столетия особо подчёркивали свой авангардизм, пропагандируя свободную любовь.
Поэтому в отношениях с Ниной он, естественно, настаивал на дистанции, которая должна существовать между современными людьми. Он по-прежнему много путешествовал и ещё больше работал, и дистанция сохранялась сама собой, поэтому они прожили вместе уже год, прежде чем он узнал, что родилась она на острове Кристиансё, который на карте Дании находится почти на самом краю света. Тогда же она сообщила ему, что беременна.
К тому времени Симон как раз решил устроить себе передышку, чтобы вновь обрести спокойствие, растраченное им за последние шесть лет. Он уведомил мир о своём решении на дружеской вечеринке, устроенной им в ресторане «A Porta» в центре Копенгагена, куда приглашены были молодые предприниматели, политики, художники и офицеры, которые демонстрировали своё презрение к прошлому, разбивая о стены бокалы из-под шампанского, запуская пальцы в чёрную икру и в закуску, задирая официантов и затевая драки друг с другом. Успокоились они совсем ненадолго, в тот момент, когда Симон начал произносить речь, но тут уж в огромном зале воцарилось гробовое молчание.
– Существует, – сказал Симон, – три ступени на пути к достижению полной власти над жизнью.
Первая ведёт из детской. С самого рождения мир склоняется над нами в облике женщины: матери, кормилицы, служанки и гувернантки стремятся преградить нам путь к жизни. Условием достижения свободы поэтому является способность сказать: со своей собственной личностью я делаю то, что мне заблагорассудится. К осознанию этого мы и пытаемся привести массы. Невозможно маршировать, если ты всё ещё лежишь в колыбели. Из детской невозможно увидеть необходимость войны.
Есть следующая ступень, и на ней стоят политик и солдат (тут Симон посмотрел на присутствующих политиков и солдат), – она достигается, когда мы своим воодушевлением можем заразить других, а затем повести их в правильном направлении, когда мы властвуем над жизнью и смертью, когда мы можем делать с другими людьми то, что нам заблагорассудится.
И есть третья ступень. Я сам отдал миру шесть лет своей жизни. Я отринул все сомнения, смешал свет и тьму, я принял участие в подъёме тех вод, которые теперь захлёстывают Европу. Я дал миру искусство, подобное удару в лицо.
Здесь Симон сделал паузу, во время которой он посмотрел на каждого из присутствующих, убеждаясь, что его слова доходят до них как мгновенное отрезвление и что уже более не понять, кто они – его гости или его жертвы.
– Теперь, – продолжал он, – мир привык к этим ударам. Если я сейчас на минуту остановлюсь, он приползёт ко мне и схватит меня за горло, одновременно прося о побоях. Поэтому я решил, что в этот седьмой год я буду отдыхать, и я принял это решение, чтобы показать, что с миром я могу делать то, что мне заблагорассудится.
Три недели спустя Симон и Нина отплыли из Сванеке-хауна. Это был первый день зимы, с юга дул ветер, холодный, словно из ледяной пустыни. Город Сванеке стоит на скалах, которые резко обрываются к гавани, и котловина эта, наполнившись морозным туманом, вплёскивала его на причал, на белый почтовый пароход и на провожавших Симона журналистов, вызывая у всех неотвязные мысли о смерти. Они приехали сюда по поручению своих газет и читателей, чтобы сделать репортаж об отъезде Симона и о дне его рождения, но сейчас всё это как-то понемногу забылось. Все чувствовали, что выдохлись, устали и могут думать только о войне в Европе. Некоторые из них ожидали, что по возвращении их без объяснений уволят или в спешном порядке отправят в отдалённые районы боевых действий, и все они боялись будущего, всех мучил один простой вопрос: что будет дальше? – и в это утро на причале им всем вдруг показалось, что этот бледный знаменитый агитатор может дать им ответ. Но Симон лишь отмахнулся от них, а журналиста, решившего было последовать за ним по трапу, грубо отпихнул. «Они посланы той жизнью, от которой я сейчас уезжаю, – думал он, – посланы, чтобы продлить моё с ней расставание, и не понимают, что для меня, человека новой эпохи, расставание с прошлым – это удовольствие». Он повернулся к ним спиной.
Судно медленно выходило из гавани, а журналисты всё брели за ним по причалу, словно потерявшиеся дети.
Город понемногу растворялся за кормой, волны вокруг были тяжёлыми и угрюмыми и цветом напоминали остывающее олово. Симон закрыл глаза и освободил свою память. Только сейчас возникает мир, подумал он. И он ощутил солнечный свет и тепло на своих веках, словно судно попало вдруг в другое время года. Если бы ему сказали, что после особенно жаркого лета море вокруг Борнхольма очень долго не остывает, отодвигая против всех законов природы зиму, он вряд ли бы поверил в это – он чувствовал себя всемогущим, и, медленно открывая глаза, он сам создавал погоду и свои руки на поручнях, и силуэт Нины на палубе, и – с триумфом осознавая свой пол как кисть творца – ребёнка у неё в животе, и, наконец, – синее море под солнцем и два маленьких островка на горизонте: Кристиансё и ещё меньший – Фредериксё, и напоминающий тонкую чёрную нить мост между ними.
Он увидел, что Нина стоит, закрыв глаза.
– Ты грезишь, – сказал Симон. – Таков мир: женщины грезят, а мужчины действуют.
Нина насторожённо посмотрела на него.
– А тебе никогда не случается грезить? – спросила она.
Симон мысленно вернулся к своим картинам.
– Даже мои грёзы – это действия, – сказал он, почувствовав, что ему следовало бы развить это удачное сравнение, и взглянул на остальных пассажиров, оценивая, подходящее ли это место для импровизированного выступления.
И тут вдруг Нина оказалась совсем близко от него, и когда она заговорила, то стала такой серьёзной, какой он никогда прежде её не видел.
– Когда мы учились в школе на острове Фредериксё, – сказала она тихо, – нам рассказывали о снах Бьярке. Во время битвы в Лайре Бьярке спал, а вместо него дрался ужасный медведь. Бьярке пытались разбудить, но он сказал: «Не мешайте моим грёзам». И всё-таки его заставили встать в строй со всеми, и тогда медведь исчез. Медведь был сном Бьярке.
Не веря своим ушам, Симон почувствовал, что Нина о чём-то предостерегает его, но смысл предостережения от него ускользает.
– Грёзы женщин, – сказал он спокойно, – не медведи.
На этом он хотел закончить разговор, но в сознании осталось какое-то раздражение, как будто ему что-то предсказали, а что именно – он не понял.
Когда они пробыли на острове два дня, Симон признался себе, что все окружающее ему решительно чуждо и что Нина приехала домой.
Он всегда представлял себя – и часто изображал – неким огненным явлением природы, никогда не прекращающимся извержением вулкана, которое зажигает всё вокруг, само не поддаваясь при этом внешнему воздействию. Он привык воспринимать себя как личность, обращающуюся к человечеству, которое, со своей стороны, молчит и внемлет. Теперь, впервые за долгое, очень долгое время, он столкнулся с тем, что его не узнают на улице и что на этом маленьком острове, который можно обойти за час, вообще нет улиц, на которых его могли бы узнать, а есть лишь тропинки. На этих тропинках они встречали людей, помнящих Нину. Они внимательно здоровались с ним, справлялись о его здоровье, даже не представляя себе, что перед ними всемирно известный художник и великий философ, а затем говорили с Ниной и о Нине. Оказавшись в непривычной для себя роли слушателя истории, в которой главным действующим лицом был не он, а кто-то другой, в роли наблюдателя будничной жизни, где он был желанным, но никому не известным гостем, Симон обратил внимание на то, что у окружающих его людей что-то не в порядке со зрением. В их жизни, как он заметил, отсутствовал перспективный взгляд. Мужчины были рыбаками, и они иногда смотрели на море, а иногда – на небо, но чаще всего на те снасти, которыми были заняты их руки. Женщины, как правило, смотрели в кастрюли и иногда поднимали глаза на висящие на стенах вышивки с религиозными сюжетами, поглядывали на детей, но никто, как заметил Симон, ни мужчины, ни женщины, никогда не смотрел прямо вперёд; горизонт, думал он, приблизился к этим людям со всех сторон, и поэтому они не видят дальше собственного носа, они бредут по своему пути такими мелкими шажками, что далеко им в жизни не уйти. Он чувствовал себя очень одиноким, и в своём одиночестве поймал себя на мысли, что ему не хватает обращённых к нему лиц слушателей, и своего портрета в газете, и спонтанных дискуссий на вернисажах, и ему пришло в голову, что, возможно, очень даже возможно, он всё-таки что-то получал от своей публики.
Нина же, напротив, как он видел, вернулась домой. Как только они сошли на берег, с ней произошло превращение и она сразу обрела связь с островом. Одежду, которую он привёз ей с Курфюрстендам, она не надевала, а вместо этого ходила в синем платье, которого он никогда прежде не видел и которое вместе с повязанным на голове платком делало её похожей на любую другую женщину острова. Казалось, что она помнит всех, кто им встречался, и все помнят её. Шаги её стали мелкими, а походка – более плавной, когда она водила Симона по острову, показывая ему места, где играла в детстве. И подолгу, закрыв глаза, она сидела без движения на нагретых солнцем гранитных валунах, пока Симон беспокойно мерил шагами своё узилище.
Утром на второй день он сообщил ей, что это их последний день на острове. Он видел, что её это огорчило, но она смиренно склонила голову, и ничего другого он и не ожидал. Симон уже давно не мог представить себе, что кто-нибудь всерьёз может ему возражать.
В тот день после обеда она попросила его прогуляться с ней. Он чувствовал, что она хочет что-то ему сказать, но они молча шли вдоль берега. У моста, ведущего на Фредериксё, они сели на скамейку. По другую сторону узкого пролива, разделяющего два острова, росло высокое дерево. На дереве, отвернувшись от Симона и Нины, сидели два орла-рыболова, взрослый и птенец.
– Это самец, на дереве, – сказала Нина, и показала самку – далёкую, медленно кружащую точку в небе.
– Эта пара орлов, – объяснила она, – была здесь всегда. Мой дед рассказывал, что, когда он был ребёнком, один приезжий охотник поймал одного из птенцов в ловушку. Дед говорил, что, когда западня захлопнулась, взрослых птиц рядом и в помине не было. Но в то мгновение, когда охотник наклонился над птенцом, чтобы свернуть ему шею, не повредив при этом оперенья, обе они камнем упали с неба. Убегая, он стрелял в них, но кровь заливала ему глаза и он промахнулся. В результате оба взрослых орла потеряли слух, – Она помолчала минуту и задумалась.
– Дед, – сказала она, – выпустил птенца. Взрослые птицы запомнили его и никогда не причиняли ему вреда.
Симон наблюдал за ней со стороны. В этот день она не надела туфли, и, глядя, как она сидит рядом с ним, спрятав ноги в траве, невозможно было сказать, где кончается остров и начинается девушка. При других обстоятельствах Симон заинтересовался бы историей об орле, царе птиц, которого он считал здоровым и подходящим символом будущей Европы. Но в этот момент он почувствовал, что в Нининой истории есть какой-то скрытый от него смысл.
– Это не могут быть те же самые птицы, – сказал он. – Орлы не живут сто лет, – и совершенно неожиданно громко и резко свистнул. На дереве птенец медленно повернул голову, наклонил её и взглянул на Симона. Но взрослый орёл по-прежнему смотрел в небо, как будто ничего не слышал.
Некоторое время они сидели в молчании.
– Время, – сказала Нина в конце концов, – здесь другое, не такое, как в Копенгагене. Ты сам много путешествовал, и большинство тех, кто живёт в столице, объездили всю Данию. Может быть, за исключением, – добавила она, – самых отдалённых мест, таких как это. Но из живущих здесь мало кто бывал в Копенгагене.
Знаешь, – продолжала она, кивнув в сторону лежащего перед ними второго острова, – есть люди, которые всю свою жизнь живут там и никогда так и не перейдут по мосту на эту сторону.
Моя бабушка, – добавила она задумчиво, – никогда не бывала здесь на Кристиансё, и однажды, когда её спросили, почему, она лишь ответила: «Что мне там делать?»
В то же мгновение, словно в подтверждение Нининых слов, от тенистого дерева отделилась фигура молодой девушки в длинном зелёном платье и медленно направилась к ветряной мельнице. Симон встал и ухватился за поручни моста. «Именно с этим, – подумал он возмущённо, – мы и боремся, именно эта косность и стоит на пути нового времени».
Он закрыл глаза и медленно открыл их снова, и ему в голову пришла мысль. «Я, – подумал он, – повешу над этим мостом огромный холст, и на нём я нарисую им картину, подобной которой никто никогда не видел, картину истории человечества, изображающую неистовство стремлений, картину с шипением пара, глухим стуком поршней и выстрелами винтовок, и, наконец, с проблесками всепожирающего белого пламени далеко впереди, картину, которая будет протягивать руки и хватать публику за горло. А публикой будет эта девушка в зелёном и неподвижные мужчины и женщины, и картина эта изменит их жизнь, она перенесёт их в будущее и впрыснет такое вещество в их жилы, что они захотят уехать, уехать далеко, они потекут через этот мост и дальше, прочь отсюда. И это станет вершиной моего творчества – произведение искусства, которое опустошило остров».
Охваченный лихорадочным восторгом от своей идеи, он сделал шаг назад, словно перед холстом, и мысленным взором начал с воодушевлением создавать эту картину, глубоко убеждённый, что он одновременно является создателем всего земного и состоит на службе высшему делу.
В следующий миг он ощутил во Вселенной какое-то сопротивление и понял, что Нина поднялась и стоит прямо перед ним. Она очень внимательно посмотрела на него и спросила:
– Да неужели!
Сначала от удивления Симон замер. Он знал, что не произнёс ни слова, и тем не менее женщина обращалась к нему, словно она была частью мира его мыслей. Потом он наклонился, так что глаза его оказались на одном уровне с её глазами, и тихим спокойным голосом ответил:
– А почему бы и нет?
На мгновение Нина как будто отпрянула. Потом она выпрямилась, сконцентрировав всё своё существо в какой-то одной ей ведомой точке.
– Мы могли бы, – сказала она, – это проверить.
Безграничный внезапный гнев, словно горячая кровь, наполнил рот Симона, так что он не смог выговорить ни слова, но, не задумываясь ни на секунду, с готовностью кивнул.
– Только не забудь, – продолжала Нина, голос её теперь упал до шёпота, и она прислонила свой большой живот к Симону, отчего ему показалось, что двойное биение сердец, её и ребёнка, толкают его назад, – не забудь сказать, когда почувствуешь, что с тебя хватит.
Она отошла от него, и всё в жизни встало на место. Под жёлтым солнцем в ярко-синем обрамлении моря сверкал красный гранит, в воздухе стоял запах водорослей и трав, а на тёмно-зелёных кустах висели крупные матово-чёрные ягоды ежевики. Симон покачал головой, недоумевая, а действительно ли был этот разговор и может ли вообще случиться такое, чтобы его Нина бросила ему вызов.
– Всё это нам снится, – сказал он и пошёл назад к гостинице.
Но он не взял Нину под руку. Он осознал, что по совершенно непонятным ему причинам между ними теперь идёт какая-то борьба, в которой ему прежде никогда не приходилось участвовать и для которой у него ещё не было слов.
В ту ночь Симон спал тяжело и беспокойно. Ему снилось, что на груди у него сидит медведь, и когда он заворочался, оттого что не мог вздохнуть, то проснулся. По просьбе Нины они ночевали в одной из маленьких рыбацких хижин поблизости от гостиницы. В доме была всего одна комната с одним окном, и через это окно сквозил лунный свет, задевая на своём пути свисавшие плети водорослей, которыми была покрыта крыша, и тени от них ложились на пол, словно кривые прутья тюремной решётки. Чувствуя беспокойство, Симон выбрался из постели, ступил на холодный пол и подошёл к окну. Полная луна следила за ним из Вселенной с безучастным вниманием карточного игрока. Мир чего-то ждёт от меня, подумал он, и в следующее мгновение понял, чего именно: впервые и совершенно внезапно он всерьёз осознал, что женщина, которая лежит за его спиной, родит его ребёнка, и мысль эта заставила его оцепенеть от ужаса.
До этого мгновения Симон – настолько, насколько он вообще задумывался об этом, – воспринимал своего будущего ребёнка как ещё одно произведение искусства, как меткое слово, вовремя брошенное в толпу, как нечто похожее на то вдохновение, которое он испытал однажды мартовской ночью десять лет назад, когда нарисовал свою первую картину. Теперь, глядя на женщину в постели, он совершенно ясно понял, что появление этого ребёнка создаст некую надпись во Вселенной, которую нельзя будет закрасить как холст, или забыть, или признать неудачей. Издалека, из лона женщины, первая ступень развития человека звала его, чтобы привлечь к ответственности, и под этим бременем Симон содрогнулся, как от удара.
Но это длилось недолго. Он стряхнул с себя наваждение и стал одеваться. Пошатываясь словно пьяный, он натыкался на мебель, но Нина в постели спала так, как если бы всё её существо сосредоточилось на сне. В дверях он задержался на мгновение и ещё раз бросил на неё взгляд. «Женщин, – подумал он, – ничем не разбудишь».
Вокруг него стояла ночь, тёплая и совершенно тихая, и в лунном свете тёмные камни блестели, словно остров был на самом деле большой чёрной жемчужиной.
Теперь Симон чувствовал, как счастье наполняет его, он вновь был полон сил и бодро шёл, не думая куда, и когда он оказался перед мостом, ведущим на Фредериксё, то понял, что окружающий мир меняется в соответствии с его желаниями и что ночь даст ему ответ.
Какая-то женщина приближалась к нему с той стороны моста. Симону показалось, что он узнает хрупкую фигурку девушки, которую видел днём по пути к ветряной мельнице. Она шла медленно, но целеустремлённо, и, когда она подошла поближе, он, в лунном свете, в котором в ту ночь не было недостатка, узнал её зелёное платье. В руках у неё были чемодан и сумка, и, оказавшись перед Симоном, она поставила их на землю и пристально посмотрела на него.
Даже Симон, даже великий Симон Беринг, призывавший нации к незамедлительным действиям, робел перед женщинами. Но в эту ночь он ощущал, что состоит из своих самых лучших чувств, и он схватил руку девушки и поцеловал, впервые в жизни совершив такой поступок. Рука её была холодной. Она внимательно посмотрела на него, и, когда она наклонила голову и улыбнулась, Симон почувствовал головокружительное узнавание, словно он не раз встречался с ней прежде, и, когда она проследовала мимо, направляясь к берегу, он сразу же понял, что она впервые перешла через мост, что она уезжает с острова и что именно его присутствие должно было навести её на мысли об отъезде. «Сейчас она сядет в рыбачий баркас, чтобы успеть на утренний пароход в Копенгаген, – подумал он, – и в каком-нибудь доме на Зеландии её ждёт место служанки», – он чувствовал, что всё это знает наверняка, как будто ему открыт мир её мыслей, при том, что она не вымолвила ни слова.
Он не стал сразу же возвращаться назад, но вместо этого нашёл тропинку, которая могла повести его другим путём, и, пока он шёл, уверенность, которую он чувствовал мгновение назад, начала покидать его.
Год назад Симон получал высшую художественную премию от городских властей Берлина. По этому случаю был написан его портрет, и на портрете полагалось написать его девиз. Вопрос этот был поднят самим рейхсканцлером, и, помедлив с ответом, Симон спросил себя, а почему же у него нет никакого девиза, и пришёл к выводу, что его предназначение в жизни было таким само собой разумеющимся, что у него не было никакой потребности поддерживать его при помощи подобного словесного костыля. Придя к такому выводу, он посмотрел в глаза фюреру и громко сказал: «Мой девиз „Ohne Zweifel!”»,[29]29
Без сомнения (нем.).
[Закрыть] и маленький человечек, стоявший перед ним, кивнул и, ещё раз оглядев его, произнёс: «Хороший девиз для художника!»
В эту ночь сомнения всё-таки охватили Симона. Удаляясь от моста, он снова испытал то же кислородное голодание, от которого проснулся. Вселенная вокруг него была бесконечна, и тем не менее ему было тесно, не хватало Lebensraum.[30]30
жизненного пространства (нем.).
[Закрыть] Впервые за долгое время он почувствовал страх, ощутив поджидавшую его в темноте неизвестность, и почувствовал, что самому ему не найти ответы на загадку, перед которой он оказался, но что он должен получить их извне. Он чувствовал, что чёрные и одновременно блестящие поверхности гранита вытягивают из него силу, так что он стал обходить их, он смотрел на звёзды и вспоминал о том, что же тогда говорил ему рейхсканцлер о его созвездии. Симон сконцентрировал всё своё внимание на небосводе, надеясь получить ответ оттуда, пока не осознал, что всё это время он бредёт словно пьяный и что он совершенно потерял чувство собственного достоинства.
Тут он снова ощутил приступ ярости, и, ступив на большой плоский камень, он представил себе, что оказался на ринге. У него не осталось никаких сомнений, что в эту ночь он прикоснулся к силе, с которой прежде не сталкивался и которая то придавала ему уверенности в себе, то лишала её. Но теперь он будет противостоять этой силе, и, ссутулившись, он стал перемещаться по камню как по рингу.
Камень был таким гладким, что на нём была видна не только тень Симона, но и размытое отражение луны. Симон закрыл глаза и медленно открыл их, чтобы увидеть ответ на вопрос о своём будущем, и белый лик под его ногами превратился в лицо девушки, встретившейся ему у моста, и тогда он понял, что тоскует по ней, по ней и по своей свободе так мучительно, что не существует этому никаких преград, и он побежал назад к гавани.
В море, как ему показалось, виднелся белый парус, он удалялся от острова, но Симон не пал духом – теперь, когда он принял решение, ничто уже более не могло помешать ему. Сбегая по ступенькам к причалу, он заметил лодку. Она, под одним лишь небольшим фоком, скользила по направлению от Фредериксё к выходу из гавани, и Симон громко рассмеялся: он не сомневался в том, что судёнышко окажется именно здесь, он замахал ему, лодка повернула к причалу, и он прыгнул на борт. «На Борнхольм», – засмеявшись, сказал он, залезая в карман куртки и протягивая несколько купюр человеку, сидящему на корме. Лодка, качнувшись, направилась из гавани, и Симон подумал, что и деньги могут служить палитрой и кистью.
В лодке находился всего один человек, и Симон в темноте предположил, что он явно не молод. Он сидел, положив руку на румпель и обернув ноги пледом, и было непонятно, где кончается судно, а где начинается человек. Выйдя из гавани, он поднял грот, и судно дёрнулось и понеслось вперёд, словно птица по гладкому морю под высоким звёздным небом. Симон одновременно подумал об оставшейся позади женщине и о женщине впереди, ему казалось, что он натягивает между ними серебряную нить, по которой и следует судно, и он почувствовал, что настало время произнести речь.
– Как моряк, – обратился он к рыбаку, – ты наверняка согласишься со мной, что для того, кто повидал мир, три радости превосходят все остальные. И первая из них – это радость отъезда, ощущение, что на свободного человека, как и на птицу, не распространяется закон всемирного тяготения.
Вторая – это радость прибытия, знание, что ты можешь отправиться куда заблагорассудится и сказать: сейчас – и, может быть, только сейчас – моё место там, где я преклоняю главу.
Здесь он на мгновение прервался и подумал: «Какая жалость, что у меня есть только этот единственный слушатель-простолюдин, а не настоящая публика, и нет никого, кто мог бы сделать стенограмму». Но тут он почувствовал, что слова его взмывают над его головой к мерцающим звёздам, и, встав во весь рост, он ухватился за мачту, подождал, пока тело его обретёт равновесие, и взмахнул рукой.
– Третья, и наибольшая, радость, – громко сказал он, – возможность запечатлеть свой след там, куда ты пришёл, чувство, что ты можешь, если заблагорассудится, оставить в мире по себе такой след, что тебя никогда больше не забудут – ни люди, ни места.
Некоторое время он стоял, закрыв глаза. Рыбак молчал, но молчание не смущало Симона, который уже много лет назад научился и без всяких аплодисментов поздравлять себя с великолепным сольным выступлением. Однако у него промелькнула мысль о том, что старик, возможно, туг на ухо. «Но в этом случае, – сказал он самому себе, усмехнувшись, – он ничем не отличается от обычной публики».








