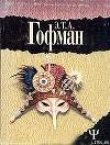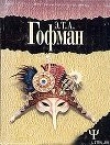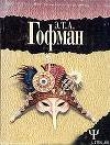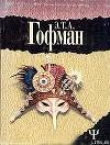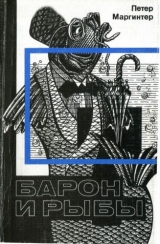
Текст книги "Барон и рыбы"
Автор книги: Петер Маргинтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Но Симон почти не слушал. Он завороженно смотрел поверх пушки на луну, потом высвободил руку и прислонился к стене, не замечая, что почти утонул в мерцающем плюще.
– Я так странно себя чувствую, – глухо произнес он. – Наверное, переел. Мне еще в детстве бывало нехорошо от клубники. О!
– Симон?
– Я вижу все, все!
То место, где светилось, как маска, бледное лицо Симона на фоне темных листьев, вдруг опустело.
– Симон, где ты? – беспомощно спросила Теано. Потом, громко вскрикнув, кинулась в шелестящую чащу листьев, в отчаянии начала ощупывать узловатые ветви, трясти их и пыталась оторвать от стены. За эти мгновения она пережила весь ужас, что выпадает на долю женщины, когда ее возлюбленный испаряется без всякого предупреждения и прощания. Наконец она нащупала плечо, жилетные пуговицы и нос, вырвала Симона из объятий плюща и прислонила к пушечному лафету.
Симон был в полном замешательстве. Он не мог описать Теано, что с ним только что стряслось. Луна, на которую он глядел, внезапно распалась на множество серебряных колец, как кружок луковицы. Кольца раскатились по всему небу, танцуя и множась до тех пор, пока блестящая пульсирующая паутина не окутала Симона. Паутина переливалась всеми цветами, волновалась, будто в ней кто-то бился, сыпались искры, солнца сжимались в пылающие, бешено вращающиеся шары. А потом весь этот круговорот опрокинулся за горизонт, то, что было внизу, стало верхом, звезды – внизу, земля – наверху, луна – посередине: селеноцентрический мир {151} в обратной перспективе. И Симон тоже закружился. Все черно, диск, свернутая бесконечность со сверкающим пупом луны, а Симон – игла безумного граммофона, из трубы которого рвется поток образов и звуков: стада мамонтов, трескающиеся ледники, дымящиеся вулканы, Цезарь у Рубикона и Лунный человек – а он-то откуда? разве не вокруг него все крутится? – из последних сил переваливающийся через край какого-то кратера, раздающие благословения папы и бодисатвы {152} , отец, перебравший на празднике по случаю окончания школы, пляшущие на лугу крестьяне, канонада при Вальми {153} и стая волков, гонящаяся по тундре за санями, – и наконец Симон собственной персоной: в начальной школе, усердно пишущий сочинение, а все пальцы – в чернилах, в Управлении Лотерей, у вдовы Швайнбарт. И он знал, что может задержаться в любом моменте, любой секунде своей почти тридцатилетней жизни и видел с высоты этого, такого короткого и такого длинного отрезка, как корни и крона всевременного древа становятся бесчисленными возможными вариантами в глубочайших безднах будущего и прошлого. А потом все это смешалось, когда Теано схватила его за плечо и вытащила из плюща на террасе замка Монройя у старой бронзовой пушки, целящей в небо.
– Что с тобой, Симон? – испуганно спросила Теано.
– О Теано, что я тебе покажу! – в упоении вскричал Симон, обнял ее и оттолкнулся от террасы. Они стремительно поднимались. Замок остался далеко внизу. Искрами светились два окна.
– Это комната твоей тетки, а под ней – библиотека.
И они уже парят у окна библиотеки, за ним возле огромного, заваленного бумагами стола сидят Гиацинт ле Корфек, Томас О'Найн и Максим Фанфус, барон фон Тульпенберг, листая толстые фолианты и делая заметки в записных книжках. Потом они поднялись на головокружительную высоту, увидели горы, море. Далеко на востоке небо светлело. Они полетели навстречу солнцу, пересекли сапог Италии, Грецию с ее бесчисленными островами и увидели, как загорелись в свете зари барханы аравийской пустыни.
Когда они вновь оказались на террасе и Симон разжал объятия, молодая женщина лишилась чувств. Симон отнес Теано в ее комнату. Осторожно, словно стеклянную, положил на кровать и провел рукой по ее глазам. Потом задул ночник.
– Симон, Симон… – прошептала она.
– Что, Теано?
Симона окружало бело-золотое сияние. Теано закрыла глаза руками. Симон ласково ей улыбнулся и вышел твердыми шагами.
На лестнице Симону повстречался вырезыватель силуэтов, несший три лазурно-голубые ночные вазы в комнаты своих хозяев на манер официанта, тащущего пивные кружки. Мсье Дун вскрикнул, выронил свою хрупкую ношу и прижался к стене.
– Монсеньор! – прохрипел он.
– Как вы узнали меня? – строго спросил Симон. – Вы уже в Вене вели себя крайне странно.
Вырезыватель силуэтов не отвечал. На четвереньках он сползал задом наперед по ступенькам.
– Как вы узнали меня, Дун? – Симон схватил вырезывателя за шиворот и поставил на ноги.
– Я художник, монсеньор, – задыхаясь, произнес вырезыватель силуэтов. – Художники – друзья богов. Монсеньор – не первый, кому представилось быть разоблаченным мной. Я бежал от них. Человеку, привыкшему иметь дело всего лишь с черной бумагой, такие разоблачения не по плечу. Умоляю вас, монсеньор, я больше не могу смотреть на монсеньора – глазам больно!
– Мне очень жаль, Дун. Подметите черепки. И со следующего месяца оставьте службу, вы, Микеланджело благодатной тьмы! Что вам до богов?
– Никто не принимает меня всерьез, никто не верит в мое искусство, да и разучился я ему…
Быстрым движением Симон сдернул с носа вырезывателя потешные граненые очки и швырнул их на пол. По лестнице разлетелся дождь осколков.
– Вы – просто жалкий честолюбец, – констатировал он сухо. – Лишь комедианты могут претендовать на аплодисменты. Куда придет мир, если художники будут работать, только если их произведения станут покупать? Вы – величайший из вырезывателей силуэтов всех времен, и можете хоть с голоду помирать!
– Благодарю, монсеньор, благодарю! – проскулил вырезыватель. – Никто еще не говорил мне этого!
– Подозреваю… – Симон не окончил фразы. Он подозревал, что боги вырезывателя силуэтов были парнями непроходимо серыми, но это – не для человеческих ушей.
– Не столь уж многим выпадала честь узнать бога. Задумайтесь хотя бы над этим, Дун!
– Я исполню все, что угодно монсеньору!
– Тогда избавьте меня от дурацкого титула! Я – д-р Симон Айбель из Вены, ясно? Отправляйтесь за запасными горшками, а то ваши хозяева всякое терпение потеряют! И дайте мне пройти: я шел в сад.
***
Когда Симон вошел в комнату и, приветливо поздоровавшись, сел за стол, завтракала одна г-жа Сампротти, смотревшая на него пронзительно, но несколько неуверенно.
– Моя бедная племянница совершенно не в себе, г-н доктор, – начала она с мягким укором. – Девочка совершенно не готова к подобным экскурсиям! Если в ближайшее время вам потребуется спутница, то я к вашим услугам. Я пыталась ей внушить, что все – просто сон, но боюсь, она мне не поверила. Будучи в ажитации, она, возможно, неподобающим образом сравнивает собственную претенциозно-ничтожную особу со всевозможными возлюбленными богов. Но она, к сожалению, не Леда {154} и не Алкмена {155} и не годится в созвездия. В наше время куда лучше оставаться на земле, если только она достаточно ровная.
– Сударыня, вы говорите загадками! – Симон покачал головой. От дальнейших объяснений его избавил Тульпенберг.
– Как барон? – спросил этот удивительный дворянин. Положив рядом со своим прибором подзорную трубу, он с любопытством заглянул в вазочку с вареньем. На нем была вчерашняя ряса и вишневая двууголка {156} .
– При всем моем к вам уважении, барон Тульпенберг, – произнесла г-жа Сампротти, – что все же означает сей головной убор?
– Нижайше прошу прощения. Тяжкие труды в обсерватории: сочетание светил этой ночью было неблагоприятным. Ах, вы о моей шляпе! – Он рассеянно снял двууголку и погладил лысину. – В башне чертовский сквозняк. А как барон?
– Произошло нечто весьма примечательное: барон преображается.
– Преображается? – От изумления Симон пролил мед на скатерть. – И вы только сейчас говорите мне об этом?
– Поскольку сама еще не могу оценить всех последствий. А судьбе безразлично, что ее веления обсуждают за завтраком. Весь вопрос в том, является ли превращение барона для него счастливым? Исполнением его заветнейших мечтаний? Полюсом, прямо противоположным его предку-кроту, таким образом, катарсисом {157} этого противоестественного семейства? Я хотела бы поговорить об этом с ле Корфеком, он занимался подобными материями, но и от него не жду ясного ответа.
– Гиацинт любит поспать, – извинился за друга барон фон Тульпенберг.
Симон так хватил по столу кулаком, что из чашек выплеснулся кофе, а ножи и ложечки со звоном подскочили.
– Кто-нибудь объяснит мне, черт возьми, что здесь происходит? Во что превращается барон?
– В рыбу. А вы и не знали, г-н доктор?
– Нет.
– Не смейтесь над старой женщиной, доктор! Так вот: под утро барон пробрался в мою комнату сквозь щель в двери и разбудил меня. Его секретарь, г-н доктор Айбель, всю ночь отсутствовал и не изволил сообщить, где его искать… – Саломе Сампротти уставилась на Симона глазами-устрицами. – Барон жаловался, что у него ломит все тело, а кожа чешется. Потом сказал, что на икрах у него выросла чешуя.
– Чешуя?
– Рыбья чешуя. Он тяжело дышал и требовал воды, чтобы окунуться. Я выполнила его волю и поставила на пол мисочку.
– Какую мисочку?
– Ну… ах!.. Ну, просто мисочку, я кладу в нее на ночь мою челюсть. Утром он все еще был там: совершенно голый, весь в чешуе, а за ушами у него открылись жабры. На спине пробивается плавник, а ноги до колен срослись.
– Какой ужас, – пробормотал Симон. Сначала он побледнел как смерть, а потом покраснел от стыда, что как раз этой ночью бросил беспомощного барона одного. – Немедленно идемте к нему!
– Я охотно избавила бы вас от этого зрелища. Сейчас он у меня в умывальном тазу. Превращение зашло уже очень далеко.
***
Барон плавал у дна белого эмалированного таза. О человеке напоминали лишь выразительные глаза да щеточка усов на рыбьей морде. Серебристая чешуя сплошь покрывала веретенообразное тело, полностью сформировались грудные, боковые, анальные, спинные и брюшные плавники.
Завидев секретаря, барон всплыл и высунул голову из воды. С дрожащими губами Симон наклонился к нему.
– Ш-шимон, – пробулькал барон и плеснул хвостом.
Симон молча кивнул. Большая слеза капнула в таз рядом с бароном.
– Ш-швежей воды!
Симон подлил барону свежей воды из кувшина. И тот ожил. Неуклюже попытался схватить муху, охорашивавшуюся на краешке таза. Но потом его тело судорожно изогнулось, он перевернулся животом вверх и медленно поплыл, показывая перепуганным зрителям белесое брюшко, по направлению к мухе, продолжавшей с уютностью умываться.
– Мне кажется, он умер, – сказала Саломе Сампротти и перекрестилась.
– Почему вы не знаете этого наверняка? – взорвался Симон. – Почему вам как раз теперь кажется? Никогда вы ничего толком не знаете!
– Увы, да, – огорченно призналась она. – Иначе я наверняка была бы очень богатой и очень могущественной. Но на этот раз ваш упрек несправедлив. Я не отвечаю ни за душевное, ни за физическое здоровье рыб.
– Он умер, – повторил и барон фон Тульпенберг. – Он не шевелится. Так выглядят мертвые рыбы.
– Как это могло случиться?
– До сих пор мы всегда уменьшали только в соотношении четыре к одному, мы опасались, что микротор нарушит молекулярную структуру. Ведь изменения при воздействии нашего прибора очень значительны. Собственно говоря, мысль о том, что измененная материя может быть подвержена изменениям при психическом воздействии, пришла Томасу. Плавающий тут вот печальный результат есть прискорбное доказательство справедливости его гипотезы. Барон слишком много думал о рыбах, возможно, видел их во сне…
– Но почему он умер?
– Любое превращение требует очень большого напряжения. Вероятно, все его силы исчерпало усилие преодолеть дистанцию между человеком и рыбой. Кто скажет остальным?
– В этом нет нужды: вот они!
Теано, Гиацинт ле Корфек и Томас О'Найн узнали в столовой от мсье Дуна, что остальное общество как раз направилось в комнату г-жи Сампротти. Завидев Симона, Теано облегченно улыбнулась и страстно раскрыла ему объятия, но замерла, заметив между возлюбленным и теткой барона в тазу.
– Что это?
– Это не зрелище для девушек, дорогая, – поспешно произнес барон фон Тульпенберг, вставая между ней и тазом.
– Это барон: превратившийся в рыбу, голый и мертвый, – спокойно объяснила г-жа Сампротти.
– Не угодно ли тоже преобразиться? – ядовито осведомился Симон у троих ученых. – Вы могли бы превратиться в философский камень!
– Я уже думал об этом, – с сомнением отвечал Гиацинт ле Корфек.
– Должны быть и другие пути, – возразил Томас О'Найн. – В нашем случае об уменьшении и речи быть не может.
***
Вопреки глубочайшему горю перед лицом смерти вскоре все-таки задумываешься, как наидостойнейшим образом избавиться от тела. Чем дороже нам покойный, тем меньше хочется, чтобы дурной запах осквернил память о нем. Так или иначе, а консервация – благороднейший из видов погребения: при ней сохраняется форма и предотвращается естественный распад тела. Это достигается различными путями: в одном случае удаляют все подверженные разложению части, а оставшееся чем-нибудь набивается, как то происходит с мумиями и охотничьими трофеями. В другом случае прибегают к необычным, применяемым в чисто научных целях средствам, как то: карболка, спирт, различные смолы или обезвоживание.
Именно Саломе Сампротти пришла гениальная мысль о консервной банке.
– Он заслужил, чтобы мы завершили превращение, столь безжалостно прерванное смертью, во всяком случае, отнеслись к нему с уважением, – сказала она. – Он заслуживает золотой банки с драгоценными каменьями и жемчугами и эмалевым гербом на крышке, где будет покоиться в полном одиночестве.
Симон недоверчиво поглядел на нее, ему показалось, что г-жа Сампротти позволяет себе чересчур много. Но она была совершенно серьезна, и никто не рассмеялся и не возмутился. Да и в самом деле: как еще прикажете поступить с мертвой рыбой? О достойных похоронах по христианскому обряду и речи быть не могло, ведь вне всякого сомнения ни один священник не согласился бы отпевать сардину. Точно так же нельзя было выбросить его на помойку, отдать кошке – кошек в замке вообще не было – или скормить курам.
Поэтому Симон добавил:
– Расколотый герб. Он – последний в роде.
– И на банке – какое-нибудь подходящее к случаю изречение, – добавил Гиацинт ле Корфек.
– Aurum et oleum non perditi, [29]29
Золото и масло нетленны (лат.).
[Закрыть]– предложил барон фон Тульпенберг.
– Банку мы за свой счет закажем у лучшего ювелира в Ургеле, – пообещал Томас О'Найн.
– А до тех пор? – спросила Теано.
– Мы поступим с ним, как с настоящей сардиной.
– В моем тазу ему ни в коем случае не место!
– Дун достанет его и переложит в банку, пока мы не узнаем, как поступают с сардинами. Наверное, прежде чем класть в масло, его следует засолить.
***
После кончины барона образовалась пустота, и нужно было перераспределить роли. Пустота страшит не природу, но людей, в первую очередь – женщин. Пока мужчины были еще погружены в почтительное оцепенение перед величием смерти, бразды правления взяла в свои руки г-жа Сампротти, а Теано припудрила свой покрасневший от горя нос, ибо перспективы стали ей теперь абсолютно ясны. С артистической отрешенностью, охватывающей обычно женщин перед зеркалом, Теано подвела свои густые брови, накрасила ресницы и решила, что для объяснения с Симоном выглядит достаточно инфернально.
Он был в саду, верхом на той самой пушке, от которой они каких-то двенадцать часов назад отправились на головокружительную прогулку. Он курил трубку; эта картина мирной печали, возможно, заставила бы особу, менее решительно настроенную, усомниться в справедливости своих притязаний. Но Теано уже приготовилась выплеснуть ребенка вместе с водой, того ребенка, которого у нее никогда не будет. Ей непременно нужно было сменить приуготованное ей на этом свете место на место в аду – в жизни и в постели дьявола, сидящего на этом вот смертоубийственном орудии, ковыряя веточкой в трубке и пуская голубые клубы изо рта и из носу. Она предусмотрительно расстегнула еще одну пуговицу на блузке и окликнула:
– Привет, Симон! – подойдя достаточно близко.
– Привет, – ответил тот, не оборачиваясь.
– Что ты теперь будешь делать, Симон? – спросила она, легонько касаясь его плеча.
– Не знаю, – отвечал он хмуро. – Может, поеду домой к родителям. Может, стану причетником у священника в обервельцской церкви.
– Ха-ха, – иронически рассмеялась она, по праву сочтя такую перспективу абсурдной.
– Нет. Может, стану помощником нотариуса. Что-то же надо делать. Я и представить себе не мог, что барона когда-нибудь не станет. Сначала Пепи, теперь барон, только я и остался. – Он внезапно обернулся и посмотрел на нее. – Правда, странно?
– Симон, ты меня любишь?
Он удивился:
– По-моему, сейчас не самое подходящее время раздумывать об этом. Почему ты спросила?
– Я тебе нравлюсь?
– Да, конечно. Но не объяснишь ли…
– Ты же дьявол, и я хочу быть твоей женой.
– Дьявол? Господи помилуй!
– Бессмертный и вездесущий.
– Я?
– Или ты забыл, что было ночью? Ты женишься на мне?
– Я… – Симон провел рукой по глазам. – Я не прочь. Правда, твоя тетя утверждает, что ты меня не любишь, ну да ты должна лучше знать.
– Тогда мы будем всегда вместе летать. Везде!
– Да, ты права: летать я тоже умею, – произнес он нерешительно.
***
– Г-н доктор! Г-н доктор Айбель! – раздался в саду голос Гиацинта ле Корфека. Он и оба его друга решили, что нельзя терять даром времени, пока этот необычный гость еще в Монройе.
Симон спрыгнул с пушки.
– Меня зовут, – зачем-то пояснил он.
– Ты правда женишься на мне?
– Да. И пошли – может, опять что-нибудь стряслось с бароном. В таком дурацком замке все может быть!
Троица хозяев ждала у ворот в обществе Саломе Сампротти. Они чрезвычайно почтительно его приветствовали, и Теано, успевшая подхватить его под руку, засияла. Она чувствовала себя невестой. А в такой ситуации любая девушка с восторгом греется в лучах славы избранника. Для Теано, однажды чуть не ставшей наездницей, пришла великая минута: знаменитая Саломе Сампротти кланяется, а она, племянница, над которой все время смеялись, стоит с высоко поднятой головой рядом с объектом таких реверенций, его избранница, его будущая жена.
– Речь идет о вашей левитации, – смущенно начал Томас О'Найн. – Г-жа Сампротти взяла на себя смелость рассказать нам об этом. А из ее письма, в котором она заказывала для вас амулет, мы поняли, что вы столкнулись с определенными трудностями. Г-жа Сампротти доверила нам, что этой ночью вы прошли Великое Посвящение. Нашему слуге вы явились во всем величии… – Он замолчал нервно теребя кончик пояса.
– Нам бы хотелось знать, как все это происходит, – пришла ему на помощь г-жа Сампротти.
– Да, г-н доктор, нам бы очень хотелось знать это, – с облегчением подхватил Томас О'Найн. – Понимаете, г-н доктор, мы уже битых двадцать лет торчим в этом замке и ищем философский камень. По всем букинистическим магазинам Европы и Азии мы собрали все книги, какие только смогли добыть; чего уж там, Гиацинт даже переодевался уборщицей, чтобы стащить в Национальных библиотеках Парижа и Вены манускрипты, до которых нам иначе было не добраться. Сначала он жил и работал здесь в полном одиночестве. Потом к нему присоединился Максим: Гиацинт нашел его по объявлению в «Герметическом обозрении». И они соорудили большой дистиллятор и balneum mariae. Я последним нашел дорогу в Монройю, после очень оживленной переписки по поводу «Химического бракосочетания», мною тогда опубликованного. На мои деньги мы купили у «Рускоффа и Глюфандля» новейший атанор {158} , как раз выброшенный этой фирмой на рынок. Он и сегодня исправно служит, хотя модель с тех пор не раз модернизировали. Мы вовсе не жалуемся, что чересчур медленно продвигаемся вперед. Спустя примерно десять лет мы открыли удивительную субстанцию, которую даже великий Фульканелли {159} считает Первичной Материей {160} , а всего несколько месяцев назад нам удалось разложить Красного Льва {161} . Но вы только поглядите на нас! Лучшие годы нашей жизни отданы работе, а мы еще Бог знает как далеки от долгожданного дня, когда сверкающий Феникс {162} явится из превратившегося в пепел Яйца Философов {163} . Попутно мы много чего наизобретали и сконструировали – микротор, например, за умеренную плату составляем гороскопы и делаем амулеты, изготавливаем весьма полезную при ревматизме мазь на целебных травах и сбор от ожирения и нечистой кожи. И вот мы перед вами со всей этой чепухой в натруженных руках, перед вами, молодым еще человеком, достигшим, совершенно очевидно и без особых трудов вершины: metaheautos собственной персоной! Ну разве не простительны наше любопытство и зависть?
– Боюсь, господа, вы ждете от меня слишком многого, – отвечал Симон в замешательстве. – Мне, собственно, нечего вам открыть. Вот г-жа Сампротти давно уже пытается увидеть меня насквозь. И уж если ей нечего сказать, то от меня вы и подавно узнаете еще меньше: честно говоря, я не понимаю даже загадочных выражений, которыми вы изъясняетесь.
– Я лично запретила ему читать, – заметила г-жа Сампротти. – Это – совершенно необразованный самородок, и я решила, что его развитие лучше пойдет без какого-либо академического принуждения.
– Вы ощутили действие вашего амулета? – осведомился барон фон Тульпенберг.
– По правде говоря, нет. Впрочем, припоминаю, что в первую же ночь после того, как я его надел, я впервые летал по-настоящему.
– Он говорит о левитации, – пояснила ясновидящая.
– Да. Но не думаю, что это связано с амулетом, я и до того несколько раз ощущал странную потребность подняться над землей.
– Так вы вообще ничего не знаете? – разочарованно спросил Томас О'Найн.
– Вероятно, в этом и заключается тайна его успеха, – сказала г-жа Сампротти. – Все авторитеты сходятся в том, что необходимо быть свободным от каких бы то ни было честолюбивых помыслов. А к вам, господа, это никак не относится!
– Не совсем, – признался барон фон Тульпенберг. – Но нет человека, который бы хоть чуть-чуть не мечтал об этом. Нет человека, который бы втайне не надеялся, что никогда не умрет. А уж какое-то честолюбие есть у всех.
– Вы заблуждаетесь, уважаемый барон, – возразила г-жа Сампротти. – Вот стоит человек – если мы вообще еще можем называть его человеком, – который делает лишь то, что согласуется с его совестью. С ней же согласуется довольно много, как может засвидетельствовать моя племянница.
Теано даже не дала себе труда покраснеть. Тем не менее все в замешательстве умолкли.
– Для меня достаточно вашего поразительного и неслыханного умения летать, – скромно обратился наконец Гиацинт ле Корфек к Симону. – Не согласитесь ли вы показать нам, как это выглядит?
Симон вполне был согласен. Он напряг мускулы, поднял диафрагму и полностью сконцентрировался на моменте отрыва от земли. Но, словно привязанный, не трогался с места. Он недоуменно покачал головой, возвел к небу глаза и проделал несколько дыхательных упражнений. Потом попробовал еще раз, согнув руки и по-лягушачьи подпрыгивая.
– Симон, соберись! – велела Теано.
– Может быть, мы можем помочь вам? – спросил Гиацинт ле Корфек.
Симон сердито взглянул на него:
– Вы совершенно сбили меня с толку своей болтовней. Для полета нужна полная сосредоточенность, к тому же, вероятно, определенное стечение обстоятельств, случающееся не каждый день.
– Не может ли быть тому причиной слишком плотный завтрак? – предположил барон фон Тульпенберг.
Симон упрямо подпрыгивал.
– Ты смешон, – взорвалась Теано. – Просто смешон!
– Придержи язык, – прошипел Симон в ответ. – И она еще собирается за меня замуж!
– Я? Лягушек повсюду пруд пруди, мне же нужна лишь та, что превратится в короля!
– Ну, если это все…
– Или ты сегодня же прилетишь ко мне, или между нами все кончено! – Она в ярости бросилась прочь, в лес.
Симон с огорчением посмотрел ей вслед. Троица, следившая за краткой сценой с неприкрытым интересом, теперь явно соображала, следует ли как-то реагировать на нее, и если да, то как? Симон подпрыгнул еще раз, и попытка удалась: он висел в воздухе на миг дольше, чем то позволяла сила тяжести. Заметила это лишь Саломе Сампротти. И демонстративно захлопала в ладоши.
– Давайте-ка оставим г-на доктора в покое, – пришла она на выручку Симону, устало отиравшему пот со лба. – Вне всякого сомнения, он летает. Племянница рассказывала об этом такое, что у вас волосы дыбом встанут. Как все мы знаем, летать – занятие слишком непростое, чтобы предаваться ему после уже упомянутого вами завтрака и трагической кончины барона, после которой и двух часов не прошло, лишь для развлечения или – в принципе я ничего не имею против – удовлетворения профессионального любопытства, а не то из спортивного азарта. Опомнитесь, ведь наверху лежит покойный! Благое намерение законсервировать тело в золотой банке – еще не все. Я понимаю, что внимания заслуживает каждое из обрушившихся на нас вчера событий, но нельзя же забывать одно ради другого.
– Барон стал жертвой трагического несчастного случая, в котором никто из нас не виноват, – возразил барон фон Тульпенберг.
– И именно вы говорите об этом? Просто поразительно! – подхватила г-жа Сампротти. – А не вы ли забыли выключить злосчастный микротор и даже не заперли дверь, так что ничего не подозревавший барон попался в эту дьявольскую ловушку?
– Господа, господа! – попытался успокоить присутствующих Гиацинт ле Корфек. – Максим, ты, безусловно, не прав, ты тоже виноват! Но того, что барон потом станет рыбой, никто не мог предусмотреть. Его смерть и наш сиятельный гость, г-н доктор Айбель, равно должны быть предметом нашего внимания. Вы должны понять, сударыня, что в создавшемся положении мы прежде всего интересуемся гостем. Смерть для нас – нечто… э-э-э… все же более знакомое. Незабвенный барон останется еще некоторое время с нами, а вот г-н доктор после своего преображения может решить отказаться от нашего скромного гостеприимства.
– И в мыслях не было, – успокоил его Симон.
– Оставьте нас, – сказала Саломе Сампротти, ухватила его за руку и повлекла за собой.
***
Пожилая дама со вздохом уселась за стол под большой липой. Жестом предложила Симону последовать ее примеру.
– Теано… – начал было Симон, но г-жа Сампротти не дала ему договорить.
– Выбросьте же наконец из головы эти глупости, – произнесла она. – Я предупреждала: Теано вас не любит. Она хочет выйти замуж за чародея или полубога. Теано так страстно любит все сверхъестественное, что больше ничего не видит. Когда она на заре сидела в сарае и подглядывала за вашими упражнениями, она еще колебалась. Отсюда ее восторги по поводу подтвердившихся подозрений, отсюда и непомерные претензии. Ей ни за что не смириться с тем, что необычное столь обыденно. Люди разучились видеть Бога в человеке. Теперь она мечется по лесу и ищет дерева повеситься. Не бойтесь! Она не повесится. Скоро она засядет вот за теми кустами в ожидании, когда мы уйдем, чтобы пробраться в свою комнату. К ужину она не спустится: предпочтет голодать, чем попасться вам на глаза. Вот дурочка! Если бы я была молода, то все бы сделала, чтобы именно теперь выйти за вас замуж! Но вы бы не женились на мне, я всегда была страшна, как смертный грех…
– Кажется, я и на Теано не хочу жениться, – признался Симон. – Поймите меня, сударыня: Теано мне очень симпатична, но, боюсь, мы не слишком подходим друг другу.
– При таких обстоятельствах я с удовольствием помирю вас, – великодушно пообещала Саломе Сампротти. – Пойду к ней после ужина и скажу, что вы ни в коей мере не считаете себя помолвленным. Легкая интрижка наконец кончилась. И самое время! В Австрии уже ждет предопределенная вам супруга!
– Я не спешу.
– Это не важно. Вы все равно на ней женитесь.
Симон поднялся:
– Я немного устал. Если позволите…
– Нет, так просто вам не уйти. Вы должны еще рассказать мне, что случилось сегодня ночью!
– Да не знаю я, – произнес он удрученно.
И Симон действительно не знал. После встречи с вырезывателем силуэтов он вернулся в сад – но это неважно. Совершенно все равно, где становиться полубогом.
Этой ночью Симон достиг границ возможного. За эволюцией, на которую он решился скорее из любопытства, последовала мутация. Во время полета, в который он из прихоти и по доброте взял Теано, ему стало ясно, что пространство его больше не связывает. Как и предполагала Саломе Сампротти, он мог со скоростью мысли перенестись куда угодно. Ни одна спиральная туманность не была слишком далекой, а собственное сердце – слишком близким. Но одновременно с пространством пали и оковы времени, ведь пространство – просто функция времени, и одно не может существовать без другого, как печать и оттиск, а действительность – между ними.
Симон попал в высшее общество. В бесконечности сновали боги и полубоги, ухаживали за отведенными им звездами, как за приусадебными участками, убивали время олимпийскими играми, являлись то там, то здесь и принимали поклонение верующих. Звучали прославленные имена, знакомые Симону с гимназических времен: большие древние семейства с разветвленным родством. Они образовывали замкнутую касту, своего рода столбовое дворянство, имевшее на земле, центре Вселенной, свои храмы, священные горы и оракулов. Кроме того, имелось еще множество «новопожалованных», своеобразный безымянный народец, с переменным успехом старавшийся забыть о том, что его позабыли. С большим размахом устраивались всяческие празднества, а коль скоро время было обратимо, повторяли их все снова и снова, чтобы в который раз блеснуть все теми же остротами. Иногда даже кто-нибудь из столбовых пускал их в свое святилище, желая развлечься или просто найти разумное применение покинутому его приверженцами храму. Несколько упрямцев настойчиво пытались достичь границ бесконечности, поскольку предполагалось, что там-то и обретается творец. Из экспедиций этих они возвращались совершенно измочаленными и растерянными, а потом выпивали на пирах невообразимое количество нектара.
27 июля 1832 года вдруг стало таким же, как все другие, днем, Симон мог выудить его из бесконечной череды дней и со скоростью мысли оказаться в Экс-эн-Прованс перед прелестным маленьким дворцом, называвшимся тогда «Ласточка». Но не захотел. И вовсе не по сентиментальной привязанности к старой оболочке и ее содержимому он отказался от переменчивости Протея {164} , бывшей столь близко. Захоти он – и отправляйся в маске божественного шакала Анубиса {165} в гости к египетскому фараону или играй в покер с Джесси Джеймсом {166} , а не то в свите папы Льва {167} выезжай навстречу вождю гуннов Аттиле {168} . Но какой в этом интерес, если, будучи по определению всезнающим, ты и так знаешь, как обстояли дела или как они могли бы обстоять, если бы ты вмешался в ход вещей? Он содрогнулся при виде титанической скуки, зевавшей ему навстречу с порога царствия небесного. Играть с людьми становилось при таких обстоятельствах развлечением весьма жалким. Уж не прикажите ли развлекаться всю вечность напролет чаями в развалинах монастыря, увеселяя хорошеньких коллег игрой на флейте? Тереза, одна из сивилл {169} , кельтская жрица Фиона и кузен в белом кафтане явно только того и дожидались. И до чего же понятен интерес дам и господ к нему: наконец-то новое лицо!