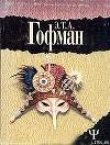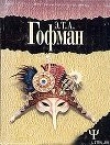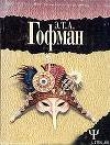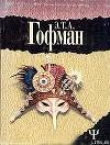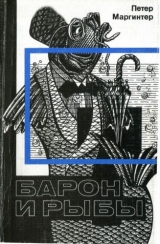
Текст книги "Барон и рыбы"
Автор книги: Петер Маргинтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Петер Маргинтер. Барон и рыбы
В связи с тем, что леденцы выпускаются готовыми к употреблению, разнообразие их форм носит весьма ограниченный характер; таким образом, в повторении целесообразной по сути формы не может быть усмотрено ничего противоречащего общепринятой морали.
Решение Верховного судаот 19.12.1961, 4 ОБ 353/61
Настоящие цветочные магазины бывают только в городе.
Прежде знать этого было не нужно, и так все ясно – город окружали стены: зубчато-угловатая кайма бастионов, контрэскарпов {1} , барбиганов {2} , перед ними – ров, а вокруг – гласис {3} , так что и не вставал вопрос, где, собственно, начинается город и где он кончается. Нынче же города растекаются по округе, и предместье называют городом, как только дома сбиваются в кучу, словно кучка домов – это сразу и город. Конечно же, город – нечто большее.
Чужестранец, разыскивающий город, определенно не заблудится, если станет ориентироваться по цветочным магазинам. Они процветают лишь в насыщенно-урбанистической атмосфере. Центр города там, где цветочные магазины всего роскошнее.
На окраинах цветы покупают у огородника, с клумбы или из теплицы, в основном чтобы посадить их в собственном саду, поскольку обычно такой огородник редко может предложить что-нибудь кроме скромных цветочков для украшения семейных праздников, похорон и других процессий, а они цветут с весны до осени в любом палисаднике. Одними цветами никто из этих огородников не смог бы ни сам прокормиться, ни прокормить ораву своих ребятишек, тем более зимой, поэтому им приходится разводить скучные овощи, продавать рассаду и увеличивать свои доходы за счет мелочной торговли пестрыми мешочками из набивной ткани, искусственными удобрениями и горшками. В этом и причина огородничьей несловоохотливости и меланхоличности, столь охотно принимаемых за тихое-мирное единение с природой. Но в любом случае у огородника мы уже почти что в деревне; здесь при встрече пенсионеры-садоводы и самые настоящие крестьянки подают друг другу мозолистые руки. А между центром и периферией, там, где городская чернь и сельский пролетариат скрещиваются и населяют своим отродьем непроходимо-серые, как ноябрьское небо, доходные дома, там водится опасная помесь – торговка зеленью. Она главным образом торгует овощами, поставляемыми огородниками. Ящики вперемежку с банками; можно купить огурцов, фасоли или капусты, а также скромный букетик. Цветы дешевые и сбыть их нужно быстро, не то завянут. Глаза огородника настолько отличаются от глаз торговки зеленью, что спутать их ну никак невозможно: зеленщица всегда ищет взглядом покупателя.
А продавщица цветочного магазина сама должна быть в чем-то схожа с цветком, отличаться той естественной, чистой и жизнерадостной прелестью, что незаслуженно третируется мужчинами как бесполость. Но поскольку именно в городе люди устремляются от низкого к высокому, а от периферии – к центру, то нередко можно встретить торговку с глазами огородника: рассеянную, еще более меланхоличную и всегда готовую оделить детишек яблоками, ну, а продавщицу из цветочного магазина – с глазами зеленщицы: оценивающими, бегающими, один – на деньги, другой – на товар. Даже в центре миллионной Вены, близ самого ее пупа, очерченного тенью собора Святого Стефана {4} , натыкаешься на этакие типажи.
Будучи эстетическим ферментом города, цветочные магазины заслуживают всяческого внимания: прибежище пятой колонны третьего дня творения, зародыш джунглей, замаскированный под искусственный рай. Широкие высоченные окна с протертыми до невидимости стеклами прикидываются продолжением тротуара, завлекая безобидного прохожего, его дурманит море запахов: дыхание цветов, терпкий аромат листьев, сытный земляной дух. Осыпанная бисеринками влаги дверь, из которой они струятся ему навстречу, захлопывается, как капкан. Ты словно внутри рога изобилия: растения от влажного кафельного пола до высокого потолка, они карабкаются на консоли и табуреты, раскидываются в хрустальных вазах, свисают с потолка на плетеных из лыка шнурах: звезды, колокольчики и воронки из того самого неземного материала, что идет на радугу; круглые, зубчатые и перистые листочки, огромные, зеленые, маслянисто-поблескивающие листья, вьющиеся стебли, взбирающиеся по изящным бамбуковым подпоркам и нащупывающие дорогу нежными спиралевидными лапками; маленький бассейн с кувшинками, что поднимают свои восковые чашечки из коричневатой воды, – и все окутано густыми облаками ароматов с мягкой нотой грядущего тления, с виду такое непрактичное, просто себе красивое, более-менее доступное и – ах! – столь чуждое всякому злу.
И впрямь: что злого может быть в этих прелестных детях природы? Застыв в благовоспитанных позах, подобающих прилежно-меркантильной флоре, экстерриториальные в своих горшках избранники растительного царства полны ожидания и молча, приветливо и благоуханно представляют интересы своих семейств. Они до последнего держатся в людских крепостях из бетона, камня и асфальта, а когда умирают, их выбрасывают на помойку, на смену же неустанно приходят братья и сестры, дети и внуки, так что их кончины почти никто и не замечает. Красотой, ароматом и освежением воздуха они ласково воодушевляют жестокосердных директоров и неутомимых секретарш, замотанных мамаш и бодрых холостяков; срезанные, стоят в вазах, их снесенные головки красуются в петлицах, они последним приветом опускаются на черных гробах во взрастившую их землю. Сколько скромности, сколько терпеливой готовности! Но не они ли надеются со временем вернуть себе оставленные просветленным человечеством города? Разве не наше земное величие продается и предается в цветочных магазинах? Caveant homines! [1]1
Берегитесь, люди! (лат.)
[Закрыть]По нашу сторону горизонта приуготовляется рай без Адамов и Ев. Изящные цветики и величавые широколиственные растения – всего лишь авангард армии мхов, лишайников, крапивы и болиголова; они заполнят наши улицы, обрушат балконы, снесут крыши и по камешку разберут стены, пока трава и деревья не заселят обретенные вновь земли, плющ не скроет трагических жестов расколотых статуй, а в их пустых глазницах не засинеет мышиный горошек. Мы же будем бесплотно парить над всем этим, как истинные духи, – и что нам за дело до мира разбитых воспоминаний?
***
Не всякому дано признать в чистеньком, неброско-дорогом цветочном магазине, приютившемся в тени собора Святого Стефана, декорацию, которая скрывает Апокалипсис {5} . Легко предположить, что право на столь далеко идущие мысли зарезервировано за господами членами соборного капитула, так озабоченно мелькают мимо его окон их черные сутаны. Однако даже самой заурядной личности ясно, что в цветочных магазинах начинается больше, чем кончается. На прощание цветов не дарят – за исключением последнего прости, а ведь это – новое начало. В особых случаях ареной событий становится даже сам цветочный магазин.
Как со всей надлежащей осторожностью выразился бы Австрийский Конституционный суд {6} , «не невозможно», чтобы судьба на мгновение приняла облик личинки майского жука: недоделанного жучишки или будущего представителя семейства пластинчатоусых, смотря по вашей образованности; судьба-личинка, ведущая в цветочном горшке весьма скромную, но тем не менее вредительскую жизнь. А горшок – в том самом магазине. Вмешивается грубая рука, вытаскивает упитанную белую личинку из теплой темной земли, отрывает ее от вкусненьких корешков и швыряет в лицо некоему барону. И начинается давно уже начавшееся.
Шутка? Тот, кто возьмет на себя труд разузнать, что за подготовка была нужна, чтобы эта шутка удалась, очень скоро убедится в обратном. Целый мир был создан ради смехотворного абсурдного эпизода. Кроме всего прочего, должна была, к примеру, пронестись над мирным Эльзасом кровавая буря французской революции, чтобы умчать в далекую Вену Жюльена д'Анна, пятого барона фон Кройц цу Квергейм вместе с супругой и двумя несовершеннолетними детьми и чтобы потомок его, уже шестнадцатый барон (и одновременно девятый барон по Богемской Родословной книге {7} ) стал в один прекрасный вечер поздней осенью мишенью для личинки майского жука. И этого было бы мало, если бы доктор Симон Айбель ушел из Управления Государственных Лотерей, где трудился составителем, раньше, чем десять минут спустя после окончания рабочего дня – по примеру более честолюбивых коллег. Но даже и тогда ничего бы не случилось, если бы продавщица цветочного магазина, ставшего ареной инцидента, не была выбившейся в люди зеленщицей холерического темперамента. Ни в коем случае. Или же произошло бы что-то совершенно другое.
Кроме барона, д-ра Айбеля и продавщицы в магазине присутствовали также неизвестная полная дама, полосатая кошка, несколько мух, множество не видимых глазу дождевых червей и столь же невидимая личинка майского жука. Личинка спала. Черви рылись в земле. Мухи, приглашенные особо крупной товаркой поглядеть на насекомоядное растение, по своему обыкновению жужжали. Кошка свернулась на средней полке одного из стеллажей около батареи пустых горшков и дремала, спрятав кончик хвоста под правую лапку. Неизвестная полная дама искала в кошельке мелочь, барон Кройц-Квергейм с интересом глядел на д-ра Симона Айбеля, а тот не менее заинтересованно созерцал куст белой сирени, продавщица же заворачивала в шелковистую бумагу шесть ярко-розовых гвоздик с веточкой аспарагуса.
– Мило, не правда ли? – неожиданно обратился барон к Симону. – Белая сирень поздней осенью – очаровательный символ невинности. Другим цветам тоже не уцелеть, но этому прелестному кустику грозит, однако же, не только зима. Цена, должно быть, высока настолько, что я чувствую себя обязанным предупредить вас: корни грызет личинка! Melolontha imperfectus, омерзительная тварь. Судя по всему, сейчас отвратительный червяк спит, он предается – пардон! – пищеварению. У таких зверюг это дело долгое. Но потом, сударь, он опять возьмется за свое! Видите болезненные желтые пятна на листьях? Единственным плодом, что поспеет на вашем кустике, будет майский жук!
Симон удивленно поднял глаза. У него и в мыслях не было покупать прелестное, но определенно очень дорогое деревце, чей стройный стволик увенчивали в ореоле блестящих сердцевидных листьев семь благоуханных белых гроздий; будучи чиновником, он давно уже вынужден был привыкнуть к подобающей скромности в подобных вопросах. Барон же сделал шаг вперед и, нахмурив брови, уставился на горшок. Аристократические усы встали дыбом. Симон подыскивал слова благодарности, он считал ее уместной в любом случае. Тут его внезапно опередила продавщица. Маленькая, толстенькая и потная, она испытывала естественную неприязнь к высокому и холеному представителю противоположного пола. Зеленщица по рождению, она еще стерпела бы, обойдись этот тип с сиренью как с пучком вялого салата, но соболезнующего взгляда барона не могла перенести, он подействовал на нее, как красная тряпка на быка.
– Чего еще личинка? А ну-ка, сударь мой, заберите свои бредни назад!
Барон хранил спокойствие, как то и подобало при расстоянии, отделяющем отпрыска Кройц-Квергеймов от столь заурядного создания. Разумеется, он к ней обернулся, чуть заметно сморщив, однако, чрезвычайно породистый нос, отчего приподнялось на миллиметр пенсне в золотой оправе, и взгляд устремился поверх головы женщины. Это окончательно довело продавщицу до белого каления. Сравнение барона с личинкой, и притом отнюдь не в его пользу, было еще сущими пустяками: ее теоретические познания в зоологии были ровно такими же, как практические – в ботанике. Потоки слов, само собой, разбивались, как о скалу, о совершенно очевидное абсолютное бароново непонимание. Полчаса спустя, узнав его имя, Симон только подивился, как языкатая продавщица, обзывая барона, упустила из виду именно то единственное создание, которое по праву могло бы быть упомянуто в такой связи.
Все же для подобных эксцессов продавщица было оснащена недостаточно. Ее словарный запас истощился еще до наступления оргазма, пришлось повторяться, даже переводить дух и завершить затем тираду классическим, но малооригинальным предложением, последовав которому барон невольно причинил бы ей самой весьма большие неприятности. От ярости продавщица только и могла, что без толку размахивать руками, но тут полная дама принялась ее успокаивать. Она заметила, что нет никакого преступления в личинке майского жука, живущей без чьего-либо ведома в горшке с сиренью, всякому известно, что вредители эти пробираются украдкой; никто и не подозревает фирму, будто бы она коварно снабжает свои товары личинками и намеренно подсовывает безмятежным покупателям вредителей. Украдкой взглянув на Симона и удостоверившись, что тот миновал уже критический возраст, она даже намекнула, что гадость цветочному магазину могла подстроить испорченная молодежь.
– Вы же знаете: ни почтения, ни работы, которая учит хорошему. – Она успокаивающим жестом положила отсчитанную тем временем мелочь на резиновую тарелочку.
Но тут уж продавщице просто не стало никакого удержу. Она грубо выдрала кустик из горшка и, трясясь, выдавила:
– Ну где, где личинка, чучело вы гороховое?
Решив, что вопрос обращен к нему, барон поднял правую руку и кончиком указательного пальца выудил что-то из земли, из самой гущи корешков. Вот он, белесый обжора, вредный червяк! Свернувшись, глухой и слепой, утомившись от злодейских своих дел, он ярко белел на черном перегное. Приоткрыв рот, продавщица уставилась на него. Потом схватила злополучное создание, плюнула на него и с размаху швырнула прочь.
Барон завершил свою миссию. Он как раз следовал к дверям, когда личинка врезалась в баронский нос. Симон и полная дама равным образом поспешно ретировались.
Поднявшаяся суматоха и кошку согнала с места. Она собиралась выскользнуть в дверь вслед за Симоном, но не успела, укоризненно отпрянув, чтобы ей не прищемило усы дверью, обитой по краям тонкой резиной. Потом обнаружила личинку, лежавшую на грязных плитках пола и беспомощно шевелившую коротенькими лапками. Любопытно ее обнюхав, кошка, играя, поддала личинку лапой, потом сообразила, что эта штука съедобная, позабыла о бегстве, легла и с одобрительным хрумканьем слопала причину предстоящих куда более серьезных событий.
Продавщица нырнула в так называемое «бюро», комнатушку, битком набитую лыком, булавками и шелковистой бумагой, где она обычно прислушивалась к звяканью колокольчика на дверях магазина. По-прежнему дрожа от злости и негодования, она вытащила из стенного шкафа пузатую зеленую бутылку, глотнула огненной «Охотничьей услады» и болезненно сморщилась. Вскоре, однако, в желудке у нее уютно потеплело, а на лице появилась кислая улыбка. Ну уж и задала она этому чучелу! Продавщица гордо рыгнула, не прикрывая рта рукой.
На улице барон остановился в нескольких метрах от магазина, поджидая Симона. Коротко попрощавшись, мимо проследовала вперевалку полная дама. Она не желала иметь никакого касательства к скандалу, а прежде всего – оказаться свидетельницей на процессе об оскорблении чести и достоинства, которого теперь не миновать; судья обменяется тонкими улыбками с адвокатами обеих сторон, когда, оглашая дело, зачтут: «… и затем ответчица назвала свидетельницу Н. чучелом гороховым…»
Симон, напротив, нашел в себе мужество признать:
– Искренне сожалею, что вызвал эту лавину. Собственно, мне и нужно было только немного проволоки, которой укрепляют цветы, чтобы починить портфель. Прошу прощения!
Барон снял пенсне и провел тыльной стороной руки по носу и усам. Затем вновь надел пенсне, внимательно поглядел на Симона и наконец кивнул.
– Охотно извиняю вас. С удовольствием вижу и слышу, что судьба столкнула меня с человеком благородным или, по крайней мере, образованным. Нынче это не столь уж часто встречается и восполняет ущерб, причиненный – ну да! – причиненный досадным происшествием, доставившим мне, тем не менее, удовольствие. Так сосредоточенно стояли вы перед сиренью… Не дерзну утверждать, что не подобает вести себя подобным образом, но все же нельзя быть столь рассеянным, это легко может повлечь за собой обстоятельства куда более плачевные. Однако вы можете оказать мне небольшую услугу, если вам случайно в ту же сторону.
Молча поклонившись, Симон смирился с тем, что навязывал ему капризный случай.
– Речь вдет о хрупком предмете. Кстати говоря: Кройц-Квергейм.
– О, какая честь! – Симон снова поклонился. – Тем больше я сожалею о досадной прелюдии. Меня зовут Айбель, Симон Айбель.
– Как знать, встретились ли бы мы иначе. Очень приятно! Не родня ли вам д-р Август Айбель, миколог? {8}
– Мой батюшка.
– Примите мои поздравления. Достойный, ученейший человек. Я часто встречал его в Академии. Он все в прежней должности?
– Нет, тому три года, как подал по своей воле в отставку. Мои родители поселились близ Обервельца, вдали от мира, в тихой альпийской долине, открытой к югу и до чрезвычайности сырой: истинный рай для миколога.
***
Память столь высокородных господ с детства тренирована на длинных рядах предков, и хотя, как правило, перегружена равными себе по происхождению, но барон Кройц-Квергейм был не просто каким-то там бароном и мог позволить себе помнить и о лицах буржуазного происхождения. Он ясно видел невысокого худощавого Августа Айбеля, приветствующего баронессу Друзиллу с сыном, чахлым четырехлетним мальчуганом в матроске, у портала Музея Грибов, декорированного стилизованными гранитными веселками {9} , поддерживающими архитрав {10} с загадочным девизом V. I. Т. R. I. О. L. {11} Матушка барона, урожденная леди оф Айрэг энд Шэн из рода Маккилли, была невероятно рада найти столь далеко от родной Шотландии человека, способного, хоть и запинаясь, говорить с ней на языке шотландских горцев. Август Айбель выучил это наречие, готовясь к ботанической экспедиции, отложенной по финансовым соображениям на неопределенное время (барон и об этом помнил). Затем со скромным достоинством удачливого ученого миколог провел их по обширным залам. В витринах на подстилке из натурального мха, сухих листьев и еловых иголок были выставлены схожие с настоящими до неразличимости муляжи грибов из гипса и пластилина. Прозрачно-студенистые и наиболее филигранные виды даже заказали, не считаясь с расходами, на Мурано {12} из цветного стекла. Но маленького мальчика, осматривавшего за руку с мамой, болтающей с доцентом Айбелем на непонятном языке, в высшей степени поучительные даже для непосвященного, но – увы! – почти не посещаемые экспозиции, восхитили больше всего, разумеется, очаровательные садовые гномы, уступка вкусам широкой публики, оживлявшие строго научное в остальном собрание и вызывающе контрастировавшие с грибами. Айбель даже откупоривал то один, то другой хрустальный флакон и давал гостям понюхать его: благовонный аромат оливково-желтого слизневика, анисовый запах лугового шампиньона, резкий кошачий дух чесночника. Много лет спустя, когда даже миколога достигла слава барона как светоча ихтиологии {13} , он вновь посетил музей и его разносторонне образованного директора. Тамошних гномов недавно заново отлакировали, а ребенка, что играл среди них, барон принял за внука Августа Айбеля, ставшего тем временем надворным советником. Но наука – ревнивая возлюбленная. Часто предающийся ей женится очень поздно или вообще не женится. Айбель был старше барона лет так на двадцать, а шагающий рядом с ним молодой человек по годам мог быть скорее его сыном. Но у барона не было сына, жены – и то не было.
– Вы пошли по стопам вашего досточтимого батюшки? – спросил барон.
– Нет. Я юрист.
– Жаль.
Барон надолго замолчал, и у Симона тоже нашлось время предаться воспоминаниям.
Папа Айбель страшно гордился знакомством с бароном, это явствовало из удовлетворенного кудахтанья, которым он встречал статьи за его подписью в одной из своих научных газет. Да только пару недель назад, когда Симон ездил на выходные к родителям, папа – отставной миколог по-прежнему выписывал множество таких изданий – особенно раскудахтался, а потом прочел сыну лекцию об истории баронского рода, качая головой, расхаживая вдоль книжных полок, то и дело снимая с них тома и ставя их вновь на место. Вообще-то Симон не слишком любил отцовские монологи и весьма посредственно изображал слушателя. Но в тот вечер папин рассказ был по-настоящему интересен.
Родоначальником бургундского рода д'Анна стал некий увенчанный бычьими рогами богатырь из темных лесов по ту сторону Рейна, который со своими людьми некогда опустошил в нынешнем Эльзасе множество галло-римских селений и утвердил свое право на эти земли, вскоре после того крестившись. Одна из его наследниц и современница французского короля Карла IV {14} по имени Матильда д'Анна спустя столетия спасла от грозившего забвения бесконечно и изысканно ветвящееся родословное древо семейства, далеко протянувшее редкие ветви со скудной листвой: она согрешила с кротом. (С этой минуты папаше Айбелю больше не пришлось сердиться на автоматически кивающего головой сына. Уже раскрывшийся было в зевке рот Симона захлопнулся столь внезапно, что укусил старавшуюся прикрыть его руку). Ужаснувшиеся адюльтеру родичи сперва старались выгородить ее, утверждая, что за подземной зверюшкой скрывается некий дворянин самого высокого происхождения, который равным образом в других местах являлся другим дамам в обличии животного, и тоже не без успеха и не без последствий, скрываясь потом в подполье, редко им покидаемое. Тут бедолаги попали из огня да в полымя, поскольку ханжа-сосед не придумал ничего лучше, чем донести на них архиепископу лионскому как на еретиков. Один из самых одаренных римских изгонителей дьявола – следовало считаться с возможностью сатанинских происков – был уже на пути в Бургундию с бочонком дважды освященной воды, как плод этой диковинной связи появился на свет, положив конец скандальным слухам. Никак нельзя было не заметить странности этого мальчугана: все его тело покрывал густой черный пушок. Говорили еще, что руки и ногти у него крепче, чем у других ребят. Вопреки, а может быть, именно поэтому бастарду удалось свести с ума девицу особенно древнего и благородного рода. Невероятное чутье и протекция упирающегося тестя уже в молодые годы доставили ему должность начальника полиции герцога Урбинского и титул маркиза фон Негрофельтре (барон имел право носить и этот титул тоже). Во время визита в Прагу герцог уступил его постоянно гонявшемуся за подобными диковинками императору Рудольфу II {15} , а тот пожаловал ему баронство фон Кройц цу Квергейм и добился в конце концов от французского короля уравнения его в правах с законными отпрысками семейства д'Анна. Умер он в весьма преклонном возрасте, откушав, судя по всему, чересчур жирного паштета из дождевых червей. Его сын, покрытый гораздо более редкой шерсткой и снискавший на службе у Людовика XIII {16} славу фортификатора и таланта, унаследовал обширные поместья в Бургундии. Затем близ эльзасского городка Вюльгейма он построил замок Рюссельбург, поныне славящийся лабиринтом подземных ходов, коридоров, шахт и погребов. У него было двое сыновей, Ги и Робен, последний – прямой предок теперешнего барона. В течение поколений явные вначале наследственные признаки утратились в результате смешения с исконно человеческой, хотя и исключительно голубой кровью.
На этом папаша Айбель исторический экскурс завершил. Ни ему, ни сыну в тот вечер и в голову придти не могло, что распространенная среди отдаленных потомков кротиного отпрыска идиосинкразия на всяческих насекомых и червей свяжет судьбы Айбелей и барона фон Кройц цу Квергейма. Как ни хотелось Симону узнать, каким удивительным способом барону удалось догадаться о скрывающейся в корнях сирени личинке, но то ли врожденный такт, то ли интуитивная догадка о причудах благородного вырождения не позволили ему спросить об этом. И очень хорошо, ведь и впрямь все Кройц-Квергеймы реагировали даже на возможные намеки в этом направлении с болезненной чувствительностью. Так, отец барона был убит на дуэли, причиной которой стало замечание вполголоса, адресованное графом Гейстером князю Пюклеру: «Кройц-Квергеймы? С шестнадцатого века ты найдешь их в Готском Альманахе {17} , а до того – у Брема {18} ». А сам барон, рыча: «Из свинок! Из свинок морских!» – дал на приеме у эрцгерцога Карла {19} пощечину министру, утверждавшему по неосведомленности, что английский король Генрих VIII {20} обожал жаркое из кротов. Кто хоть немного знаком с тонкой гастрономией и знаменитым портретом Гольбейна {21} , тот, разумеется, знает, что речь может идти только о морских свинках. А кушала ли тайком кротов Мария Кровавая {22} , не доказано, и вообще это другая история.
***
Меж тем упал туман, синеватыми огоньками загорались газовые фонари, вокруг их ясного пламени засветился мягкий ореол, края его сливались с сырой мглой. Улицы обезлюдели, а мрачные фасады лишь изредка разнообразились приветливо освещенным кабачком, окна которого отражались в мокрых булыжниках мостовой.
Неожиданно из самой гущи тесно сгрудившихся теней вынырнул тощий мужчина, пристроившийся рядом с бароном. На боку у него болталась пузатая почтальонская сумка, из нее торчало множество черных рулончиков. В правой руке – ножницы.
– Антуан Дун, вырезыватель силуэтов из Парижа, – проскрипел он, низко кланяясь между двумя шагами. – Господа простят, если работа моя будет не столь совершенна, как обычно. Слишком темно, а туман скрывает ваши очертания.
Тут он вытащил из сумки один из черных рулонов, развернул его и принялся усердно щелкать ножницами. Зажав силуэт под мышкой, он перешел на сторону Симона и вновь взялся за ножницы, внимательно на него поглядывая. Но вдруг остановился, усталые глаза его в ужасе выкатились из-за морщинистых век, а подбородок, изо всех сил поджимавший тонкие губы, отвис. Он снова поклонился, приотстал, смиренно согнувшись и глядя растерянно и чуть ли не испуганно. Оба мужчины в удивлении остановились.
– Монсеньор простит мою навязчивость! Я никогда бы не осмелился, если бы узнал монсеньора… Туман, ах, туман, а очки у меня сломаны…
Он сунул в руки барону листочек бумаги и растворился в тумане, не обратив внимания на монету в симоновой руке.
– Бедняга, – произнес Симон, кладя в карман монету, которая всегда была у него наготове для таких случаев. – Он меня с кем-то спутал.
Барон поднес к свету фонаря клочок бумаги, врученный ему диковинным полуночником.
– Взял он деньги? – спросил он. – Нет? А то бы я с удовольствием возместил вам расходы. Это художник.
– Он с кем-то меня перепутал, – повторил Симон.
– Сожалею, вы лишились портрета. – Барон вытащил из внутреннего кармана бумажник и заботливо спрятал свое изображение. – Да вот мы и пришли.
Они остановились перед большим доходным домом, верхние этажи которого пропадали во мгле. Над воротами горел фонарь, а дальше разверзался темный проход, куда барон без колебаний и нырнул. Симон последовал за ним.
– Держитесь правой стены. Сейчас будет двор.
Симон осторожно пробирался вперед. Шагов через тридцать стена кончилась, и он споткнулся о порог.
– Теперь прошу налево!
Барон толкнул скрипучую железную дверь и по слабо освещенной лестнице начал спускаться в подвал, не оборачиваясь более на Симона. Навстречу потянуло сырым, теплым, затхлым духом. Спускаться пришлось долго, по высоким истертым ступеням, они трижды поворачивали.
Когда же Симон, которому все предприятие понемногу начало казаться довольно зловещим, задумался, не следует ли ему остаться там, где он стоит, барон толкнул другую, совсем низенькую дверцу. Изумленный Симон услышал плеск и бульканье. Потом барон стукнул по распахнутой двери кулаком. Толстая жесть отозвалась, как китайский гонг.
И Симон тут же оказался в просторном помещении. На протянутой от стены к стене проволоке плясал фонарь, бросавший на черную воду зыбкие блики, осколки света, то тонувшие, то выныривающие вновь, как зеркальные рыбки, гоняющиеся друг за другом, резвящиеся, сливающиеся и снова исчезающие. Помещение, казалось, раскачивалось вместе с фонарем, тени ползали туда-сюда, в неверном свете пористые стены как будто дышали. Чтобы не потерять равновесие, Симон ухватился за дверную ручку. В торце то ли пруда, то ли бассейна Нептун из крупнозернистого песчаника вздымал трезубец, целясь в позеленевшего бронзового дельфина, на противоположном конце извергавшего из широко разинутой пасти струю воды. В мерцающем свете морской бог как-то по-идиотски оживал. Он кривил рот, пучил слепые глаза, а пальцы сжимались на рукояти трезубца. Пол вокруг бассейна был выложен каменными плитами. Позади извергающего воду дельфина под сводами смутно виднелись баррикады из стеллажей, ящиков, бутылей, банок, аквариумов, мебели, кучи веревок, мешков и досок.
Куча возле огромного платяного шкафа зашевелилась, приняла человеческий облик и четкие очертания. Пыхтя и шаркая, существо приблизилось и остановилось перед бароном, который ждал, отойдя на несколько шагов от лестницы и опершись на трость. Из бесформенной путаницы всяческой одежды торчал нарост, служивший головой. Ко всему, от существа разило рыбьим жиром, как от разлагающегося кита.
Прижав к носу платок, Симон отошел от дверей, в которые сквозняком несло скверный дух, к бассейну, но тут же отскочил: прямо перед ним на верхние ступеньки замшелой лестницы из воды вылезла здоровенная толстая саламандра и шмыгнула по каменным плитам к жестяному тазу, куда с некоторым трудом и забралась.
– Ну не хочет она с другими водиться, – заметило человекоподобное чудище мягким мелодичным голосом. – С тех пор, как краб недавно ущипнул ее за левую заднюю лапу, она все дуется.
– Никогда не пойму, Тимон, как это вы можете держать этакую живность в одном бассейне с рыбами, – произнес барон, качая головой. – Подобными тварями не интересуется никто, кроме бедняги Вайнхаппеля да не менее взбалмошного доктора Гугеля. Не собираюсь читать вам нотации о связях морали с методикой, но даже из коммерческих соображений вам следует раз и навсегда навести тут порядок. Правда, настоящего коммерсанта из вас никогда не получится. Да и к чему это мне? Вы приготовили заказ?
– Diodon hystrix brachiatus уже в банке. Chimera monstrosa argentea я сию секунду пересажу. Вы же знаете, теснота ей не на пользу. Извольте минуточку терпения!
Тимон прошлепал к нише, где на полке в ряд стояли колокольчики. Выбрав один из них, он ухватил большой сачок, прислоненный к обомшелым коленям Нептуна, перегнулся через край бассейна и громко зазвонил.