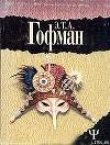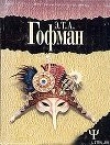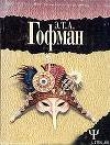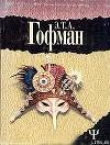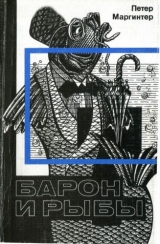
Текст книги "Барон и рыбы"
Автор книги: Петер Маргинтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Симон нерешительно повертел серо-желтую металлическую пластинку с загадочными рунами.
– Но к чему это? – спросил он. – Я хотел сказать: что вы имеете в виду?
– Он защитит вас.
Слабость Симона к духам и тайнам, усилившаяся в результате поучений г-жи Сампротти, заглушила голос разума, так что его возражения были просто отговоркой.
– Должен признаться, что не очень-то верю в подобное. Мне носить его на шнурке на шее или обвязать вокруг живота?
– На шее будет удобнее.
– А что это за знаки?
– Они показывают, из чего, когда и зачем сделан амулет. Ваша недоверчивость делает вам честь, но она совершенно беспочвенна. Назначение и действие таких амулетов объясняются просто: металлы и минералы, из которых они изготовлены, испускают определенное излучение, окружающее их – и все прочие предметы – так же, как мякоть плода окружает косточку. Частота излучения с помощью предоставленных мною данных настроена на вас. Если вы станете носить амулет на груди, то в зону излучения попадут органы, наиболее важные для вашего дальнейшего развития, прежде всего – диафрагма. Разумеется, действие такого амулета не влечет за собой последствий для физической природы. Это своего рода катализатор, одним своим присутствием ускоряющий одни и замедляющий другие процессы. Вы доставите мне большую радость, если примете этот маленький знак внимания.
Она вдела в ушко зеленый шелковый шнурок и вручила амулет вежливо поблагодарившему Симону. Он накинул шнурок на шею и заправил под галстук и рубашку прохладную металлическую пластинку.
***
Следующей же ночью произошло нечто такое, что Симон связал с амулетом. Во всяком случае, по серьезном размышлении. Так или иначе, однако приступ – снова один из этих приступов – наводил на серьезные размышления.
Он рано лег спать, поскольку на следующий день спозаранку собирался в Аруну, рекомендованную Кофлер де Раппом как чрезвычайно занимательное место. Луна взбиралась по нечесаной иве, а за печкой скреблась мышь: кошки в доме не было, поэтому мышей развелось великое множество. Окно было открыто. Ночь стояла почти по-летнему теплая и очень тихая. Симон в пижаме вытянулся поверх одеяла, выкурил трубочку и ждал, когда придет сон.
И вдруг почувствовал, как его тело медленно поднимается. Сперва всего на несколько миллиметров. Он, весивший добрых семьдесят пять кило, становился все легче. Некоторое время еще чувствовалась упругость пружин и конского волоса, но скоро лопатки оторвались от простыни, и Симон ощутил спиной прохладу воздуха. Затем поднялись ноги, последним от постели оторвался зад. И теперь Симон совершенно свободно парил над кроватью. Без малейшего его участия тело вновь приняло горизонтальное положение, и колышущиеся волны понесли Симона все выше и выше. Он ясно чувствовал, как их верхушки пробегают вдоль позвоночника. При этом парение доставляло большое удовольствие, и Симон был уверен, что случится нечто совершенно исключительное и замечательное.
Когда Симон позже обдумывал происшедшее, ему казалось, что намек на нечто подобное уже содержался в предшествующих приступах, а именно – отделение от себя самого и оставление тела, только теперь все счастливо свершилось и завершилось, а прежде то неведомое, что стремилось вырваться из него, тянуло за собой тело. Симон был ужасно взволнован величественной победой над гравитацией и, паря в вышине, чувствовал потребность благословлять, миловать или внимать крикам ликования.
Его ноги уже почти коснулись латунной люстры, один из рожков которой был прямо над изножьем кровати, как в комнату вошла Теано.
– Ой, Симон, что ты там делаешь? – испуганно взвизгнула она. После вполне уместного вопроса чудо немедленно кончилось. Симон со всего маху плюхнулся на кровать. Со звоном соскочили две пружины и сквозь простыню вонзились ему в крестец. Сев, он в замешательстве поглядел на Теано. Она молча выбежала из комнаты.
В кабинете Саломе Сампротти еще горел свет, а сама она в расшитом звездами шелковом халате восседала в богато украшенном резьбой и позолотой кресле. Теано остановилась перед ней, стуча зубами.
– Он ле-летал, – пролепетала она, указывая на Симона, растерянно стучавшегося в открытую дверь.
– Так-так, – спокойно отвечала тетка. – Входите же, г-н доктор. После загадочного сообщения племянницы мне хочется узнать от вас подробности. Вы действительно левитировали?
– Левитация! {128} – с облегчением вскричал Симон. – Да-да, это именно то слово, что никак не приходило мне на память! Не знаю, левитация ли это на самом деле. Надеюсь, великая ясновидящая Сампротти мне все растолкует.
– Запоздалое признание, – кивнула она. – Вы превзошли меня, Симон. То, что вы учудили нынче ночью, не имеет уже ничего общего с причинами и следствиями. Разумеется, я поняла, что вы летали. Но как вам удалось? Я имею в виду: что вы для этого сделали?
– Я? Ничего.
– Честное слово?
– Зачем мне вас обманывать? Я вдруг ощутил необычайную легкость и парил над кроватью, пока не ввалилась Теано.
Саломе Сампротти снова кивнула и, взяв с табурета рядом с креслом граненый хрустальный шар величиной с кулак, стала задумчиво перекатывать его из руки в руку.
– Так вот как все-таки, – тихо сказала она себе под нос. – Ну и глаза будут у бедняги Гиацинта! Этому нельзя научиться. Чем весомее события прошлого, тем изысканнее их грань, чем богаче опыт минувшего, тем выше вероятность прорыва. Поистине, это уж слишком.
– Слишком?
Она схватила Теано за руку и встряхнула ее.
– Идиотка, – прошипела она, – что тебе нужно от этого господина – в ночной-то рубашке? Что тебе нужно в постелях, над которыми летают?
Худое лицо Теано запылало. Она молча поглядела на свою прозрачную рубашку и босые ноги.
– Сударыня… – попытался вмешаться Симон.
– Молчите! – оборвала его Саломе Сампротти. – Отведите мою племянницу туда, где ей самое место: в ее собственную постель. И спокойной ночи!
– Ты ведь все знала! – Теперь Теано кричала. – Ты все знала! Все!
Г-жа Сампротти быстро подошла к тяжелым бордового бархата шторам и рывком их раздвинула. Свет упал на голые пока ветви платана, меж ними в темной ночи сверкали звезды, как драгоценные камни.
– Ясновидящие страшно много знают, детка, – сказала г-жа Сампротти мягко. – И ничего не могут поделать. Прости меня, малышка, нелегко – знать все и молчать. Твой Симон подержит тебя за руку, пока ты не уснешь.
– И нет никакой возможности избежать будущего? – спросил Симон.
– Нет, абсолютно никакой, – ответила она, пожимая плечами. – И ВЫ меня еще спрашиваете?
***
Храм Господа Бога Нашего Владыки Времени в Аруне – одно из излюбленнейших мест паломничества в окрестностях Пантикозы. Чудотворная икона, к которой совершаются паломничества, изображает Воскресение Спасителя с нимбом в виде циферблата часов и с середины пятнадцатого века привлекает прежде всего благочестивых естествоиспытателей, направляющихся к Святому Иакову Компостельскому {129} . Своеобразная святыня дает основания предполагать, что жители Аруны с давних пор находятся со временем в особых отношениях. Как бы то ни было, но в начале семнадцатого века арунский механик и философ Артидо Виана опубликовал труд с заглавием, как тогда полагалось, длиной в добрый метр, завоевавший позже известность под названием «Идентичность и одновременность» и послуживший Эйнштейну отправной точкой при создании теории относительности.
Артидо Виана был и оставался единственным из сынов Аруны, написавшим когда-либо книгу. Вряд ли арунцы были в состоянии постичь его глубокие мысли, но сам факт, что книга Вианы была даже напечатана, настолько потряс их, что они поручили бургомистру скупить весь первый тираж в 1623 году. За исключением нескольких затерявшихся экземпляров он и посейчас целиком в Аруне, а в некоторых домах хранится даже по три-четыре первоиздания Вианы. В Аруне труд Вианы без затей называют «Книга», и простые крестьяне, ремесленники и трактирщики чтут его как Библию. А с тех пор как ввели обязательное посещение школы, ее и на самом деле читают, и каждый юный арунец, в которого деревенский учитель успел вколотить азбуку, по большим праздникам под бдительным оком главы семейства разбирает по слогам «Идентичность и одновременность». Разумеется, никому не понять ни строчки, поскольку Виана написал книгу на латыни, как все серьезные ученые его времени.
Однако через несколько поколений после Вианы тогдашнему деревенскому священнику пришла гениальная мысль: перевести на испанский наиболее удобопонимаемую главу книги «De Horologiis» {130} , и именно ему Аруна обязана своей последующей известностью среди туристов, а следовательно, и визитом Симона. Добрых арунцев восхитила мысль, что нет в мире двух часов, которые бы показывали в точности одинаковое время, ведь даже солнечные часы отбрасывают тень в конечном счете по-разному. Одновременно их убедил вывод Вианы: среднее время от показываемого возможно большим количеством часов и, собственно, не поддающееся определению и есть точное время.
Но арунцы не удовлетворились абстрактной радостью по поводу этого хитроумного открытия, они решили на практике проверить постулат Вианы о неточности часов, то есть предпринять практическую попытку уловить теоретически точное время. Еще при жизни Артидо Вианы его племянник Мануэль Виана начал собирать всевозможные часы: причуда, ставшая после перевода главы о часах общей страстью арунцев. Напрасно епископ Ургельский выступил против этой в общем-то безобидной мании в пастырском послании «Aeternitas nondum» [26]26
Еще не вечность (лат.).
[Закрыть]и попытался разъяснить своим заблудшим овечкам значение вечности. В Аруне есть дома, состоящие почти целиком из часов. Шпеньки бесчисленных солнечных часов щеткой покрывают их фасады; пустотелые стены полны шестеренок; повсюду – капель водяных часов; в темных чуланах мигают огневые часы; в каждом саду подпорки для роз и бобов украшены песочными часами, а отдельные фанатичные коллекционеры даже на крышах понаделали ветряных часов, отличающихся особой неточностью.
В центре местечка на невысоком холме стоит церковь. Тень стройной башни служит стрелкой гигантских солнечных часов, а циферблат их высечен на плитах террасы, пристроенной к церкви с севера и востока специально для этой цели. С террасы открывается прелестный вид на Гванокотал и гряду Пиренеев. Тень церковной башни показывает точное арунское время, по нему деревня и живет.
Жителям Аруны едва ли приходит в голову, насколько любопытное у них увлечение. Они пасут своих коров и овец, возделывают скудные поля, выращивают на южных склонах кислый виноград, рано отправляются спать, а по воскресеньям – к мессе. Необычно, правда, что крестьянка, которая возится в своем садике с овощами или цветами, вдруг быстрым движением переворачивает песочные часы или что босоногий мальчонка тащит к водяным часам огромное ведро воды. После ужина отец семейства с тяжелой связкой ключей совершает обычный обход, заводит повсюду часы и с тихим удовлетворением констатирует, что они идут все же вразнобой. Но для часов в Аруне главное – что они идут, а не то, что они показывают время не точно, ведь Артидо Виана доказал уже, что точное время невозможно.
***
В годы туристического бума, «великого переселения народов», на обложке одного из изданных Министерством туризма Испанского Королевства проспектов был изображен крестьянин из Аруны в окружении горы часов и в таком виде проект был разослан всем занимающимся туристским бизнесом учреждениям и учрежденьицам. На Аруну обрушился шквал любопытных. Тогда муниципалитет заказал одной известной часовой фабрике в Ла-Шо-де-Фон несколько вагонов часов с кукушкой. На створках, закрывающих окошечко, из которого каждый час выскакивает кукушка, изящным шрифтом, накладными буковками было выписано «Аруна». [27]27
«Испанский Тик-так» (фр.).
[Закрыть]Часы шли нарасхват. Таким образом часовая фабрика и деревня заключили сделку века. Аруна обзавелась уличными фонарями, самым современным пожарным насосом и детским садом.
А когда наконец примечательной деревенькой заинтересовался один немецкий иллюстрированный журнал, в Аруне приступили к постройке богадельни. Но увы, к началу эры оседлости успели возвести только стены, ставшие с тех пор благодарным поводом для полемики во время избирательных кампаний. Несмотря ни на что, большинство арунцев были рады вновь без помех предаваться своей страсти. Как и прежде, дополнительные доходы Аруне приносили паломники. Любители розыгрышей обходили Аруну стороной с тех пор, как там до полусмерти избили одного из них, кому выпало принести часы из Аруны.
Гуляющих вроде Симона арунцы причисляли к паломникам и относились к ним с добродушной снисходительностью, с какой всегда относятся к чужакам непосредственно сподобившиеся благодати. Подход хотя и обобщенный, но в принципе верный, поскольку ни один из посетителей этого сорта (а их и раньше никогда не путали с туристами по причине спокойного и солидного поведения) не упускал случая поклониться святыне. Ими даже дорожили, поскольку в отличие от паломников они не тащили с собой в узелке большую часть дорожной провизии, а покупали ее у лавочника, не то заходили в один из многочисленных трактиров.
Симон утолил голод в несколько запущенном отеле «Au Tic-Tac Espagnol» [27]27
«Испанский Тик-так» (фр.).
[Закрыть]у церкви. Пока грустный официант обслуживал его, он сидел под потрепанным зонтом и размышлял о событиях прошлой ночи. Все, кто первый раз в жизни летает без всяких аппаратов и физических фокусов, непременно задумываются об этом на следующий день. Не просто жирное, но к тому же еще и жесткое баранье жаркое располагало к медитации.
Без сомнения, летать – занятие очень приятное, если делаешь это по собственному желанию. Именно на это обстоятельство г-жа Сампротти и намекала. Он столь мало был повинен в левитации, что именно поэтому чувствовал себя виноватым, полагая, что все остальные: барон, Пепи, г-жа Сампротти, Теано, вся Пантикоза и Аруна будут косо поглядывать на него, как на баловня слепой судьбы. Если бы он заслужил этот двусмысленный подарок, если бы завоевывал каждый сантиметр упорными тренировками! Последовавшее за появлением Теано падение его абсолютно не смущало. Удивительно, но он был твердо уверен, что теперь, когда ухватил фортуну за косу, все остальное – дело упражнения. Но как бы чистосердечно он ни старался объяснить другому принципы полета, ему это не удалось бы. В детстве в книжках о путешествиях он читал об аскетах, которым после долгих лет поста и молитв удавалось на метр-другой подняться над землей, но только напрягая все силы и на несколько жалких секунд. Как показал случай с Теано, собраться ему тоже необходимо, но только от него зависит, как высоко и далеко он полетит и полетит ли вообще. Но почему – оставалось неясным. Просто так – и все. Ему открылось, буквально, новое измерение, а он вдруг почувствовал, словно что-то утратил. Печальный официант только головой покачал, когда Симон сунул ему в руку крупную купюру и, не попрощавшись, устремился к церкви.
Паломников в церкви не было. Причетник с метровой длины метлой шаркал по левому приделу, сметая пыль с алтарей. Он буркнул что-то неприветливое, но вскоре согласился на подкрепленную некоей суммой вежливую просьбу Симона открыть крипту {131} , где хранилась икона.
Крипта представляла собой низкое помещение с опирающимся на грубые колонны сводом, насквозь пропахшее ладаном. Христос с циферблатом венчал варварски раззолоченный алтарь, перед ним между трехногих серебряных подсвечников стояли трогательно-беспомощные банки из-под варенья с букетами полевых цветов. Прохладная тишина, стоявшая под землей, цепенила, и Симону, преклонившему колени на жесткой скамеечке и молившемуся про себя, казалось, что она ложится ему на сердце. Он расстегнул пиджак, хотя было и не жарко.
Между алтарем и лестницей наверх, как раз посреди крипты, стоял открытый римский саркофаг, точь-в-точь такой же, как виденный Симоном в окрестностях Пантикозы в роли водопойной колоды. Но здесь задача у него была иная. Он почти доверху был полон дарами, приносимыми по обету, главным образом всевозможных размеров и форм часами, а также изображениями солнца и планет из золота и серебра. Среди часов Симон разглядел даже маленькую, тонкой работы астролябию {132} . Он в замешательстве разглядывал их сквозь частую решетку, защищавшую благочестивые приношения от дерзких посягательств.
И тут Симон сделал нечто очень странное, чему долго потом не мог найти объяснения. Он вдруг понял, что не может уйти, не внеся своей лепты в сокровища саркофага. Сначала он подумал о часах, но они были слишком велики и не пролезали, а ему не хотелось звать причетника или тем более священника, чтобы отомкнуть тяжелый замок, запиравший решетку. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака бумажник, из бумажника – проветренную, но все еще слегка попахивающую чесноком записку прелестной кузины: «La Hirondelle, Aix en Provence, 27ième juillet 1832 Minuit precis», скатал ее в трубочку и просунул сквозь решетку. Увидев, как она приземлилась между золотыми дамскими часиками с эмалью и дорогим хронометром какого-то футбольного орбитра, он тут же пожалел о содеянном. Он так рассердился, что чуть не забыл преклонить колени перед алтарем. Еще не сойдя с террасы перед церковью, он занес послание кузины в записную книжку: на тот случай, если когда-нибудь попадет в Прованс.
В обратный путь он пустился в элегическом настроении, размышляя о бренности и смысле бытия, пока не заметил на развилке указатель с черной рукой, вытянувшей палец в сторону Терракиты. Конечно, он не упустил возможности осмотреть эту известнейшую фабрику по производству яиц из известняка.
Уже со следующего поворота содержавшейся в большом порядке дороги он приметил элегантную трубу в виде коринфской колонны, над акантовой капителью которой поднимались рыжеватые облачка дыма. Директор лично познакомил любознательного иностранца со всеми стадиями производственного процесса, начав с осмотра в подзорную трубу находившейся в нескольких километрах каменоломни. За ним последовали мешалки, модельные мастерские и печи для обжига, а завершилась экскурсия гордостью фирмы, выставочным залом, где можно было осмотреть наиболее удачные изделия. Яйца, продемонстрированные Симону, были так похожи на настоящие, что он охотно поверил в историю о белой наседке породы леггорн, высидевшей в голландском местечке Бокельдам настоящую известняковую курицу, недолго, правда, прожившую. На память Симон купил у усердно улыбавшегося и потиравшего руки директора «Настоящее яйцо из Терракиты», решив в порядке эксперимента подложить одной из куриц г-жи Сампротти произведение искусства, роскошно упакованное в выложенный бархатом кожаный футляр.
Скромное совершенство яйца, болтавшегося в изящном сверточке у него в левом кармане, вернуло Симону временно пошатнувшуюся веру в людей и будущее. Прекрасно и бесконечно творение, а человек тщится встать над ним. Маленькое яйцо из известняка – символ борьбы и непременной, хотя и далекой пока, победы. Высокие цели барона и его соратников, чудеса техники и возвышенные произведения искусства – все было в яйце, все выводилось из идеи яйца. Нет, ни одной курице не будет позволено осквернить его своим хвостом!
***
Когда Симон вошел во двор Дублонного дома, навстречу ему бросилась Теано и сообщила доставленные самолично г-ном городским врачом новости о том, что тяжело больной барон найден в лачуге пастуха недалеко от Иркиды.
– Господи! – воскликнул Симон. – А Пепи?
Теано со слезами на глазах пожала плечами:
– Понятия не имею. Тетя уверяет, что он умер, тело его в этой отвратительной пещере, а душа на небесах, он ведь был хорошим человеком! О Симон, ну почему же так! Почему тетя со всем своим ясновидением не смогла этого предотвратить?
– Ты же сама видела: она пыталась, на этом самом месте во дворе, до того, как они ушли.
– Слишком поздно! Если бы она раньше…
– Не думаю, что она вообще могла бы успеть. Вчера она сказала правду. Так Пепи умер!
– Ты действительно думаешь, что она и на этот раз права?
– Он умер! – Симон стиснул зубы; ему стыдно было влажной полоски на щеке. – Знаешь, он был тут моим единственным другом. Бароном я восхищаюсь, но Пепи… Пойдем со мной к врачу?
Врач вырвал листок из книжки с бланками рецептов и нарисовал Симону во всех подробностях, как добраться до пастушьей хижины, где его барон уже много дней в беспамятстве боролся с лихорадкой.
– А у большой ели повернете налево, – объяснял он. – И метров через пятьдесят увидите лачугу. Надеюсь, вы еще застанете барона в живых. Если да, то давайте ему через каждые два часа по пилюле.
Он вручил Симону план и запечатанный пузырек, полный фиолетовых шариков, сообщил, что завтра с утра зайдет сам, и вернулся к пациенту с распухшей щекой, испуганно съежившемуся в черном кресле.
***
– Ты знаешь, где тут можно нанять лошадь? – спросил Симон у спутницы, выйдя от врача.
– Знаю, у мясника. Но если ты отправишься сейчас, то доберешься до места глубокой ночью. Я спрошу тетю, не отпустит ли она немого, он те места очень хорошо знает. Он был браконьером.
Тетя, разумеется, не отказала, и через полчаса Симон и немой слуга бок о бок мчались вперед в сгущающихся сумерках. Слуга держал в руке рисунок врача и удовлетворенно хмыкал у каждого из ориентиров, пока не стало ясно, что они безнадежно заблудились. Жестами он объяснил Симону, что в этакой тьме на плане врача ничего не разобрать. Симон попытался припомнить, как врач описывал дорогу, но в этом не было никакого смысла: местность была совершенно не похожа на ту, что была описана. Он рассердился на бравого медикуса, не сообразившего посоветовать ему ехать через деревню, которую, без сомнения, было гораздо легче найти. Наконец они добрались до какого-то перекрестка. Направив коня к дорожному указателю, Симон при свете спички попытался разобрать следы стершихся букв, въевшихся в гнилое дерево.
– МОРОМПАСТО: Моромпасто, – прочел он по складам. – Гве-ла. Саль-ТАРЕС. Друг мой, ты не только нем – это, в общем-то, простительно, – ты еще и осел!
***
Первый замеченный ими огонек оказался свечкой, зажженной перед образом Божьей Матери, прибитым прямо к большому каштану. Симон снял шляпу, почтительно осенив себя крестным знамением перед этим свидетельством сельского благочестия.
– По крайней мере, тут живут люди, – вздохнул он.
Вскоре с темного склона холма донеслось сонное: «Б-э-э!» И хотя было совершенно очевидно, что это не крик человеческой души, он придержал коня и прислушался.
– Эй!
В ответ – яростный лай. На них кинулся черный-пречерный клубок, и лошади в испуге встали на дыбы.
– Кто идет? – раздалось из кустов.
– Двое заблудившихся путников.
Как то чаще бывает в жизни, чем в книгах, случаю было угодно, чтобы в кустах оказался именно тот пастух, что приютил барона. И встреча совершенно не удивила его, поскольку ночь и горы он знал лучше, чем собственный дом.
– Следуйте за мной, сеньоры, – сказал он вежливо, взял лошадь Симона под уздцы и повел ее за собой.
В темноте избушка походила на темный кристалл. Пастух предложил Симону спешиться и постучал. Из-за двери донеслось шарканье шагов, заскрипел засов, и на пороге появилась босая жена пастуха в ночной рубашке.
– Пошла вон, женщина, – велел пастух, забирая у нее фонарь. – Входите, сеньоры!
Он первым прошел через темную кухню, тихо колыхавшуюся в такт дыханию спящих ребятишек, откинул дырявую занавеску и впустил их в комнату больного.
Когда свет фонаря упал на лицо барона, тот осторожно приоткрыл глаза.
– Симон, – простонал он.
– Гляди-ка, заговорил, – удивился пастух.
– Иди сюда, Симон, – прошептал барон.
Потрясенный Симон опустился на колени у постели.
– Пепи умер.
– Я знаю, г-н барон.
– Я тоже почти мёртв.
– Нет, г-н барон! Доктор кое-что для вас прислал. – Симон вынул из кармана пузырек, сломал печать и вытряхнул на ладонь шарик. – Принеси воды, – велел он немому, стоявшему в замешательстве у постели.
– Г-н барон, вы сможете это проглотить?
Барон молча открыл рот, высунул бледный язык, и Симон положил на него пилюлю. Потом приподнял ему голову и дал запить. От глотка судорожно дернулся кадык, казавшийся на похудевшей шее узлом. Барон закрыл глаза и упал на подушку.
– Я разбужу вас, когда нужно будет принять следующую, – произнес Симон.
Барон чуть заметно кивнул. Симон взглянул на немого:
– Ну, олух, а с тобой что делать? Подождешь до рассвета или поедешь сейчас?
Немой бросил на него мрачный взгляд, завернулся в плащ и уселся на грубую лавку возле окна. Симон последовал его примеру. Но прежде подвинул к лавке стол, поставил на него фонарь и положил свои часы. Потом достал из кармана пальто колоду карт, перемешал их и начал раскладывать в круге света от фонаря пасьянс «Наполеон». Морща лоб, углубился в сложные комбинации. Тем не менее пасьянс занимал его ровно на треть. Внимание делилось между картами, часами, показывавшими, когда давать следующую пилюлю, и удивительными снами наяву, в которых он под аккомпанемент флейты кузена в белом танцевал менуэт с незнакомыми кузинами в старомодных туалетах. От тяжелого, спертого воздуха кружило голову. Один раз он чуть не упал с лавки.
Вздохнул с облегчением, когда наконец из темноты появилось серое пятно окна.
***
На рассвете Симон вышел на мокрую от росы лужайку перед хижиной и, покуривая трубку, глядел, как встает солнце. Когда колокол деревенской церкви в долине зазвонил к заутрене, а семейство пастуха в передней комнате выбралось, сопя и зевая, из-под одеял, он сунул женщине в руку монету и спросил чашку горячего молока, хлеба и сыра.
В восемь появился врач, привязал лошадь к ставне и протопал в комнату.
– Доброго утра, г-н доктор! Доброго утра, немой! – громко сказал он. – Как наш барон? Вы давали ему пилюли, как я велел?
Сев подле больного на край постели, он уже собирался приложить к его груди стетоскоп, как барон открыл глаза и облизнул пересохшие губы.
– Вы врач? – тихо спросил он.
– Я – городской врач и медикус Пантикозы, – представился врач. – Просто великолепно! Не ожидал, что вы уже сегодня придете в себя. Вы, правда, сделали все для того, чтобы отойти в вечность, но теперь я полон решимости сохранить вас миру еще на пару десятилетий. С вами, судя по всему, не так-то легко справиться. А теперь повернитесь-ка, я сделаю вам укол.
Симон играл ту же роль наблюдателя, что накануне – священник. С коротким чмоканьем красноватое содержимое шприца проникло в баронскую ягодицу. Врач вытащил иглу и вытер кровь смоченной в спирте ваткой. Потом отдал Симону распоряжения касательно предстоящего дня:
– После вчерашнего кризиса пациент на пути к выздоровлению. Кроме лекарств, их я вам оставлю, он нуждается прежде всего в покое и усиленном питании, однако не слишком обременительном для желудка: бульон и мадера с желтком и сахаром. Смотрите, даже нога уже почти нормального цвета. Если что-нибудь случится, посылайте за мной в любое время. Это не дешево, зато надежно, хе-хе. – Он с интересом взглянул на пасьянс, оставшийся разложенным на столе. – Ах, Наполеон! Будьте осторожней в выражении ваших симпатий, корсиканца тут не любят! Кстати – г-жа Сампротти дала мне письмо для вас.
Симон выхватил у врача конверт. Чуть ли не разочарование охватило его, когда он узнал почерк отца, хотя это было первое письмо из дома с тех пор, как он попал в Испанию. Явившийся ему восхитительный образ кузины приобрел, к вящему разочарованию Симона, нос картошкой и добрые подслеповатые глазки папаши Айбеля. Мундштуком трубки Симон вскрыл конверт.
Дорогой сын!
Я счастлив спустя столь долгое время узнать, где Ты. Были дни, когда я искренне проклинал Твое скоропалительное решение отказаться от надежного положения государственного служащего, последовав за идущим захватывающей стезей ученым. (Слава ему! Гип-гип ура! Пусть-ка цензоры это прочтут.) Но узнав, как беззастенчиво и омерзительно обманывало меня всю жизнь это государство, я могу лишь настоятельно советовать Тебе, если Ты вновь окажешься на распутье: прочь, прочь от этих кровопийц! Внезапным изменением образа мыслей я обязан очень простому соображению. Я вычислил, что налоги с жалованья, за которое я продавал свой труд, то есть со всех тех сумм, что я получил за сорок лет службы, гораздо больше, чем моя пенсия за четверть столетия. Государство получило от меня колоссальный заем и не думает погашать его: оно задолжало мне почти два миллиона! Осознав сей потрясающий факт, я немедля отправился в Вену и навестил старого приятеля из Управления тарифов и заработной платы, Венцеля Набилек фон Волькенбруха. Сперва он только глупо таращил глаза, потом побледнел и пролепетал: «Что это тебе пришло в голову! Так и каждый придет – а у тебя же есть пенсия!» Но об этом-то и речь! Когда выяснилось, что Набилек совершенно непрошибаем, я пошел к д-ру Вайсниглю, вместе с которым Ты учился и который стал теперь весьма известным адвокатом. Он признал мою правоту, но умолял не потрясать основ государства. По-моему, для адвоката – странная точка зрения, но он воззвал к моему патриотизму и добился-таки, что я уехал домой, не предприняв дальнейших шагов. Но теперь я знаю: Ты был прав!
А в Вене очень неспокойно. На Восточный вокзал прибыл знаменитый анархист и бомбометатель Арфам Карахмандельефф в сопровождении двух слонов и тридцати одного верблюда, телохранителей и толпы распущенных особ женского пола: их он декларировал как баядерок. Оппозиция отнеслась к его приезду абсолютно спокойно, но то, что финансирует этого субъекта именно она, – секрет Полишинеля.
В остальном у нас все хорошо. Выдался замечательно урожайный на грибы год, мы с матерью здоровы. Нас радует, что гроза, собирающаяся над столицей, не достигнет нашего тихого уголка. Боже, храни нашего бедного императора!
Прежде чем кончать, хочу совершенно серьезно сказать Тебе кое-что еще. Нас радует, что Ты здоров и что Пантикоза Тебе нравится. Но не пора ли подумать о собственном доме и семье? Если девушка, которой Ты, как кажется, интересуешься, порядочна и из хорошей семьи, я бы только приветствовал, если бы Ты серьезно подумал об этом. Ведь она, вероятно, унаследует дом своей тетушки, а Испания, хоть она и так далеко от нас, страна неплохая. В микологическом отношении окрестности Пантикозы должны быть очень интересны. Мы с мамой с удовольствием приезжали бы к Тебе в гости. При случае подумай об этом!
По-прежнему любящий Тебя
отец.
А матушка Айбель писала:
Мой дорогой взрослый сыночек!
Как Ты только мог так долго не писать нам? Я, конечно, понимаю, Ты наверняка страшно занят, раз Тебе теперь приходится так много путешествовать, но мы очень беспокоились. Хорошо, что холодной зимой Ты на юге. Отец хочет, чтобы Ты подумал о женитьбе, а я могу сказать одно: подумай хорошенько! Мне бы хотелось, чтобы Ты был счастлив так же, как мы с отцом. Когда Ты вернешься?
Обнимаю Тебя.
Мама.
«Ого!» подумал Симон. Читая письмо во второй раз, он прочел и то, что было между строк. Как бы там ни было, а Дублонный дом он бы унаследовал с радостью.