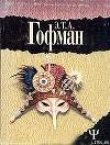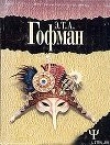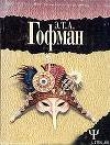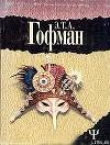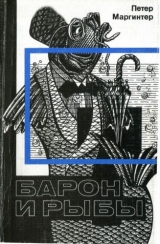
Текст книги "Барон и рыбы"
Автор книги: Петер Маргинтер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
У врат этого псевдопарадиза Симон скромно произнес: «Нет, спасибо». Он не попался на приманку неограниченной свободы, она не по вкусу г-ну доктору Айбелю. Элизий {170} оказался просто комфортабельной преисподней, где любой аппетит пресыщался превосходящим всякое воображение количеством всяческих удовольствий и приятностей, а обитатели его погружались в цепенящий сон, уже бесследно поглотивший древних богов. Чай быстро надоедает. Поначалу еще предпринимаются попытки вербовать новых блаженных, назначать опасные рандеву смертным, изобретать изысканные игры и любовные интриги с собственными правилами. Как учит античная мифология, наиболее длительной притягательностью обладает сексуальность. А потом все: все известно и все доступно, но ничего не хочется, ну совершенно ничего. Это хуже смерти.
Велика доблесть Симона, не заразившегося, несмотря на почти неодолимое искушение, вкрадчивым недугом бессмертных. Безграничную свободу, доставшуюся ему по прихоти природы, он использовал только для того, чтобы от этой свободы отказаться: разумеется, такая возможность была ему предоставлена тоже. Без долгих колебаний он решил раз и навсегда остаться человеком Симоном и вести совершенно нормальную, полную опасностей человеческую жизнь. Status quo ante [30]30
Прежнее положение вещей (лат.).
[Закрыть]был восстановлен. И похоже, он стал примером для подражания. С тех пор как боги повадились сбегать в люди, Олимп осиротел.
Вообще говоря, принимая столь скоропалительное решение, Симон не учел некоторых деталей. Так, вовсе не было сказано, что с отказом от божественности он должен разучиться летать, ведь на начальных стадия полет – искусство, абсолютно человеческое. Вот и Симон научился ему тогда, когда еще мог считаться совершенно нормальным смертным, к тому же глубоко в каждом из нас таится зерно бессмертия, а любой Геркулес рано или поздно оказывается на распутье. Симону иногда, в минуты наивысшего восторга, хотелось и дальше подниматься в воздух, но ненадолго и не бесцельно. Конечно, тот, для кого расстояний не существует, может с таким же успехом ходить пешком, но старый добрый образ пешего хождения, от шага до бега сломя голову, превращается в бессмысленный ритуал, если его выбирают не по причинам, диктуемым необходимостью. Симон хотел быть человеком: ходить пешком, уставать от ходьбы, спать и не знать, что принесет грядущий день.
Отказ был безоговорочным, иначе он и не состоялся бы, а снести его Симон смог только потому, что одновременно забыл все, связанное с богами, сверхъестественными силами и самозванными родственниками.
***
– А что стало с письмом, которое я обработала чесноком? – осведомилась Саломе Сампротти.
– Я его выбросил, – соврал Симон, постеснявшись признаться, чтó он сделал с ним на самом деле.
– Надеюсь, в подходящем месте. Так вам действительно нечего мне сказать?
– К моему прискорбию, сударыня. Если бы я не помнил точно, что был в саду…
– Но перед этим вы летали с Теано?
– Да. Было очень красиво.
Под рубашкой Симон нащупал амулет. Он вытащил его и собрался было вернуть г-же Сампротти, но она попросила сохранить его. Выдержанное испытание не было ни последним, ни самым трудным. Впереди еще долгая жизнь.
– Помощи от него немного, – сказала она, – но мы, старики, привержены традициям. Наденьте его своему ребенку и расскажите ему обо мне. Может, ему понравится.
***
Симон задумчиво глядел на кусты, за которыми пряталась Теано, выжидая, когда ей можно будет вернуться в замок. Ждать ей оставалось недолго. На зубчатой крыше появился вырезыватель силуэтов в ливрее с развевающимися фалдами, замахал огромной пыльной тряпкой и прокричал что-то неразборчивое. Хозяева, бурно обсуждавшие на лужайке происшествие с Симоном, подняли глаза.
– Он крикнул «рыба»? – спросил Симон.
– Что случилось, Дун?
Дун исчез с крыши и через несколько секунд уже мчался по мосту им навстречу. Запыхавшись, он столкнулся с ними перед рвом. И Теано любопытство выманило из кустов.
– Рыба – барон – он шевелится! – только и сказал Дун.
– Так он не умер? – вскричал Симон.
– Наверху, в умывальнике, в комнате г-жи Сампротти! Я принес банку, он ведь не мог оставаться в тазу, хотел переложить его в банку, воды налил, хоть и думал, что он умер. А он плавает, как ни в чем ни бывало! Узнав меня, он махнул плавниками и высунул голову их воды. Да идемте же!
Симон первым кинулся в замок, за ним – остальные. На мосту остался лежать лишь стонущий Гиацинт ле Корфек. Он споткнулся о зонтик Саломе Сампротти.
Перед умывальником все остановились почтительным полукругом. Симон, в качестве секретаря барона лицо для этого наиболее подходящее, нерешительно кашлянул и осторожно шагнул к тазу. Барон, сардина длиной в пядь, подплыл к нему, поднял рыбью свою голову и поглядел на него невыразимо немыми рыбьими глазами!
– Дорогой барон, вы не умерли? – выдохнул потрясенный Симон.
В знак того, что он жив, барон высоко подпрыгнул. Только вода брызнула во все стороны, когда он плюхнулся обратно в таз.
– Прелестно! – пролепетала Теано.
– Дура! – буркнула Саломе Сампротти.
– Каким образом мы могли бы объясняться с ним? – задал практический вопрос Томас О'Найн.
– Дайте мне лист бумаги, – попросил Симон. – Посмотрим, сможет ли он читать.
Барон фон Тульпенберг вытащил из кармана рясы блокнот, вырвал листок и подал Симону.
– Что мы ему напишем? – полюбопытствовала Теано.
– Не голоден ли он, – предложила Саломе Сампротти.
Симон написал на листке: «Вы хотите есть?» и поднес его к краю таза. Барон коротко глянул, потом недвусмысленно разинул ротик.
Симон вспомнил, что незадолго до своей мнимой смерти барон пытался схватить муху. Поэтому написал дальше: «Хотите муху?» Барон выразил одобрение.
После чего вся компания отправилась охотиться на мух. Но хитрые насекомые явно предвидели такой поворот событий. Замок обыскали от подвалов до чердаков – безуспешно! Мокрица, добытая хоть и хромавшим после падения на мосту, но отважно участвовавшим в облаве Гиацинтом ле Корфеком, была бароном с отвращением отвергнута. Тогда Симону пришло в голову предложить голодающему другие яства. Он написал: «Крошки?» Особого восторга барон не выразил, но и не отказался. Теано уже поспешила на кухню, как явился Дун и гордо протянул на ладони горку белых муравьиных яиц. Лакомство для барона.
– Дун, я прибавляю вам жалованье! – вскричал в восторге барон фон Тульпенберг.
Барон мигом проглотил яйца и энергичными движениями хвоста дал понять, что его аппетит еще далеко не удовлетворен. Дун пошел в сад, дальше раскапывать муравьиные гнезда, а Симон письменно осведомился у барона, как тот относится к червякам. Барон выказал живой интерес. Однако в этот день ему пришлось удовлетвориться муравьиными яйцами, поскольку единственный дождевой червяк, которого в спешке удалось добыть, был едва ли для него съедобным: длиннее самого барона и ужасно толстый. Правда, казалось, что получив вторую, весьма обильную, порцию яиц барон насытился.
Тем временем наделенный организаторскими талантами барон фон Тульпенберг распоряжался по дальнейшим поставкам продовольствия. Муравьиными яйцами в будущем предстояло заняться Симону с Теано; Дуну было поручено утром отправиться насобирать червей в иле замкового рва (в высшей степени отвратительное занятие); он сам и остальные двое хозяев направлялись на передовую: на ловлю мух. Учитывая неуклюжесть Саломе Сампротти, ее в диспозицию не включили. Ей поручалось сидеть у таза и ждать, не выразит ли барон еще каких желаний. И все призвали во время совместных трапез высказывать любые, даже самые невероятные, проекты облегчения участи или даже спасения барона.
Принесли свежей воды. После кратких дебатов было решено отказаться от намерения выпустить барона в большую бочку на дворе замка, поскольку в мутной цветущей воде его могли подстерегать опасности, о которых люди и не подозревают. Симону показалось, что, несмотря на физическое благополучие, барон скучает, и было решено позаботиться о книгах и сделать для них подставку выше края таза. Проходившие мимо обязывались переворачивать страницы. Уже за полдником Томас О'Найн заполнил абонемент на известный журнал «La Pesgueria Catalan», [31]31
«Каталонский рыболов» (исп.).
[Закрыть]выходивший дважды в месяц.
Настроение воцарилось бодрое, вновь ожили надежды. Счастливые тем, что барон пока жив, все воспринимали его рыбье обличье как меньшее зло и уповали, что, возможно, и тут найдется какой-нибудь выход. Поэтому Симон несколько удивился, увидев на следующее утро во время поиска муравьиных яиц расстроенное лицо Теано. Барон, которому все уже успели пожелать доброго утра, благополучно перенес ночь и бодро плавал по кругу.
– Тебя что-то гнетет, Теано? – спросил Симон, откладывая жестяную лопатку.
– Я, Симон, подумала о зиме! Сейчас есть эти яйца, и червяки, и еще мухи, наверное, но чем мы будем кормить барона всю зиму?
– Не говори о зиме! – Симон пришел в ужас. – До тех пор выход найдется! А если нет – ну что же, придется ему есть крошки!
Теано молча раскопала особенно богатую муравьиную детскую и лопаткой выбирала среди бегающих в отчаянии муравьев так называемые яйца, складывая их в приготовленный коробок. Симон задумчиво наблюдал за ней.
– Ты больше не такой, – начала она наконец нерешительно, – я имею в виду, не такой страшный, как тогда.
– Да, – подтвердил Симон.
Больше они об этом никогда не заговаривали.
***
Саломе Сампротти, Симон и Теано уже обедали, когда из мастерской, шушукаясь, вышли хозяева. Таз с бароном стоял на серванте.
– Удачно поохотились? – вежливо спросил Симон.
– Нет. Но, – барон фон Тульпенберг с большим трудом сдерживал возбуждение, – у нас есть идея!
– Максим, дай мне сказать, – перебил Томас О'Найн. – Я лучше формулирую!
Он одернул рясу и сел на свое место.
– Я полагаю, сударыня, – начал он, обращаясь к Саломе Сампротти, – что вы знаете: мы с давних пор занимаемся не только трансмутацией {171} элементов, но и выращиванием гомункулусов {172} .
Саломе Сампротти кивнула.
– А вот, – продолжал он, обращаясь ко всем, – нечто, не известное ни г-же Сампротти, ни нашим гостям: мы действительно многого добились в конструировании искусственных людей! Прототип, созданный нами, в точности соответствует природе. Только не спрашивайте, скольких это стоило трудов! Он лежит – вернее, лежал – у нас в сейфе и полностью готов к эксплуатации. После десерта вы можете взглянуть на него в мастерской. Добротное изделие, настоящее произведение искусства. – Он гордо огляделся. – А теперь вы имеете полное право узнать, отчего мы просто не привели нашего гомункулуса сюда. Очень просто: он неживой. А почему он неживой? Потому, что у него нет души!
Томас О'Найн с надеждой поглядел на обеих дам и Симона. Но рано, они еще не проникли в дерзкий замысел.
– Все остальное самоочевидно: у бедного барона есть душа, но нет человеческого тела – у нас есть человеческое тело, но нет души, могущей пробудить его к жизни. Остается лишь добавить, что все попытки заманить в нашего гомункулуса одного из тех духов, что кишмя кишат повсюду, окончились таким полным крахом, что мы, скрепя сердце, решили уже работу не продолжать. Потому-то гомункулус и лежал до сих пор в сейфе. Ему-то нужна человеческая душа. А ее, к сожалению, не поймаешь, носясь с сачком по кладбищу.
– Невероятно, просто невероятно! – изумился Симон. – Вы хотите вмонтировать нашего барона в своего гомункулуса?!
– Почему бы и нет? – отвечал Гиацинт ле Корфек. – Уникальный шанс! Вопрос, разумеется, не простой, ведь душа барона не порхает сама по себе, а обитает в рыбе, и, кто знает, возможно, ее нельзя извлечь без некоторого для рыбы ущерба. Рыбу поэтому тоже следует учесть. Но это частные вопросы, их еще предстоит решить. Не будем присваивать чужой славы: все предварительные исследования в этой области уже произвел знаменитый Противенский де Лоткаберг, вмонтировавший в искусственного сенбернара исключительно одаренную и честолюбивую таксу. Его статья «De l'Agrandissement des Chiens» [32]32
«Об увеличении собак» (фр.).
[Закрыть]наделала тогда среди специалистов много шума. Безусловно, на первых порах соединяли лишь подобное с подобным, собаку – с собакой, но поскольку в нашей рыбе живет человеческая душа, мы полагаем, что в гомункулусе ей будет очень хорошо.
– Если это удастся, это будет триумф науки!
– О котором мы, в интересах барона, будем хранить глубочайшее молчание! Мы – герметики. Нашу откровенность оправдывают только исключительные обстоятельства.
– Можно ли сообщить об этом барону прямо сейчас?
– Ограничимся лучше кратким сообщением, что мы разрабатываем план его спасения.
Между супом и жарким Симон написал: «Помощь весьма вероятна».
Доверие, радость и любопытство отразились в рыбьих глазах барона, когда ему показали листок с этой последней новостью. Он разработал своего рода язык движений, в котором его опекуны уже вполне прилично разбирались. Сильные резкие удары хвостом, заставлявшие серебристое тело быстро плавать по тазу, означали несгибаемую волю к жизни и определенное нетерпение.
***
Трое хозяев замка с вызывающей медлительностью лакомились десертом, распространяясь о качестве особенно крупной лесной земляники и падающей жирности сливок, а гости просто погибали от любопытства и нетерпеливо ерзали на стульях. Наконец они свернули свои салфетки и засунули их в пестрые плетеные кольца. Томас О'Найн взял колокольчик и позвонил.
– Убирайте, Дун! – велел он вырезывателю силуэтов. – А вас, уважаемые гости, просим в соседнюю комнату! Дамы простят нам, что гомункулус, коего мы вам намереваемся представить, почти не одет. Иначе трудно было бы оценить, с какой аккуратностью он сработан. Прошу!
Томас О'Найн торжественно распахнул обитые железом двери мастерской, и всем взглядам открылся операционный стол, на котором лежало человеческое тело. В один голос ахнув, Саломе Сампротти, Теано и Симон подошли ближе.
– А я-то думал, речь идет о маленьком человечке в реторте! – восхищенно воскликнул Симон.
Человек, вытянувшийся перед ними на мраморной плите, был пропорционален, как модулор творения Ле Корбюзье {173} . До пояса он был прикрыт простыней, но видимая часть не оставляла сомнений, что он до мельчайших подробностей подобен настоящему человеку. Каждый волосок, каждая пора на мускулистом теле были на своем месте. Для полноты иллюзии искусные мастера не забыли даже о грязи под ногтями, на руки же посадили несколько коричневых родинок.
– Потрогайте его! – предложил гостям барон фон Тульпенберг.
Ни у Теано, ни у Симона такого желания не возникло, поскольку в нынешнем состоянии гомункулус был страшен, как любой труп.
Но Саломе Сампротти, не колеблясь и со знанием дела, ощупала руку, под ее эластичной кожей ощущался настоящий скелет.
– Могу только поздравить вас! – произнесла она без всякой зависти.
– И вы действительно надеетесь, что в это удастся вселить душу барона? – с сомнением спросил Симон.
– Мы почти уверены! – с гордостью ответил Гиацинт ле Корфек.
– С ума сойти! – только и сказал Симон.
Томас О'Найн сунул ему лупу.
– Его и под микроскоп можно положить! Ну-ка, поглядите на него как следует: это – ваш новый барон, пожалуй, еще лучше и здоровее, чем старый.
– Но он же совершенно на него не похож! – робко заметила Теано.
И была права. Лицо гомункулуса было гладкой маской, лишенной всякой индивидуальности. До последнего волоска неотличимое от человеческого лица, но правильные черты невыразительны, а гладкий лоб явно не таил ни одной мысли.
– Это именно и есть один из помянутых частных вопросов, – пояснил Томас О'Найн. – Безусловно – вот в высшей степени интересная задача, поистине задача для художника! – мы и лицо барона должны реконструировать так, чтобы весь свет признал его, а сам он чувствовал себя как дома. Нет ли у вас его портрета? Лучше всего – фотографии…
– В паспорте.
– Превосходно! Рост примерно тот же, один-два сантиметра роли не играют, хотя, разумеется, мы можем откорректировать длину берцовых костей или костей голени. Просто на это уйдет лишние две недели. Несите паспорт – и мы немедленно возьмемся за работу!
Симон отыскал паспорт и вручил его адептам. Барон фон Тульпенберг с удовольствием отметил, что фотография в нем отменная.
– Рост: 1,81 м. Великолепно – вообще ничего не надо менять! Сложение: стройное – так и есть. Цвет волос: седые – сделаем. Лицо: овальное – так на фотографии. Цвет лица: смуглый – сделаем. Особые приметы: нет – тем лучше. Усы делать не будем, потом он отпустит их сам. А теперь просим нас извинить: все остальное – секрет фирмы!
***
Гости робко покинули арену сверхчеловеческих свершений. Саломе Сампротти жалела потом, что, увлекшись гомункулусом, не рассмотрела хорошенько так называемую мастерскую. У Симона тоже остались лишь смутные воспоминания об огромных аппаратах из латуни, стали и стекла, некоторые из них были накрыты темными чехлами и отодвинуты к стене.
– Непременно возьму почитать историю сенбернара Противенского, – решила Саломе Сампротти.
Но времени у нее не нашлось. Хозяева с головой ушли в работу и не выходили даже к столу, извиняясь через Дуна. Саломе Сампротти, Теано и Симон оказались полностью предоставлены сами себе. К их услугам был Дун. Желания Симона он читал по глазам. Он заботился о хорошем столе и удобствах, ставил цветы на ночные столики и топил медные печки в ванных комнатах, но от этого дни тянулись еще медленнее.
***
Однажды Теано и Симон отправились на дальнюю прогулку и навестили тенора Мюллер-Штауфена, встреченного по дороге в замок Монройя. Мюллер-Штауфен покачивался в гамаке подле своего скромного шалаша и очень удивился, увидев их вновь. На его вопрос о бароне Симон почти в полном соответствии с действительностью отвечал, что барон проходит в замке курс лечения. Они немного поболтали о Вене, Венской опере и ее знаменитых дирижерах, а также об удовольствиях скромного рыбацкого бытия. Мюллер-Штауфен решил выяснить, действительно ли хозяевам замка больше совершенно не нужна форель. Для него это был вполне приличный приработок, хотя, собственно говоря, тех денег, что ему нерегулярно переводят через австрийское консульство, более чем хватает. Конечно, пенсия певца Императорской оперы – не Бог весть что, но ему и не нужно ничего, кроме вина, лески, крючков да иногда – новых резиновых сапог. Хлеб и масло он выменивал на рыбу. Он потчевал гостей отменным красным вином в мятых жестяных кружках и настаивал, чтобы они оставались ужинать. Но уже смеркалось.
– Приходите еще! – крикнул он им вслед. – Приходите к обеду, а не то берите с собой фонарь.
***
За эти недели отношение Симона к Теано превратилось в искреннюю дружбу, не окрашенную страстью. И Теано после знаменательного полета относилась к Симону совершенно иначе. Ее склонность к нему локализовалась приблизительно в области сердца, и это ей очень нравилось. И голова больше не болела от блуждающих по всему телу чувств. Она стала сговорчивой, чуть ли не мягкой, иногда, правда, бывала немного молчалива и меланхолична. Несколько раз они обменивались беглым поцелуем, но по молчаливому уговору избегали близости. Словно между ними выросла стена, и каждому было хорошо по свою сторону.
***
Понятно, что догадки о том, как продвигается таинственная работа в мастерской, стали неисчерпаемой темой застольных бесед. Саломе Сампротти в них почти не участвовала, хотя Симон и Теано постоянно апеллировали к ней как к компетентной инстанции. Она, как правило, сидела на балконе рядом с бароновым тазом в глубоком плетеном кресле и размышляла. Она следила, чтобы страницы бароновых книг не переворачивало ветром, и время от времени бросала в воду муравьиные яйца и червяков из стоявших перед нею мисок.
– Вот видишь, все и кончится до зимы! – сказал Симон.
– Будем надеяться! – отвечала Теано.
***
Барон сносил ожидание с образцовым терпением. Он внимательно прочитывал все, что ему ни предлагали, хотя водить маленькими глазками по большим страницам наверняка было очень тяжело. Если ему что-то бывало нужно, он до тех пор бил хвостом, пока кто-нибудь не услышит. Безусловно, выяснить, что же именно ему нужно, было потом довольно затруднительно, но тут Саломе Сампротти помогало ясновидение. С нескольких попыток она всегда угадывала правильно. Да и не так разнообразны были желания барона: поесть, свежей воды или новую книжку.
Саломе Сампротти предприняла еще несколько попыток выудить у Симона информацию о его впечатлениях у врат Элизия, но после чистки, которой он сам себя подверг, эта сфера оказалась на карте его памяти белым пятном, вроде потонувшей Атлантиды {174} , чей золотой песок он иногда, смутно что-то припоминая, пересыпал из руки в руку как единственное, что осталось после космического катаклизма и давало основания недоказуемым гипотезам. И все же он стал другим. Мягкое превосходство, с которым он относился к расспросам Саломе Сампротти, доказывало это еще лучше его нового отношения к Теано.
Ясновидение Саломе Сампротти в случае с Симоном достигло границы, отделяющей дар сивиллы от всеведения Бога, и не только в том, что касалось знаменательной ночи. Она этого и не скрывала, когда однажды вечером Симон спросил ее, что это, собственно говоря, за женщина, созданная для него и напророченная Саломе Сампротти.
– Мое искусство интуитивно, – с сожалением пояснила она, – и всегда зависит от моих собственных желаний. Они искажают являющиеся мне картины и добавляют к ним предметы, явления и людей, не имеющих ничего общего ни с будущим, как таковым, ни с тем, что может произойти. Верные пророчества мне удаются лишь тогда, когда мне безразличны те, о чьей судьбе идет речь. Я не могу одновременно желать одного и знать другое. И бароново будущее от меня скрыто. Я вижу его таким, каким он был, дружески трясущим нам на вокзале руки, садящимся в поезд – но я не уверена, что это не просто отражение моих желаний. Барон, Теано, вы – все вы украдкой пробрались в мое сердце. Это и туманит мне глаза.
– Но ведь смерть Пепи вы предвидели! – возразил Симон.
– И все же до последней горькой минуты я надеялась, что он вернется.
– Так вы не знаете, что теперь делается за этой дверью?
– Не больше чем вы: барону готовят новое тело.
***
И вот однажды во время завтрака дверь открылась, и бледные невыспавшиеся адепты потребовали какао, меда, ветчины и яиц всмятку.
– Клянусь Николаем Великим! {175} – простонал Гиацинт ле Корфек. – Ну и работенка! Вы можете принести ему дань восхищения: я имею в виду барона. Но нам не хватает крови.
– Ведь до оживления в жилах у гомункулуса просто плазма, – объяснил Томас О'Найн. – Для консервации она подходит больше всего. Какие у вас группы крови?
– Группа А, – ответил Симон.
– У меня – тоже, – сказала Саломе Сампротти. – А у Теано, кажется, нулевая, к тому же она несколько анемична.
– Тогда возьмем А, – решил барон фон Тульпенберг. – У меня – тоже А. Этого должно хватить, учитывая имеющуюся консервированную кровь.
– Может быть, нам теперь можно?.. – спросил Симон.
– Конечно, пожалуйста!
Барон приглашающим жестом указал на открытую дверь.
– Слава Богу: вот и еда!
Хозяева накинулись на огромный поднос, подвезенный Дуном на сервировочном столике.
– Настал торжественный момент! – провозгласил Симон, тщательно вытер салфеткой рот, встал и вошел в мастерскую. Взволнованные Теано и Саломе Сампротти последовали за ним.
На мраморном операционном столе лежало, вытянувшись, точное подобие барона. Глаза закрыты, но большой нос выдавался из глубоких складок по обе его стороны как живой, казалось, его крылья уже трепещут от теплого дыхания. Рядом лежал открытый паспорт. Больше это был не труп, не чучело, набитое двусмысленными амбициями, но собственной персоной Элиас д'Анна, имперский барон фон Кройц цу Квергейм, и он намеревался проснуться.
– Но он стал гораздо моложе! – шепнула Теано.
– Это потому, что нет усов, – объяснил Симон.
– Пошли! Не люблю голых мужчин, – отвернулась Теано.
Хозяева все ели. С набитыми ртами они приняли восхищение гостей и были явно польщены. Саломе Сампротти, Симон и Теано все нетерпеливее следили за раблезианской трапезой. Казалось, хозяевам нравится нервировать нетерпеливых гостей обстоятельным приемом пищи.
– Терпение, терпение, – увещевал Томас О'Найн, смачно поедая яйцо всмятку. – Два-три часика вам еще придется обойтись без него – и без нас! При монтаже мы не позволим присутствовать даже нашей дорогой г-же Сампротти!
Наконец они наелись. Гиацинт ле Корфек ухватил еще рогалик, но Томас О'Найн с серьезным видом принял таз с бароном, принесенный Дуном из библиотеки. Они снова исчезли в мастерской. В замке повернулся ключ.
Два с четвертью часа ожидания оказались для друзей барона непереносимее, чем предшествующие недели. Они кружили под дверями мастерской, как будущие отцы, не допущенные в родильную. Симон все время теребил себя за нос, Саломе Сампротти, говоря, что сквозит, объехала с креслом всю гостиную, а бледная Теано примостилась на окне и кусала губы. Эти занятия лишь ненадолго прерывал бой высоких часов, отбивавших четверти.
– Что, вам действительно не найти место, где не дует? – возопил наконец Симон.
И в ту же минуту двери мастерской распахнулись. На пороге стоял барон фон Тульпенберг.
– Кровь, прошу вас!
Его левый рукав был закатан, рука согнута. Видно было, что локтем он удерживает ватный тампон.
– Мне можно… посмотреть? – пробормотала Теано и пошла за Симоном, молча подавшим ей пиджак и закатывающим рукав. За ними вперевалку последовала Саломе Сампротти.
Сейчас гомункулус лежал на полу. Полыми иглами он был соединен с трубками и стеклянными приборами. В цилиндре, привинченном к стальному штативу, колыхалась жидкость цвета виски. Барон – пожалуй, гомункулуса уже можно назвать бароном – казался пораженным столбняком, как бы мертвым, но ни в коем случае не мертвым на самом деле. Симон и Саломе Сампротти легли по обе его стороны, причем Саломе Сампротти – с трудом, и тоже были подключены к трубкам, а посредством сложной системы трубок и насосов подсоединены к барону.
– Теперь я сосчитаю до трех, – провозгласил Томас О'Найн, – и тогда, пожалуйста, начните сжимать и разжимать кулаки, как следует работайте кулаком! Раз… два… три!
Гиацинт ле Корфек обслуживал насосы. Симон следил, как темно-красная кровь поднимается по стеклянным трубкам, наполняет стеклянные насосы и по другим трубкам перегоняется в тело барона. Дело продвигалось страшно медленно.
Но вот! Симон чуть не вскочил и на несколько секунд перестал работать кулаком: рука барона скользнула по его руке, ощупала ее, нашла ритмично сжимающиеся пальцы и отодвинулась.
– Барон шевелится! – выдохнул он. Широкое задумчивое лицо Гиацинта ле Корфека качнулось над ним – тот не спускал глаз с поршня насоса.
– Он оживает! – молвила Теано, сидевшая рядом на корточках.
Барон фон Тульпенберг велел Дуну немедленно принести какую-нибудь одежду.
Симон повернул голову и скосил глаза на барона. Лицо барона дрогнуло.
– Пятьсот кубиков от обоих, – доложил Гиацинт ле Корфек и выключил насос. Томас О'Найн вытащил иглы из рук доноров, потом – из руки барона. Симон вскочил, а Саломе Сампротти просто перевернулась на живот. И вот барон открыл глаза! Он облизнул губы и провел руками по своему обнаженному телу.
– Как вы себя чувствуете, г-н барон? – спросил барон фон Тульпенберг.
– Странно, очень странно, – тихо отвечал оживленный. – Но, кажется, удалось. Есть что-нибудь надеть?
Томас О'Найн молча показал на входившего Дуна.
Что есть человек? Словарь Липпольда {176} – он ничуть не хуже любого другого общедоступного сочинения, а мы ведь и стремимся к общедоступности – по этому поводу говорит:
«Человек относится к классу млекопитающих, принадлежа внутри него к первому отряду (двуруких, bimanus, в отличие от обезьян, относящихся ко второму отряду и имеющих четыре руки). Других видов этот род не имеет. Правда, Линней в "Системе природы" описал еще два вида, назвав первый "homo troglodytes", а второй – «homolar»; но простим великому ученому это заблуждение: в его время было еще невозможно исправить все ошибки в естествознании, отступившие затем перед исследованиями преемников Линнея. По словам Блюменбаха {177} , homo troglodytes Линнея был невообразимой помесью белого арапа, сиречь альбиноса, и известного гораздо лучше орангутана. А его homolar, напротив, оказался настоящей обезьяной.
Только человеку предопределена природой прямая походка, неестественная, хотя и возможная, даже для орангутана. Бросающееся в глаза отличие человека от всех его родственников – сильно выдающийся вперед подбородок, отсутствующий даже у тех обезьян, которые в остальном так схожи с человеком. Но в первую очередь превосходство человека над всеми другими существами определяется наличием у него языка, то есть способностью облекать свои мысли в артикулированные звуки и таким образом сообщать их другому».
Потом старина Липпольд долго подробнейшим образом распространяется об особенностях и достоинствах homo sapiens и доказывает тем самым, что дерзкая попытка обрядить в жесткий корсет определения того, кто столь хорошо знаком всем нам, обречена на жалкий провал. Поскольку мы заранее отказались от намерения и дальше приводить примеры невозможности описания словами даже примитивнейшего из людей, то не станем листать ни Брокгауза {178} , ни Майера {179} , а равным образом опустим путаные и к тому же неудовлетворительные объяснения философов и теологов, сводящиеся, несмотря на все разглагольствования, к тому, что человек – по определению Ницше – просто неопределимое существо.
Гораздо легче не связанными языком графику, живописцу и скульптору, а уже тем паче среднему гражданину, всегда могущему указать на ближнего пальцем: «Глядите, вот человек – и баста!» И оказывается, для того чтобы человек признал другого человеком, не нужно ничего, кроме общих очертаний фигуры. Даже человеческая тень – уже не просто нечто, лишенное третьего измерения, а редуцированное до пределов всякой крайности понятие человека. Бесспорно, весьма несовершенное. Но среднему гражданину, коего мы уже заклинали, и нашей фантазии не составит никакого труда домыслить недостающее и превратить тень в человека. Само собой разумеется, это будут совершенно разные люди. Негр прежде всего представит себе негра, поскольку белые, красные и желтые придут ему на ум в качестве людей только во вторую очередь. Для лилипута гораздо более похожим на человека будет другой лилипут, чем какой-нибудь долговязый парень. Человек всегда воспринимает все весьма относительно.
Но оставим примитивные силуэты и обратимся к их полнейшей противоположности, к совершеннейшей из всех картин – гомункулусу. Это – вершина и совершеннейшее произведение всех изобразительных искусств, произведение, наконец-то (конец – делу венец!) существующее в той же форме, что и сам настоящий, живой человек: в наглядной и служившей, начиная с силуэта, источником вдохновения для всех художников. Но дальше все снова усложняется. Художник пытается достичь еще большего совершенства, преодолевает, подстегиваемый бурными овациями, вершину своего мастерства и путается, этакая блоха, мнящая себя демиургом {180} , в подоле Создателя, в пустоте без отклика и возврата, из которой все сущее и произошло. Мы любим посмеяться над глупыми птицами, принявшими нарисованный Паррасием {181} виноград за настоящий, но непонимание, а то и возмущение сменяют веселость, если произведение достигает той степени совершенства, когда вводит в заблуждение даже нас и делается неотличимым от жизни. Мы просто не поверим художнику, вздумавшему утверждать, что только что съеденный нами виноград родился в его мастерской. Однако полное недоумение и почти абсолютное сомнение охватят нас лишь тогда, когда он продемонстрирует нам сотворение винограда. И мир вокруг нас станет весьма подозрительным: вскоре сомнительным начнет казаться все. Если мы и дальше будем верить, что вещи, за которыми мы наблюдаем с момента их зарождения, есть вещи нормальные и натуральные, то все же скоро закрадется мысль, что самоё начало, семя, зародыш… и конец иллюзорной уверенности.