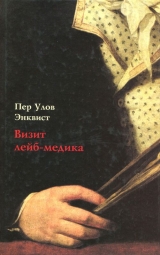
Текст книги "Визит лейб-медика"
Автор книги: Пер Улов Энквист
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
В камеру к Бранду доставили пастора Хи, и он сразу же выразил готовность составить вместе с пастором документ о переходе в другую веру и описать для общественности свое полное отречение, свою греховность и то, как он теперь припадает к ногам Спасителя Иисуса Христа.
Он, кроме того, хотя его об этом и не просили, выразил готовность отречься от идей Просвещения и особенно от мыслей, которые отстаивал некий господин Вольтер. О последнем он, кроме того, мог высказываться с большим знанием дела, поскольку когда-то, еще до путешествия короля по Европе, посетил Вольтера и прожил у него целых четыре дня. Правда, они обсуждали тогда не просветительские идеи, а театрально-эстетические вопросы, что интересовало Бранда больше политики. Пастор Хи не пожелал слушать об этих разговорах о театре, сказав, что его больше интересует душа Бранда.
Бранд вообще-то полагал, что его едва ли осудят.
В письме к своей матери он заверял, что на него «никто не может гневаться долгое время. Я простил всех, как и Господь простил меня».
Первые недели он занимался тем, что насвистывал и напевал оперные арии, полагая это естественным, поскольку он обладал титулом «maître de plaisir», или, по более позднему наименованию, «министра культуры». После 7-го марта ему вернули флейту, и он очаровывал всех своей умелой игрой.
Он считал, что его выход на свободу – только вопрос времени, и в письме, написанном из заключения королю Кристиану VII, он выпрашивал себе, «пусть и незначительную», должность губернатора.
Только когда его адвокат сообщил ему, что важнейшим, а возможно, и единственным, пунктом предъявляемого ему обвинения будет то, что он нанес телесные повреждения королю и, тем самым, провинился перед королевской властью, он, похоже, заволновался.
Это была история с пальцем.
Она была столь курьезной, что сам он о ней почти забыл; но он ведь тогда укусил Кристиана за указательный палец так, что образовалась кровавая рана.
Теперь это вышло наружу. Поэтому он прилагал все больше усилий к тому, чтобы вместе с пастором Хи выразить свой отход от свободомыслия и свою ненависть к французским философам, и это описание обращения в другую веру было очень быстро опубликовано в Германии.
В одной немецкой газете рецензию на это признание Бранда написал молодой франкфуртский студент по имени Вольфганг Гете, которому тогда было двадцать два года и который с возмущением счел все это религиозным лицемерием и исходил из того, что обращение явилось результатом пыток или какого-то иного давления. В случае с Брандом это, однако, было не так; но юный Гете, которого позднее также возмутила и судьба Струэнсе, снабдил свою статью рисунком тушью, изображавшим закованного в цепи Бранда в камере и стоящего перед ним пастора Хи, который, активно жестикулируя, учил его необходимости обращения.
В качестве подписи под иллюстрацией было напечатано короткое сатирическое стихотворение, или драматический эскиз, возможно, самое первое из опубликованных Гёте стихотворений, которое полностью звучало так:
Однако все было под контролем.
Физический контроль за заключенными был эффективным: левая нога соединена с правой рукой цепью в полтора локтя длиной, и цепь эта очень тяжелым звеном крепко прикреплена к стене. Юридический контроль тоже быстро наладился. 20 января был создан инквизиционный суд, а потом и верховная инстанция – Комиссия по инквизиции, которая под конец стала включать сорок два члена.
Существовала только одна проблема. То, что Струэнсе должны были приговорить к смерти, было совершенно очевидно. Но главной оставалась дилемма, связанная с престолонаследием.
Дилемму заключала в себе маленькая английская шлюха.
Она была заперта в Кронборге, ее четырехлетнего сына, кронпринца, у нее отобрали, ей все еще разрешалось держать при себе малышку, «пока она кормит ее грудью». Но королева была из другого теста, нежели остальные арестованные. Она ничего не признавала. И она была сестрой английского короля.
Предпринимались попытки произвести некоторые подготовительные допросы. Они не были обнадеживающими.
Королева действительно представляла собой проблему.
Гульберг вместе с делегацией поддержки из трех членов комиссии был направлен в замок Гамлета, чтобы посмотреть, что можно сделать.
Первая встреча была очень краткой и формальной. Королева категорически отрицала, что состояла со Струэнсе в интимных отношениях и что этот ребенок его. Она была разгневана, но предельно официальна, и требовала возможности поговорить с английским послом в Копенгагене.
В дверях Гульберг обернулся и спросил:
– Я спрашиваю Вас еще раз: это ребенок Струэнсе?
– Нет, – ответила она коротко, словно ударила хлыстом.
Но вдруг этот страх в ее глазах. Гульберг его увидел.
Так закончилась первая встреча.
Глава 17
Топчущий точило
1Первые допросы Струэнсе начались 20-го февраля, они продолжались с десяти до двух и ничего не дали.
21-го февраля допросы продолжились, и на этот раз Струэнсе сообщили о дополнительных доказательствах того, что он имел порочную связь с королевой. Свидетельства эти были, как утверждалось, неоспоримыми. Показания дали даже самые преданные слуги; если раньше он полагал, что окружен неким внутренним кругом принимающих в нем участие существ, стоящих на его стороне, то теперь он должен был понять, что такого круга не существует. К концу продолжительных допросов третьего дня, когда Струэнсе спросил, не распорядится ли вскоре королева прекратить этот постыдный фарс, ему сообщили, что она арестована и помещена в Кронборг, что король желает начать переговоры о разводе, и что Струэнсе в любом случае, если это то, на что он надеялся, не может рассчитывать на ее поддержку.
Струэнсе смотрел на них, словно в оцепенении, и потом все понял. Он внезапно разразился дикими, безудержными рыданиями и попросил, чтобы его отвели обратно в камеру, чтобы он мог обдумать свое положение.
Инквизиционная комиссия ему, разумеется, в этом отказала, поскольку был сделан вывод, что Струэнсе сейчас не в себе и что признание уже близко; комиссия решила в этот день продлить допросы. Рыдания Струэнсе не прекращались, он был безутешен и внезапно признал, «в полном отчаянии и изнеможении», что действительно находился в интимных отношениях с королевой, и что половое сношение (Beiwohnung) имело место.
25-го февраля он подписал полное признание.
Эта новость быстро распространилась по всей Европе.
Комментарии характеризовались возмущением и презрением. Действия Струэнсе осуждались, то есть не его интимные отношения с королевой, а то, что он их признал. Один французский аналитик написал в своем сообщении, что «француз рассказал бы об этом всему свету, но никогда бы не признался».
Ясно было также, что Струэнсе подписал себе смертный приговор.
В Кронборг была послана комиссия из четырех человек, чтобы известить королеву о письменном признании Струэнсе. Согласно указанию, королеве должны были дать прочесть только заверенную копию. Оригинал должны были взять с собой, ей следовало дать возможность удостовериться в подлинности копии, но ни при каких обстоятельствах не давать физического доступа к оригиналу; его следовало держать перед королевой, но ни за что не давать королеве в руки.
Ее решительность была хорошо известна, и ее ярости опасались.
2Она все время сидела у окна и смотрела на пролив Эресунд, который впервые за прожитые ею в Дании годы замерз и покрылся снегом.
Снег то и дело разметало по льду узкими полосками, и это было довольно красиво. Она решила, что снежные заносы на льду красивы.
Теперь мало что в этой стране казалось ей красивым. По сути дела, все было уродливым, холодным и враждебным, но она цеплялась за то, что могло быть красивым. Снежные заносы на льду были красивыми. Во всяком случае, иногда, особенно в тот единственный день, когда солнце вдруг выглянуло и сделало все – да! – красивым.
Но ей не хватало птиц. Она научилась любить их еще до Струэнсе, в то время, когда стояла на берегу и смотрела, как они лежат, «завернувшись в свои мечты», – это было выражение, которое она позднее использовала, рассказывая о них Струэнсе, – и иногда поднимаются и исчезают в низко нависающем тумане. То, что птицы мечтали, сделалось очень важным: что у них имелись тайны, что они мечтали и умели любить, как умели любить деревья, и что птицы «ожидали», питали надежды и внезапно подымались, били кончиками крыльев по ртутно-серой поверхности и исчезали навстречу чему-то. Чему-то, другой жизни. Это казалось таким прекрасным.
Но сейчас никаких птиц не было.
Это был замок Гамлета, а она видела представление «Гамлета» в Лондоне. Сумасшедший король, который довел свою возлюбленную до самоубийства; посмотрев пьесу, она плакала, и когда она впервые посетила Кронборг, этот замок показался ей огромным. Теперь он огромным не был. Он был лишь ужасной историей, в которой пленницей оказалась она сама. Она ненавидела Гамлета. Ей не хотелось, чтобы ее жизнь диктовалась какой-то пьесой. Ей думалось, что эту жизнь она хочет писать сама. Офелия умерла «пленницей любви», пленницей чего была теперь она сама? Так же, как и Офелия, любви? Да, любви. Но она отнюдь не собиралась сходить с ума и умирать. Она намеревалась, ни при каких обстоятельствах, не становиться Офелией.
Она не хотела превращать свою жизнь в театр.
Она ненавидела Офелию и ее цветы в волосах, и ее жертвенную смерть, и ее безумную песню, которая была всего лишь нелепицей. Мне только двадцать лет; она постоянно повторяла это про себя, ей было двадцать лет, и она не была пленницей датской пьесы, написанной каким-то англичанином, не была пленницей чужого безумия, она была еще молода.
О keep me innocent, make others great. Это было в духе Офелии из «Гамлета». Как нелепо.
Но птицы ее покинули. Было ли это каким-то знаком?
Она ненавидела и все, что было монастырем.
Королевский двор был монастырем, ее мать была монастырем, вдовствующая королева была монастырем, Кронборг был монастырем. В монастыре человек лишался характера. Хольберг не был монастырем, птицы не были монастырем, верховая езда в мужском костюме не была монастырем, Струэнсе не был монастырем. В течение пятнадцати лет она жила в монастыре своей матери и была бесхарактерной, теперь же она снова сидела в своего рода монастыре, а в промежутке существовало время Струэнсе. Она сидела у окна, смотрела на снежные заносы и пыталась понять, чем было время Струэнсе.
Это был рост, от ребенка, которым, как ей казалось, она была в течение пятнадцати лет, до столетнего возраста, и – познание.
Все произошло за четыре года.
Сперва этот ужас с маленьким безумным королем, совокуплявшимся с ней, потом двор, такой же сумасшедший, как и Кристиан, которого она все же временами любила; нет, неправильное слово. Не любила. Она отбросила это слово. Сперва монастырь, потом эти четыре года. Все произошло так быстро; она поняла, что не была бесхарактерной, и, самое потрясающее из всего, она доказала это им – им!!! и поэтому научила их испытывать страх.
Девочка, сумевшая научить их испытывать страх.
Струэнсе рассказал ей однажды старую немецкую сказку. О мальчике, который не умел испытывать страх; он отправился по миру, «чтобы научиться чувство страха испытывать». Именно таким, немецким, застывшим и загадочным, это выражение и было. Эта сказка показалась ей странной, и она ее почти не помнила.
Но она помнила название: «Мальчик, сумевший научиться чувство страха испытывать».
Он рассказывал ее по-немецки. Мальчик, сумевший научиться чувство страха испытывать. При его голосе и по-немецки это выражение было красивым, почти магическим. Зачем он рассказал ей эту сказку? Может быть, это был рассказ, которым он хотел сообщить что-то о себе? Какой-то тайный знак? Впоследствии она думала, что он рассказывал о себе самом. В сказке был еще и другой мальчик. Он был умным, талантливым, хорошим и всеми любимым; но он был парализован страхом. Перед всем, перед всеми. Его пугало абсолютно все. Он был полон хороших качеств, но страх парализовал их. Этот талантливый мальчик был парализован страхом.
А его глупый брат не знал, что такое страх.
Победителем оказался именно глупец.
Что же за историю хотел рассказать ей Струэнсе? О себе самом? Или он хотел рассказать о ней? Или об их врагах и о том, что такое жизнь; об условиях, об условиях, которые существовали, но к которым они не хотели приспосабливаться? К чему эта нелепая доброта на службе добра? Почему он не уничтожал врагов, не высылал из страны, не подкупал, не приспосабливался к большой игре?
Может быть, потому, что он боялся зла, так боялся, что не желал марать руки и поэтому теперь все потерял?
Прибыла делегация из этих четверых, рассказала ей, что Струэнсе брошен в тюрьму и что он сознался.
Вероятно, они его пытали. Она была в этом почти уверена. И тогда он, разумеется, во всем сознался. Струэнсе не требовалось отправляться по миру, чтобы научиться чувство страха испытывать. В глубине души он всегда боялся. Ей было видно. Ему не нравилось даже обладать властью. Этого она не понимала. Она ведь испытала радость, когда впервые поняла, что сама может внушать страх.
А он нет. С ним было что-то, по большому счету, не так. Почему для того, чтобы творить добро, всегда избираются неправильные люди? Не может быть, чтобы это было дело рук Бога. Должно быть, орудия добра избирал Дьявол. И он брал благородных, умевших испытывать страх. А раз хорошие не умели убивать и уничтожать, добро оказывалось беспомощным.
Как ужасно. Неужели так действительно и должно быть? Может быть, она сама, лишенная боязни, любящая власть и испытывающая счастье, когда знает, что ее боятся, может быть, именно такие люди, как она, и должны бы были совершать датскую революцию?
Никаких птиц там, снаружи. Почему нет никаких птиц именно сейчас, когда она в них нуждается?
Он рассказывал ей историю о мальчике, у которого было все, но который испытывал боязнь. Героем этой сказки был другой мальчик. Победителем был плохой, злой, глуповатый и лишенный боязни.
Как же можно победить мир, если ты просто хороший и тебе не хватает мужества быть злым? Как же можно при этом суметь подвести рычаг под мироздание?
Бесконечная зима. Снежные заносы на Эресунде.
Когда это кончится?
Она жила четыре года. На самом деле меньше. Все началось в Придворном театре, когда она решилась и поцеловала его. Разве это было не весной 1770 года? Это значит, что она жила только два года.
Как быстро можно расти. Как быстро можно умереть.
Почему она должна была так ужасно полюбить именно Иоганна Фридриха Струэнсе, раз добро обречено на гибель, а побеждать должны те, кто не умеет испытывать страх?
«О keep me innocent, make others great».
Как бесконечно давно.
3Делегация ничего не добилась.
Четырьмя днями позже снова приехал Гульберг.
Гульберг пришел один, дал знак страже оставаться за дверьми, сел на стул и стал неотрывно смотреть на нее в упор. Нет, этот маленький человек – не какой-нибудь Рантцау, не трусливый предатель, его нельзя недооценивать, с ним шутки плохи. Раньше она считала, что он чуть ли ни смешон в своей убогой незначительности; но он словно бы переменился, что же произошло? Он не был незначительным. Он был смертельно опасным противником, а она его недооценила, и теперь он сидит на стуле и неотрывно на нее смотрит. Что у него такое с глазами? Говорили, что он никогда не моргает, но не было ли тут чего-то другого? Он говорил с ней очень тихо и спокойно, холодно констатировал, что Струэнсе уже сознался, о чем она только что получила сообщение, что король хочет развода, и что теперь необходимо ее признание.
– Нет, – ответила она ему так же спокойно.
– В таком случае, – заметил он, – Струэнсе оболгал королеву Дании. Тогда его наказание следует ужесточить. Тогда мы будем вынуждены приговорить его к смерти медленным колесованием.
Он смотрел на нее совершенно спокойно.
– Грязная свинья, – сказала она. – А ребенок?
– За все надо платить, – ответил он. – Платить!
– И это означает?
– Что бастарда и ублюдка придется разлучить с Вами.
Она знала, что должна сохранять спокойствие. Речь шла о ребенке, и она должна была держаться спокойно и мыслить трезво.
– Я не понимаю только одного, – произнесла она, изо всех сил контролируя свой голос, который все же показался ей тонким и дрожащим, – я не понимаю этой жажды мщения. Кем создан такой человек, как вы. Богом? Или Дьяволом?
Он посмотрел на нее долгим взглядом.
– Распутство имеет свою цену. И моя задача состоит в том, чтобы убедить Вас подписать признание.
– Но вы мне не ответили, – сказала она.
– Я действительно должен ответить?
– Да, действительно.
Тогда он совершенно спокойно вынул из кармана книгу, задумчиво поискал в ней, полистал ее и начал читать. Это была Библия. Вообще-то у него красивый голос, подумалось ей вдруг, но в этой невозмутимости, в этом спокойствии и в тексте, который он читал, было что-то жуткое. Это, сказал он, Книга пророка Исайи, тридцать четвертая глава, можно я прочту фрагмент, сказал он: Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их. И истлеет все небесное воинство; и небеса свернутся, как свиток книжный; и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист – со смоковницы,и он перевернул страницу, довольно медленно и задумчиво, словно прислушиваясь к музыке этих слов и к Богу, подумала она, как я могла полагать, что этот человек незначителен, Ибо упился меч Мой на небесах; вот, для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный Мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов,да, его голос медленно набирал силу, и она не могла не смотреть на него с какой-то зачарованностью или страхом, или и с тем, и с другим вместе, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука. Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящею смолою: не будет гаснуть ни днем, ни ночью; вечно будет восходить дым ея; будет от рода в род оставаться опустелою; во веки веков никто не пройдет по ней.<…> Никого не останется там из знатных ея, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ея будут ничто. И зарастут дворцы ея колючими растениями, крапивою и репейником – твердыни ея; и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим; там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой,да, продолжал он все тем же спокойным, сильным голосом, это – слова пророка, я читаю лишь для того, чтобы создать фон словам Господа о той каре, которая постигает тех, кто стремится к нечистоплотности и гнили, к нечистоплотности и гнили, повторил он и твердо посмотрел на нее, и она вдруг увидела его глаза, нет, не то, что они не моргали, но они были светлыми, холодными и прозрачными, как у волка, они были совершенно белыми и опасными, это-то всех и пугало, не то, что он не моргал, а то, что они были такими невыносимо холодными, словно волчьими, а он продолжал все тем же спокойным голосом: теперь мы подходим к тому пассажу, который вдовствующая королева, по моему совету, распорядилась читать в церквях страны в ближайшее воскресенье, в благодарность за то, что Дании не пришлось разделить участь Едома, и теперь я прочту из шестьдесят третьей главы Книги пророка Исайи; он откашлялся, снова устремил взгляд в раскрытую Библию и стал читать тот текст, который датскому народу предстояло прослушать в ближайшее воскресенье. Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столько величественный в Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей? «Я – изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Отчего же одеяние Твое красно, и раны у Тебя – как у топтавшего в точиле? – «Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое; ибо день мщения – в сердце Моем, и год Моих искупленных настал. Я смотрел, – и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя – она поддержала Меня: и попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их».
Тут он кончил читать и взглянул на нее.
– Топчущий точило, – проговорила она, словно про себя.
– Мне был задан вопрос, – сказал Гульберг. – И я не захотел уклоняться от ответа. Теперь я ответил.
– Да? – прошептала она.
– Именно.
В какое-то мгновение она подумала, наблюдая топчущего точило за этим медленным, методическим чтением, что Струэнсе, возможно, нужен был рядом именно топчущий точило.
Спокойный, тихий, с холодными волчьими глазами, в запятнанном кровью одеянии и со вкусом к большой игре.
Когда она об этом подумала, ей чуть не сделалось дурно. Струэнсе никогда бы не прельстила такая мысль. Ей было дурно оттого, что это прельщало ее самое. Неужели она была ночным привидением?
Неужели у нее внутри сидел топчущий точило?
Хотя она и уговаривала себя, что никогда. Куда бы тогда все пошло? Куда же все пошло?
В конце концов, она подписала.
Ничего о происхождении малышки. Но о неверности; и писала она твердой рукой, с яростью и без деталей; она признавала по этому вопросу «то же, что признал граф Струэнсе».
Она писала твердой рукой, чтобы его не доводили до смерти медленными пытками за то, что он обвинил ее во лжи и, тем самым, нанес оскорбление королевской власти, и поскольку она знала, что его страх перед этим велик; но единственное, что она могла думать, было: но дети, дети, ведь мальчик уже большой, но малышка, которую я должна кормить грудью, а они заберут ее, и вокруг будут волки, и что же будет, и малышка Луиза, их у меня отнимут, кто же будет тогда ее кормить, кто же окружит ее своей любовью среди этих топчущих точило.
Она подписала. И она знала, что больше уже не была той храброй девочкой, которая не знала, что такое страх. Страх, наконец, посетил ее, страх нашел ее, и она, в конце концов, узнала, что это такое.








