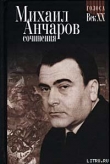Текст книги "Островитяния. Том третий"
Автор книги: Остин Райт
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Глава 40
АЛИЯ
Болота встретили нас холодно и неприютно. В воздухе разносился беспокойный запах моря, в пересекавших болота протоках текла уже соленая, морская вода; однако Глэдис, согретая напряжением, теплом постоялого двора, усталая, страдала прежде всего от сильного пронзительного западного ветра, который особенно задувал на пароме.
– Наше поместье нравится мне больше всего на свете, – сказала она, но, когда мы приехали, добавила, что вся закоченела.
Дорн IV был, как обычно, в отъезде, и нас встретили Монроа и его сестра Дорна, вдова Гранери. Они слышали о Гладисе, как и большинство тех, с кем я познакомился в последнее время. Кроме них в доме гостили единоутробный брат Гранери и его мать, Лука; Монро, брат Монроа, но много ее старше; Реслер, капитан одного из кораблей, принадлежавших Дорнам, и его жена Дайла. Тем не менее нашлась комната и для нас, правда небольшая.
Пока мы готовились к обеду, Глэдис сказала, что лучше бы нам было остаться на постоялом дворе. Вопреки своим ожиданиям, я тоже почувствовал себя несколько неловко: сомнения Глэдис относительно того, естественно ли было приезжать непрошеными в чужой дом, сообщились мне. Однако я стал спорить, утверждая, что для Островитянии это самая обычная вещь, что наши хозяева удивились бы, узнав, что мы не решились приехать без приглашения, и вся система общения строится здесь на том, что люди навещают друг друга когда вздумается. Глэдис согласилась, что нас встретили доброжелательно, но настаивала на том, что это – из приличия: неужели они действительно могли обрадоваться двум простым селянам, когда в доме и без того гостило пятеро людей, связанных с ними узами родства и общими делами? А тут еще мы, полузнакомые, требующие дополнительных забот, нет, не надо было ехать. К тому же здесь такой холод…
Упоенная триумфом, усталая, но не до конца понимающая, как вести себя в подобном положении, она была настроена воинственно; и в то же время, сидящая полураздетой перед жарко полыхающим огнем, расчесывающая распущенные волосы, с пылающими от ветра щеками, враждебно горящими глазами, взгляд которых старательно избегал моего, она была так обольстительна, что мне захотелось обладать ею. Желание жгло меня неудержимо, но перепалка не прекращалась, не давая ему выплеснуться наружу.
И я так ни разу и не прикоснулся к ней.
– Мы попали на семейный обед, Джон, – шепнула она, когда мы спускались. – Пусть это будет в последний раз…
Скоро, однако, я позабыл об отрицательных сторонах нашего визита, поскольку наконец представилась счастливая возможность поговорить о чем-то помимо хозяйства, с профессионалами, чьи интересы лежали в иных областях или были связаны с морем: Монро был юристом, а Гранери служил на флоте. На мгновение отвлекшись от увлекательного разговора, я взглянул на Глэдис – изменилось ли ее настроение? Она сидела рядом с Реслером. Этот мужчина, с загорелым лицом и властным взглядом бывалого моряка, с интересом слушал то, что рассказывала ему молодая девушка. Позже сидевший с другой стороны Монро тоже стал проявлять к ней внимание. Робея при встрече с незнакомыми людьми, Глэдис быстро справлялась с собой, и уже никто не мог бы заподозрить в ней неловкости, к тому же она легко находила нужный тон, причем легче с мужчинами, чем с женщинами.
В такие минуты она была особенно мила, хотя зачастую и удивляла меня: казалось, в самой глубине ее существа бьет неиссякаемый источник привлекательности, – и я с нетерпением ожидал момента, когда останусь с ней наедине. Но когда мы наконец оказались в нашей маленькой комнате и снова развели огонь в очаге, я увидел по глазам, что ей не терпится высказать одолевавшие ее мысли, и не стал спешить прерывать их поцелуями.
По ее словам, она получила огромное удовольствие от беседы с Реслером, Монро и Гранери. Они отличались от всех прочих, с кем ей доводилось встречаться в Островитянии. Она рассказала капитану о своем путешествии, и он забросал ее вопросами о кораблях, на которых она плыла и которые видела по пути. Разумеется, он знал о морских судах все, а она ничего, но зато ей попадались такие, какие не встречались ему. Было так забавно их описывать. К тому же Гранери походил на моряков, с которыми она была знакома, а Монро – на юристов. Интересно было поговорить с людьми, которые имели отношение к чему-то помимо сельского хозяйства.
Разговаривая, она раздевалась, снимая то туфлю, то чулок, то оказавшееся ей очень к лицу красно-коричневое платье, сшитое ткачом в Доринге. Чувства переполняли меня, но я сдерживался и внимательно слушал ее.
– Люди из поместья и наши соседи – простые крестьяне, – сказала Глэдис. – Не вижу большой разницы между хозяевами – танар,вроде Дартонов, и Анселями – денерир.Мне казалось, они будут похожи на землевладельцев и крестьян, как в Европе, но Дартоны ничуть не больше джентльмены, чем Ансели. Молодой Ансель напоминает недоучившегося школьника.
– Да, я понимаю тебя.
– Я люблю их всех, Джон, правда. Некоторые из них совершенно замечательные. Но в Островитянии есть и другие люди. Я обнаружила это на Острове: лорд Дорн, твой друг и Файна – настоящие аристократы. Насчет Марты сомневаюсь: она больше похожа на Дартонов. Думаю, что и та Дорна, которую ты любил, тоже была из аристократов. Может быть, именно поэтому тебя так влечет к ней.
Она замолчала и взглянула на меня, словно ожидая ответа.
– Дорне присущи качества человека, принадлежащего к великой культуре, – сказал я. – У многих островитян есть качества, которыми мы привыкли наделять аристократов, но наши аристократы стараются сохранить свою исключительность и подчеркнуть то, что отличает их от прочих. Островитяне же…
– Нет, они – настоящие аристократы! – заявила Глэдис. – Я понимаю, что ты хочешь сказать. Дорна, которая живет здесь, совсем другая. И Монроа тоже. Они были очень любезны со мной… Похоже, что у тебя есть друзья среди лучших людей.
– Ты еще встретишься и с другими, столь же привлекательными, – сказал я.
– Хотя я думаю, – продолжала Глэдис, постоянно возвращаясь к собственным мыслям, – что мы и сами люди простые, больше похожие на наших соседей по поместью, на Анселей и на Стейнов. Мама всегда говорила, чтобы я не слишком задумывалась над всеми этими вещами, хотя в нас есть нечто даже лучшее, чем у так называемых аристократов, и что любой американец, если постарается, может стать настоящим аристократом… Мне никогда не нравилось думать о себе как о «простом человеке», но, увы, наверное, мы действительно такие.
– Я никогда не мыслил себя ни простым человеком, ни аристократом. Разумеется, внешне мы ведем такой же образ жизни, как и многие другие… но то же можно сказать и о Дорнах.
Глэдис молча обдумывала мои слова, я же продолжал:
– Скоро мы отправимся в поездку, и ты увидишь самых моих любимых друзей. Я хочу, чтобы ты подружилась с ними. Пока ведь у тебя их здесь и вовсе нет.
– Да, – задумчиво ответила Глэдис. – Пожалуй, ближе всех Некка. Мы говорили обо всем очень откровенно… Но мужчины нравятся мне больше. С женщинами труднее разговаривать.
– А тебе хотелось бы иметь близкую подругу?
– Да, думаю, что да, хотя пока я не видела никого подходящего. Мне хочется, чтобы был кто-то, с кем я смогла бы говорить, как с тобой.
– Мы будем ездить в гости.
– Замечательно! – воскликнула она, рассмеявшись. – Знаю, ты думаешь, что поймал меня на слове… Что ж, признаюсь. Я и вправду сказала, что мы больше никуда не поедем без приглашения, но ведь получилось совсем неплохо.
– И они будут запросто заезжать к нам. Если же мы не станем следовать этой привычке, нам придется отказаться от многих знакомств.
– Я начинаю понимать.
В одной рубашке, она опустилась на ковер перед очагом, обхватив руками голые, поднятые к подбородку колени, волосы рассыпались по плечам, материя мягкими складками красиво очерчивала ее стройную фигуру.
– Я попробовала немного заглянуть в будущее, – задумчиво произнесла она наконец.
– Путешествия, встречи с друзьями…
– Да, конечно, – прервала она меня. – Тогда жизнь в поместье покажется более сносной.
– Неужели она кажется тебе несносной, Глэдис? – спросил я, и на сердце у меня стало тяжело.
– Ах, нет, конечно нет! Ты же знаешь. Я счастлива там. Но, говоря о друзьях, о поездках, я думаю и о тебе. Не могу представить, чтобы ты все время только и делал, что работал по хозяйству. Такая жизнь делает человека ограниченным и скучным.
– По-твоему, я стал ограниченным и скучным?
– Немножко. Ты даже говорить стал иначе.
– Неужели мы перестали понимать друг друга, Глэдис?
– Даже не знаю…
– Мы так мало времени провели вместе.
– Да, если все сложить, то получится меньше месяца! Есть, вернее, были другие мужчины, с которыми я встречалась, когда путешествовала с мамой. Некоторые из них сопровождали нас, и по крайней мере двоих я знала лучше тебя… и понимала лучше.
Устало вздохнув, она положила подбородок на колени.
– А они понимали тебя лучше, чем я, да? – ласково спросил я.
– Думаю, да.
– Может быть, ты путаешь сходство взглядов с пониманием?
– Возможно, – ответила она не сразу и словно сердито.
– Мне нравится узнавать все новое о тебе.
– Ах, нет, милый… не все! Мне бы хотелось… Но, Джон, я мечтаю гордиться тобой.
– Кем же ты хочешь, чтобы я стал?
– Мы говорили, что ты мог бы писать… но теперь я не уверена, что ты будешь этим заниматься… Поглядев на всех этих людей сегодня вечером, я подумала… А не попробовать ли тебе заняться политикой или чем-нибудь в этом роде?
– Здесь и без меня достаточно людей, которые поколение за поколением отдавали себя государственной службе.
– Стало быть, все вакансии заняты.
– Да, но дело не только в этом. Их честность, умение и заинтересованность позволили снять бремя с остальных.
– Но должно ведь и здесь найтись что-то нуждающееся в исправлении, преобразовании?
– Ничего, что другие, обладающие гораздо большим опытом и познаниями, не смогли бы сделать лучше.
– Я вижу, ты человек не самолюбивый. Возможно, такой у тебя характер, и это одна из причин, почему ты здесь. И конечно, я понимаю, что человек ты здесь новый и тебе многому нужно еще научиться. Но неужели, – она неожиданно возвысила голос, – неужели ты хочешь, чтобы и твои дети всю жизнь были фермерами? Что ты думаешь о них и об их будущем?
Слова ее потрясли меня. Сидя на ковре, она глядела на меня снизу вверх непонимающе и враждебно.
– Почему ты говоришь о них так, словно это будут только мои дети? – спросил я. – Это будут не мои и не твои, а наши, наши дети и унаследуют они частицу каждого из нас. И будут продолжением каждого из нас… наших жизней на нашей земле.
Глэдис сидела застыв.
Ей предстояло выносить в своем чреве наших детей, которые будут жить в поместье на реке Лей, но ее очаровательная, любимая головка с ниспадающими на плечи блестящими темными волосами была полна упрямых мыслей, желаний, надежд, внушенных другой цивилизацией – ее, но уже не моей.
Я глядел на ее обнаженные руки, колени, тонкие лодыжки и страстно желал ее, такой она была беззащитной, такой похожей на готовое к севу поле. Когда я говорил, были ли мои слова правдой, или же я думал о ней только как о плодородной ниве… Но ведь не мог же я воспринимать ее самое и ее мысли раздельно… иначе куда брошу я свое семя и какой получу плод?.. Но я не собирался отказываться от своих слов.
Я опустился на пол рядом с Глэдис, но не дотронулся до нее.
– Я забочусь о наших детях больше, чем ты думаешь, – сказал я, – и об их будущем тоже.
Она снова опустила голову так, что мне были видны только разделенные пробором волосы.
– Кем ты хочешь видеть наших детей, Глэдис? – спросил я. – Какими ты представляешь их себе в будущем?
– А ты? – спросила она, покачав головой.
– Я думаю, что они будут помогать нам в хозяйстве. Они будут знать его лучше, чем мы, а значит, и мир усадьбы будет для них шире и богаче. Им не придется заботиться о крыше над головой, о хлебе, и они смогут жить в свое удовольствие. Поместье станет для них сном наяву. Они полюбят его… У них появятся собственные притязания, – не волнуйся! – но это будет не стремление властвовать над другими, а надежды и желания, связанные с творчеством, красотой, любовью, работой. И за всеми этими стремлениями и надеждами будет стоять их, наша, усадьба – их главная реальность. Притязания их будут так же глубоки и всепоглощающи, как у американцев, но поместье даст им прочную основу. Их не будет одолевать самолюбивый зуд, потому что у них не будет причин для неудовольствия и беспокойства. Нам же следует заботиться о том, чтобы не заразить их той горячечной тревогой, которую мы унаследовали из нашей бывшей жизни и привезли сюда.
– Что ты имеешь в виду? – спросила Глэдис. – Разве я похожа на человека, одолеваемого тревогой?
– Да, так же, как и я сам раньше… да и сейчас.
– Нет, ты не похож. Прости, если я кажусь тебе чем-то недовольной.
– Дело не в этом! Но самолюбивые притязания кажутся тебе чем-то таким, что хорошо само по себе. И это естественно. Наши родители, учителя и друзья вечно твердили нам, какими мы должны быть. Только вспомни! Каждый, внушали нам, должен стремиться стать джентльменом или леди, каждый должен быть патриотом, примерным гражданином, бескорыстным, честным, компанейским парнем, вождем и, уж конечно, сделать карьеру. Перед нами ставили множество целей, которых мы обязаны были достичь, но ни одна не была определенной, каждый трактовал их по-своему, а некоторые были попросту несовместимы друг с другом. Это было мучительно, хотя тогда мы и не понимали этого, – постоянно ломать голову над тем, как примирить между собой расплывчатые, смутные понятия. Чего же удивляться, что мы одержимы беспокойством! Чего же удивляться, что наш образ мыслей делал нас невосприимчивыми к реальной жизни!
– Значит, мы будем приучать наших детей к такой жизни?
– Мы должны постепенно вводить их в мир и приучать жить в доме, как приучают щенят, только дом этот проще, а в здешней жизни гораздо меньше нелепых, сумасбродных правил, чем в том сложном, запутанном мире, откуда мы пришли! И еще – по мере сил мы должны предоставлять им возможности…
– Для чего? – прервала меня Глэдис и безнадежно передернула плечами.
– Возможность познавать красоту, трудиться, жить здоровой жизнью, заводить друзей.
Она вздохнула:
– Я плохо себе это представляю. Однако я уже думала о том, какие им нужны друзья и какое общество.
Меня словно обдало волной горячего воздуха. Нежность, желание, ласковая жалость смешались в этом чувстве. Холодная логика мыслей отступила на задний план – ведь она уже думала о наших детях! И теперь я хотел знать ее мысли. Словно угадав мое настроение, она наконец подняла голову и взглянула на меня:
– Именно это я имела в виду, когда сказала, что думаю о будущем. Я хочу, чтобы их друзьями были не Ансели, Стейны и Дартоны, а скорее люди, похожие на Дорнов.
– И я ответил, что мы встретим еще немало людей, и их дети будут друзьями наших.
– А я сказала, что буду этому рада.
Я взял ее руку, она была горячей:
– И еще, Глэдис. Ты видела болота только мельком, а фермы, которые мы проезжали, не самое привлекательное зрелище. Здесь есть и другие, куда более красивые места…
– Еще я видела горы…
– Но только издали! Провинция Сторн, скажем, похожа на Девоншир, но там больше простора и более дикая природа, а Вандор, где я сам еще не был, должен быть похож на Норвегию…
– А Вантри! Помнишь, Гартон приглашал нас?
– А Город – он не похож ни на один другой в мире.
– Ты ведь раньше жил там! Я хочу повидать твой дом. Надо обязательно съездить!
Я ласково коснулся ее пальцев и поцеловал каждый в отдельности.
– Джон, – сказала Глэдис, – я беру обратно свои слова насчет усадьбы и того, что жизнь здесь сделала тебя скучным и мы перестали понимать друг друга. И потом, я даже не представляла, что ты так много думаешь о наших детях.
Я привлек ее к себе, но она отодвинулась:
– Но в наших детях будет столько же моего, сколько и твоего.
– Этого-то я и хочу. Разве ты не рада?
– Ах, конечно! Но как можешь радоваться ты?
Я обнял ее и прижал к себе, подумав: а не завести ли нам ребенка прямо сейчас? Но Глэдис пробыла в Островитянии меньше месяца…
Следующие два дня были совершенно счастливыми. Мы осмотрели верфи и доки, съездили в Тэн и, забрав лошадь из Фаннара, вернули ее хозяину, подарив ему мешок яблок и дюжину бутылок вина. Вежливо отказавшись от предложения переночевать, мы отправились к Дорну III, судье. Он был дома, и они с Глэдис очень понравились друг другу. На следующий день мы поехали обратно, но другой дорогой: не заезжая в Тэн, мы пересекли реку Листер и поехали через холмы, отделяющие ее от реки Лей. Так, через земли Севинов и Ранналов, мы добрались до нашего поместья.
Отведя Фэка и Грэна на конюшню, мы пошли к дому. Стоял уже поздний вечер, тихий, пасмурный и прохладный.
Глэдис выглядела веселой и довольной.
– Ну вот, – сказала она, – мы и вернулись домой, в нашу усадьбу!
В голосе ее мне послышалась скрытая насмешка и неприязнь.
Май – в Америке в это время стоял сентябрь – тянулся долго. Из-за отсутствия денерирработы прибавилось. Я был счастлив, с головой уйдя в хозяйственные заботы, но было несправедливо по отношению к Глэдис отдавать им все время. Она могла бы мне помочь или хотя бы просто находиться рядом; однако она никогда не делала этого сама, если только я не просил ее специально, – казалось, ее удерживает какая-то непонятная мне робость, с которой я, впрочем, мирился, надеясь, что со временем она пройдет. Все просьбы она исполняла беспрекословно, радостно, с готовностью, но вкладывала так мало души в работу, что я вновь чувствовал себя бессердечным хозяином, и всякий раз мне было неловко предлагать ей заняться тем-то и тем-то. И все же иногда, когда нам случалось работать в поле вдвоем, вдалеке от остальных, она казалась искренне довольной. Так мы провели два вполне счастливых дня, подправляя изгороди на пастбищах. Однако чаще, когда я уходил на работу, Глэдис оставалась дома. Один или два раза она даже делала наброски, которые хранила в ящике с красками и едва решалась мне их показать, так что я даже толком не сумел рассмотреть их, не желая принуждать Глэдис выдавать мне секреты своей работы. Бывало, когда я возвращался, она рассказывала о том, как ходила прогуляться, – обычно она гуляла по дорожкам, тянущимся вдоль реки. Иногда она одна выезжала верхом на Грэне. Примерно через день мы отправлялись прогуляться вместе, пешком или верхом, но устраивать эти вылазки было непросто. Как только я предлагал составить ей компанию, она учиняла мне настоящий допрос: а не жертвую ли я ради нее какими-то другими делами? Одного того, что я ее приглашаю, было ей недостаточно, и, подвергаясь каждый раз тяжкому испытанию, я уже побаивался приглашать Глэдис куда бы то ни было. Правда, выдалось и несколько безмятежных дней, когда из-за проливного дождя со снегом мы оставались в мастерской, сколачивая рамы и подрамники для ее будущих картин.
Вечера мы проводили вместе, почти все время дома. Три или четыре раза выбирались на званые дни к соседям, а один раз принимали гостей у себя, с танцами под музыку Анселя-брата. Глэдис была очаровательна в роли хозяйки, непринужденно держась как со стариками, так и с молодежью. Казалось, вечер ей очень понравился, но потом она сказала, что рада, что следующий будет не раньше чем через месяц.
Она много читала, и чтение помогало ей коротать время, но потом ею овладевало беспокойство, тревожные мысли, она без конца сравнивала Островитянию с Америкой, и мы подолгу спорили об этом, иногда расходясь во мнении, и порою споры наши бывали очень жаркими. Впрочем, Глэдис старалась быть беспристрастной и читала книги на английском наравне с островитянскими – «Жизнью Альвины», «Записками с Болот», притчами и стихами. Многое в них вызывало ее неудовольствие, и частенько под конец наших споров она кричала, что ей хочется прочесть какой-нибудь новый, увлекательный роман и что ей не хватает газет и журналов.
Втайне я подолгу и с тяжелым сердцем думал о том, как нелегко ей приспособиться к жизни, которую я для нее устроил. Вспоминая, как все было за несколько месяцев до того, как я принял решение остаться в Островитянии, я надеялся, что и Глэдис проделает тот же путь и полюбит новую для нее страну, образ жизни ее обитателей, ее красоту и царящий повсюду покой, как полюбил их я. Тем не менее часто мне казалось, что вокруг, даже днем, темнота, и чувство это не проходило, даже когда я работал в поле и когда мы просто разговаривали или спорили по вечерам; и все было бы еще печальнее и тяжелее, не продолжай мы так страстно желать друг друга. Наша страсть была тем огнем, у которого всегда можно было согреться. Когда мы любили или говорили о любви, между нами не возникало разногласий; однако иногда казалось, будто мы слишком часто прибегаем к этому средству, ища только услады чувств, не испытывая истинного тяготения друг к другу, – просто потому, что в любви мы были едины. Иногда вслед за наслаждением появлялось чувство, что я злоупотребляю привлекательностью Глэдис, мой внутренний огонь становится тусклым, вот-вот погаснет и тогда наступит полная тьма и зловещие тени – предвестники бури – обступят меня. Однако на следующий день, освеженный работой, я вновь исполнялся надежды.
Настал июнь, а с ним зима; дни стали короче, пасмурнее, дул холодный ветер, земля промерзла. Несмотря на пылающие в очаге дрова, их ревущее пламя, Глэдис жаловалась, что в доме холодно, однако носить зимнюю одежду островитянок отказывалась. Ей не хватало парового отопления, тонкого и легкого, не стесняющего движений нижнего белья, и в морозные дни она держалась поближе к очагу.
Как-то в начале месяца выдался погожий день, и когда я вернулся после тяжелой работы – мы рубили лес, – то увидел, что Глэдис сидит усталая и на щеках ее полыхает румянец. Она сказала, что долго гуляла. За ужином она молчала, и я приписал это все той же усталости. Потом мы поднялись наверх, в мастерскую, я развел огонь, придвинул к очагу скамью, так, чтобы не дуло, покрыл ее ковром, чтобы было помягче, и Глэдис легла, не сводя с меня пристального, вопросительного взгляда.
– Ты очень ласков со мной, – сказала она так, словно была этого недостойна, а я – незаслуженно добр по отношению к ней. Я сел на пол рядом со скамьей. Казалось, что между нами – непреодолимая стена и мы далеки как никогда. Ветер завывал за окнами, становилось все холоднее. Я взял Глэдис за руку, но она решительно, с силой высвободила ее.
– Мне надоело, что эти окна так скрипят? – крикнула она.
– Закрою их поплотнее, – сказал я, подымаясь.
– Ах, не надо! – снова крикнула Глэдис. – Сиди, пожалуйста! Не волнуйся! Все это чепуха!
Я снова сел, глядя в огонь и думая, чего же ей на самом деле хотелось – чтобы я послушался ее или плотнее закрыл окна? Она лежала на скамье, и я чувствовал, как она тяжело смотрит мне в затылок… Почему она так резко отняла руку? Мог ли я винить ее за то, что ей неприятно мое прикосновение? Возможно, что-то было не так и она хотела выяснить это со мной. Я ждал, несколько задетый тем, что она непонятно почему отняла руку, понимая, что спорить бессмысленно, и в то же время счастливый оттого, что она рядом, испытывая, несмотря на усталость, чувство разлитого по всему телу сладкого покоя, испытывая желание, но не горячечно-нетерпеливое, а терпеливо-выжидательное, зреющее в уверенности, что немного позже она ответит на него, пусть и не захотела дать мне свою руку.
– Ты ничего не спросил о том, как я гуляла, – нарушила молчание Глэдис.
– Ну и куда же ты ходила?
– Мы прошли вдоль реки до поместья Севинов и обратно, к Верхнему мосту, а домой я возвращалась через холмы.
«Мы»! Но кто был с ней? Неужели она хотела, чтобы я сам спросил об этом?
– Получается целых пять миль, – сказал я.
– Замечательная прогулка. Мы повстречали маленького серого волка. Никогда раньше такого не видела… Молодой Севин сказал, что они безобидные и спускаются с холмов зимой, но когда я заметила, как между деревьев промелькнуло серое пятно, то перепугалась.
Значит, ее сопровождал молодой Севин. Случайная встреча или свидание?.. Я ждал ответа.
– Мне приходилось видеть их пару раз, – сказал я наконец. – Они скорее похожи на лису, чем на настоящего волка… Надо сказать Анселю – они таскают кур.
– Что мне делать, Джон? – спросила наконец Глэдис после долгого молчания. Голос ее дрожал. Я повернулся к ней, и во взгляде ее мне почудился упрек.
– Но что случилось, Глэдис? – Я дотянулся до ее руки, пробуя догадаться, о чем она думает.
Услышав мой вопрос и заметив движение, она вздрогнула и спрятала руки.
– В чем дело, скажи? – мягко обратился я к ней.
– А ты как думаешь?
– Я не знаю, Глэдис.
– Ты не знаешь, что молодой Севин заходил ко мне… пять или даже шесть раз?
– Нет. Я только однажды встретил его, когда возвращался домой…
Сердце гулко билось у меня в груди.
– И еще он… мы несколько раз ходили с ним гулять.
– Это правда, Глэдис?
– Раз я сказала – да!
Что мог я ответить, подумать?
– Но я не вижу в этом ничего страшного, Глэдис.
– Значит, во мне заговорила островитянка?
– Ах, Глэдис, это вовсе не по-островитянски – скрывать от меня подобные вещи!
Она негромко, жалобно вздохнула, и я отвел взгляд.
– Я не собиралась ничего скрывать.
– Но тебе было нелегко сказать об этом попросту, верно?
– Да, наверное, ты прав. Когда ты возвращался, твои мысли были совсем о другом. Часто ты казался таким далеким. И обычаи здесь совсем другие.
– Не беспокойся, Глэдис.
– Нет, я беспокоюсь… и меня беспокоит очень многое. Я все время думаю… Скажем, я знаю, что Ансель-брат и Станея давно были любовниками, а теперь живут наподобие пожилой супружеской пары или как друзья, на свой лад. Она сама прямо сказала мне об этом. А ты знал?
– Я подозревал, но, как бы то ни было, меня это не особенно тревожило.
– Но если бы речь шла о тебе самом?..
– Обо мне, Глэдис?.. – воскликнул я.
– Да, Джон, о тебе! Например, твои отношения с той девушкой, о которой ты рассказывал мне в Нью-Йорке. Я думала… Ты рассказывал об этом как о чем-то совершенно естественном… сказал, что ни о чем не жалеешь… Я никогда раньше не расспрашивала тебя.
Она резко замолчала.
– Эта девушка живет примерно в полутораста милях отсюда, – сказал я, – и я не видел ее, не писал ей, ничего не слышал о ней с тех пор, как здесь, да и вспоминал о ней не часто. У меня было много других забот. Несколько раз я, правда, думал, что будет, если судьба сведет тебя или меня с нею. Рано или поздно мы, наверное, встретимся…
– Не беспокойся! Я ничего не узнаю.
– А тебе хотелось бы знать?
– Не думаю… Разве только тебя что-то в ней заинтересует.
– Если насзаинтересует.
– Мне все равно.
– Если не все равно – скажи! Ни она, ни я не стыдимся того, что между нами было. Она была бы не против, если бы я все рассказал тебе.
– Именно! Тебе никогда не бывает стыдно. Здесь вообще никто ничего не стыдится! Именно это меня так расстраивает. Я думала, тебе будет стыдно… Мне бы на твоем месте – было!
– Не уверен, – если бы ты действительно была серьезно увлечена и считала свое чувство естественным. Воспитание могло бы навести тебя на мысль о том, что это нечто постыдное, но в глубине сердца ты знала бы, что это не так.
– Я не могла бы не стыдиться!
– Ах, нет… стыд тут ни при чем.
– Но ты жалеешь?
– Немного, потому что мне не всегда удавалось быть на высоте. Я рассказывал тебе в Нью-Йорке… А ты – жалеешь?
– Я не хочу жалеть… я хочу, чтобы ты пришел ко мне так же, как я к тебе. Но я любила тебя. И до сих пор люблю только тебя одного. Мне не столько важен сам факт, как то, что ты… что тебя это не беспокоит, что ты всем доволен… Что же будет с нравственностью, если люди так ко всему относятся? И вообще, есть здесь хотя бы такое понятие?
– Законы нравственности действуют, налагая запреты. Здесь любовь так сильна и естественна, что правит она, а в запретах нет нужды.
– Ах, дорогой… это неправда, люди не таковы!
– Здесь это правда, больше, чем в Америке или Европе.
– Пусть, но… но я все еще американка, и мне страшно.
По тону ее я понял, что ей действительно стыдно и больно; сердце мое учащенно забилось и снова сжалось свинцовым комом.
– Ты что-то хочешь сказать мне, Глэдис?
– Какая разница, если здесь не существует нравственных принципов?
– Это важно для твоего собственного спокойствия.
– А как насчет твоего?
– Для моего тоже. Итак, Глэдис?
Она ответила не сразу, и я затаил дыхание.
– Молодой Севин хотел поцеловать меня.
– И поцеловал?
– Да… однажды. Он застал меня врасплох.
– Когда это было, Глэдис?
– Сегодня днем.
Схватив ее руку, я сжал ее так, что хрустнули суставы. Боль и ревность одинаково жгли меня. Я видел, что Глэдис больно, но она не вымолвила ни звука.
– Мне пришлось объясняться на островитянском. И я не знала, что сказать, – воскликнула Глэдис смятенным, дрожащим голосом. – Он вел себя вполне прилично. Правда, перед этим мы говорили о достаточно личных вещах. Наверное, я немного кокетничала, но, Джон, в мыслях у меня не было ничего дурного… Ты не представляешь, что мне пришлось здесь пережить! А сегодня он попытался взять меня за руку и поцеловать. Бедный Севин! Все произошло так внезапно. Все было хорошо, но вдруг он стал умолять меня. Он говорил, что я такая красивая, что он ничего не может с собой поделать… Я попробовала объяснить ему. Но все островитянские слова, как нарочно, вылетели из головы. Я сказала, что он забыл – я принадлежу тебе… Кажется, он не понял… Я сказала, что нам надо остановиться, иначе все может зайти слишком далеко… Но он не обращал на мои слова никакого внимания и все старался схватить меня за руку, а я не давала. Он стал говорить, что не видел никого прекраснее меня… Ах, Джон! Я уже не надеялась на уговоры и страшно перепугалась. Потом меня словно осенило, и я сказала: «Я чувствую аниюк Джону, к нему одному». Он спросил: «Кто такой Джон?» – «Ланг! – сказала я. – И только к Лангу я чувствую анию.А к вам я ничего, ничего не испытываю!» Больше я не нашлась что ему сказать. Тогда он сразу успокоился и сказал, что лучше не пойдет меня провожать. Я ответила, что мне тоже так кажется и что ему вообще не следует со мной видеться. Он согласился, но добавил, что хочет объясниться.
Мы стояли на Верхнем мосту, и я дала ему время выговориться. Он спросил, почему же я сразу не сказала, что чувствую к тебе анию,что он совсем не понимает меня, что меня очень трудно понять, ведь я никогда не говорю, что чувствую, иногда кажется, что я собираюсь что-то сказать, но этого не говорю. Как же тут догадаешься? Я ничем не дала ему понять, что ты и я влюблены в одну алию.Конечно, он знал, что мы живем вместе и, вполне вероятно, любовники. Потом он напомнил, как однажды спросил меня, счастлива ли я в своей аниии алии,и я ответила – нет, но стараюсь. Мне и в голову не пришло, что таким образом он спрашивает, люблю ли я тебя. Я думала, он хочет спросить, довольна ли я своей жизнью… Я попыталась объяснить ему это. Наконец он ушел, сказав, что теперь понял меня и больше не доставит мне хлопот своей анией…да, он сказал именно это слово! А потом ушел. Я думала, умру от стыда, и еще долго стояла на мосту и вся дрожала.