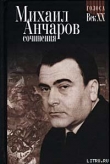Текст книги "Островитяния. Том третий"
Автор книги: Остин Райт
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Глава 34
НАНТАКЕТ
Повод же состоял в том, что пришло письмо от Глэдис – написанное в спешке, но довольно длинное, словно она вдруг решила излить кому-то душу, и этим человека оказался я.
Глэдис писала, что родственники стали чрезмерно опекать ее, и это действует ей на нервы. Когда на первых порах к вашим занятиям живописью относятся как к милому и безобидному оправданию собственного безделья, на это можно не особенно обращать внимание; однако, спустя некоторое время, когда вам уже постоянно и весьма серьезно начинают задавать вопросы типа: каковы ваши планы на будущее и что за занятие такое – живопись, это становится просто нестерпимо! В такой обстановке невозможно не только рисовать, но и вообще делать что-нибудь серьезное. Вместе с тем, продолжала Глэдис, родственники были очень милы с ней и предлагали остаться у них насовсем. Они даже взяли на себя труд узнать, не найдется ли для нее место в городском банке! Но она мечтала об одном – бежать отсюда любой ценой. На две недели она собиралась в Нантакет, к друзьям. Тут же было указано название гостиницы, где Глэдис думала остановиться, и дата ее прибытия и отъезда. Прочитав мое последнее письмо, она обратила внимание на то, что сроки ее пребывания в Нантакете и моего отпуска совпадают. Что ж, писала Глэдис, буду смотреть на север через пролив и думать: где-то там, совсем недалеко, Джон. Может быть, ему тоже захочется приехать в Нантакет и повидать Глэдис.
Сначала письмо пришло на адрес пансиона, оттуда его переслали в загородный дом дядюшки Джозефа, а от дядюшки – Филипу. До конца отпуска Глэдис оставалось всего несколько дней, я принял решение почти сразу – слишком уж настойчиво призывала меня Глэдис. Немедленно отослав письмо на адрес гостиницы, я сообщил Глэдис, что хочу ее видеть и приеду на пару дней, вот только не знаю, как добираться: из того места на побережье, где я находился, выхода к проливу не было. В ответ девушка телеграфом указала расписание подходящих мне поездов и пароходов, и дело, таким образом, уладилось.
Волны с неровными, зубчатыми краями, торопливо набегая одна на другую, разбивались о нос парохода, плывшего к Нантакету. Свежий юго-восточный ветер рябил дымчато-голубую воду, и белые пенные буруны то и дело вскипали на острых верхушках волн.
Стоя на палубе, я искал Глэдис в толпе встречавших и, вскоре заметив ее высокую и стройную фигуру, снял шляпу и помахал ею. Глэдис увидела меня, кивнула и приветственно подняла руку, оставшись стоять там, где была, в то время как все прочие с шумными криками бросились к сходням.
Спустившись на берег, я подошел к девушке, держась позади всех. Глэдис казалась выше в своем белом длинном платье и светло-желтой соломенной шляпке с белой лентой, с одной стороны поля шляпки, отогнутые кверху, мягко обрамляли ее лицо. Волосы темной волной падали на плечи. Выглядела она посвежевшей, бодрой, ни следа не осталось от той усталой, бледной, растерянной Глэдис, какой я помнил ее в Нью-Йорке. Она была похожа на цветок, который вы видели в бутоне, но который наконец раскрылся и теперь очаровывает вас красотой своего зрелого цветения. Я не нашелся что сказать, кроме нескольких слов благодарности за телеграмму.
– Ну, с таким чемоданом, – деловито заметила Глэдис, – придется нам нанять экипаж.
На пыльных вытертых подушках она в своем белом, воздушном наряде выглядела явно не на месте.
Я спросил, где смогу остановиться. Глэдис сказала, что договорилась о комнате во флигеле: отель переполнен.
Она держалась несколько скованно, даже робко и еще ни разу по-настоящему не улыбнулась. Но это было не важно: впереди нас ждал вечер, а потом целый день вместе и еще один вечер, к тому же никаких лишних хлопот, связанных с отъездом. Правда, я вспомнил о друзьях Глэдис, и попросил ее рассказать о них, боясь, что они смогут нарушить мои радужные планы. Глэдис ответила, что они уже уехали.
– Так, значит, вы здесь одна?
– Да, – ответила девушка, – но все нормально. Я выгляжу старше своих лет. Кое-кто дает мне двадцать пять.
Мы подъехали к гостинице – невыразительному, длинному, с тесными рядами небольших окон, деревянному строению. Стены его были выкрашены белой краской, а вокруг тянулась широкая веранда.
Пока я расплачивался с возницей, Глэдис исчезла, сказав, что будет ждать меня. Я зарегистрировал свои документы, и меня отвели во «флигель», находившийся через улицу (это был небольшой коттедж, где обычно размещалась гостиничная прислуга), и показали мою комнату, очень небольшую, после чего я вернулся в отель за Глэдис. На веранде, в зеленых качалках, собралось довольно много публики, разглядывавшей улицу. Пока я взглядом искал Глэдис, все внимательно следили за мной. Из-за угла был виден кусочек пристани, плещущие о причал волны, а за ними – полоска песчаного берега, белесого, словно скрытого тонкой пеленой дыма. В дальней части веранды народу собралось меньше. Потом я заметил Глэдис, уже без шляпки: она сидела ко мне в профиль, чуть подавшись вперед. При взгляде на ее загорелую шею и по-детски худые плечи она показалась мне совсем девочкой, но в линиях лба, скул и гордо посаженной головы чувствовалось достоинство и благородство. Она беседовала с темным от загара молодым человеком лет двадцати трех, который, как только я подошел, встал и вскоре удалился.
Из-за серой, выложенной понизу галькой стены старой верфи показалась, плавно развернувшись, парусная лодка со взятыми рифами. Ее неожиданное появление было до боли ярким и прекрасным.
Нас ожидали долгие, неспешные часы вместе. В душе у меня царил счастливый покой… Но вот Глэдис беспокойно пошевелилась в кресле. Я обернулся и увидел ее недоуменный взгляд, широко раскрытые глаза пристально глядели на меня.
– Я все думала, обмолвитесь ли вы хоть словом? – сказала она. – Вы так долго молчали.
– А надо было обязательно что-то говорить?
– Хм! Когда люди встречаются, они обычно разговаривают, разве нет? Я решила молчать, пока вы не заговорите первый.
– Вы правы, Глэдис, – ответил я, – но никаких особенно важных мыслей у меня не было. Я просто думал о том, как все хорошо… Вы писали, что родственники действуют вам на нервы. Мой брат – тоже, и все больше и больше последние десять лет. Такое облегчение уехать от них, хоть я и очень люблю брата. Мы все время ссорились.
Глэдис наклонилась ко мне, ее длинные руки лежали на зеленых подлокотниках качалки. Она загорела, но кожа рук была по-прежнему тонкой и нежной, а длинные, суженные к концу пальцы тесно переплелись.
На мгновение я забыл, о чем идет речь.
– Вы расскажете мне поподробней о ваших родственниках, ладно? – спросил я. – Нам нужно о многом поговорить.
– Да, конечно!
Она расцвела своей уже знакомой мне улыбкой, озарившей все лицо, на щеках появились глубокие ямочки.
– Мы с Филипом никак не могли прийти к единому выводу насчет простой жизни, – начал я. – Филип думает, что я идеализирую простую жизнь из-за Островитянии, хотя простого там – только социальное устройство. Он такой непоследовательный! Не успел я к ним приехать, как он и Мэри, его жена, стали рассказывать про то, как просто они живут летом, хотя, по крайней мере для нее, это очень сложное время. Для Филипа простая жизнь значит время от времени колоть дрова, одеваться попроще, жить в комнате без обоев и прочее в этом роде – все, что отличается от его привычного образа жизни.
– А существует ли она вообще, эта «простая жизнь»? – спросила Глэдис.
– Нет, но жить можно по-разному, усложняя либо одну, либо другую сторону жизни. А так, если ты, конечно, не ящерица…
– «Идеальная жизнь»? – спросила Глэдис с улыбкой.
– Вы читали притчу Станнинга?.. Вы читаете на островитянском, Глэдис?
– Немножко. Кое-что мне удалось понять и у Бодвина. Он как раз ссылается на «Идеальную жизнь».
– Вам понравился Бодвин?
Этот вопрос я задал на островитянском. Глэдис внимательно, задумчиво посмотрела на меня. Нет сомнений – она поняла. У меня было такое чувство, словно в доме, каждый уголок которого я отлично знал, вдруг распахнулась дверь еще одной комнаты, неожиданной и прекрасной.
– Сначала я просто читала эти истории, не задумываясь, что в них есть какой-то глубинный смысл. Но он был. Мне хотелось понять его, и я страшно жалела, что так необразованна. Я плохо разбираюсь в философии, но уверена, что в этих историях заложена своя философия.
– С Филипом мне ничего не помогло. Едва я принимался объяснять ему, чтодумают островитяне, он тут же называл их гедонистами, а когда я отвечал, что в таком случае они – люди добросердечные, Филип заявлял, что это абсурд. Так обычно проходили наши разговоры.
– Кто такие гедонисты? – спросила Глэдис. – Я ведь никогда не ходила в колледж.
– Я посмотрел по словарю. Кстати, словарь у Филипа всегда под рукой. Слово греческого происхождения, от hedone, что значит «удовольствие». Видимо, гедонисты считают удовольствия высшим благом и строят свою жизнь соответственно. Но мне никогда не удавалось ничего извлечь из философских определений. Они все равно что палка о двух концах. Пока над ними не задумываешься – все прекрасно, но стоит поразмыслить, и они оказываются сплошным противоречием.
– Хотела бы я учиться в колледже.
– Все, чему там учат, вы и сами со временем узнаете.
– Почему вы так говорите?
– Вы быстро схватываете, и вам интересны знания. К тому же у вас нет предрассудков.
– Я полна предрассудков.
– Можете ли вы пожертвовать жизнью ради одного из них?
– Нет… только не из-за предрассудков.
– Значит, они вам не помеха.
– Я всегда теряюсь, когда говорю с человеком, окончившим колледж.
– Есть такая притча, Глэдис. Двух лошадей отпустили погулять на лугу. Одна умчалась вперед, а другая безнадежно отстала. Но первая подождала ее, и с тех пор они прекрасно играли вместе: никто не убегал вперед и никто не отставал.
В ее взгляде промелькнуло что-то далеко не робкое.
– Что еще вы прочли на островитянском? – спросил я.
– Вашу «Историю Соединенных Штатов».
– Так вы прочли ее! Вы писали, что для вас это слишком сложно.
– Пока мама болела, я по-настоящему взялась за островитянский. Мне нужно было что-то совсем, совсем другое: я уставала быть только сиделкой.
Так проговорили мы до ужина, когда раздался звучный удар большого колокола.
Глэдис торопливым шагом вошла в столовую – длинную залу с низким потолком и рядами столов. Посуда, скатерти, стены, потолок и передники девушек-официанток сверкали белизной. За каждым было закреплено его место, и, невольно нарушая эту уныло-безупречную симметрию, вы чувствовали себя едва ли не нарушителем границы.
Мы сели за стол, накрытый на десять персон. Мне отвели место в конце, так, словно я почему-то не имел права сидеть рядом с Глэдис. Кроме нас, за столом пока никого не было.
– Я люблю приходить раньше других, а то все обычно так пялятся, – сказала моя спутница.
– Ну, вы такая симпатичная, высокая, привлекательная, – ответил я.
Глэдис удивленно взглянула на меня.
– Не надо мне льстить, пожалуйста, – сказала она с едва заметным, но больно кольнувшим меня упреком, словно я и вправду сказал что-то неподобающее.
Понемногу стали подходить и другие посетители, Глэдис поспешно и явно смущаясь представляла меня им.
Еду подавали в массивных белых тарелках, окруженных большим числом маленьких, плотно теснящихся вокруг, словно буксиры вокруг корабля в порту. Стучали ножи и вилки, звучала оживленная беседа. Глаза мои, выискивая хоть какое-нибудь теплое, живое пятно в белом однообразии скатертей, салфеток и лиц, остановились на Глэдис.
Она оказалась права. На нас, причем не столько на нее, сколько на нас обоих, было устремлено множество взглядов, не враждебных и не дружеских, а скорее любопытных, жадных, липнувших к нам, как клейкие мушиные лапки. Приветливая с виду женщина лет пятидесяти, называвшая Глэдис по имени и то и дело отпускавшая ей тонкие комплименты, задала и мне несколько осведомительных вопросов. Я вдруг понял, что всех этих людей занимает одно: какие у нас отношения с Глэдис; мне показалось, словно чьи-то чужие пальцы ощупывали, обшаривали нас.
Ужин кончился. Я предложил Глэдис прогуляться, и после минутного колебания она побежала к себе за накидкой, – было довольно прохладно, сыро, и с моря еще задувал ветер. Мы шли по тихим, малолюдным улицам, вдоль старых зданий, и Глэдис, в длинном темном плаще, служила мне проводником.
– Чем мы займемся завтра, Глэдис?
– А чего бы вам хотелось?
– Давайте весь день проведем у моря.
– Очень жаль, – ответила девушка, помолчав, – но с утра я собиралась кататься на лодке.
Настал мой черед примолкнуть.
– Извините, – повторила Глэдис, – мне очень жаль.
– Ничего страшного, – ответил я, – пусть это будет не целый день.
– А вы уверены, что мы достаточно хорошо знакомы?
– Но какое же отношение это имеет к тому, хотите ли вы отправиться со мной или нет?
– Мне бы хотелось…
– Тогда чего вы боитесь? Меня?
– Нет, нет, не вас!
– Чужого мнения? Того, что скажут люди? Вам неприятны их пересуды?
– Я здесь одна, и мне следует быть осмотрительной.
– Значит, вам небезразлично, что подумает о вас эта публика?
– Не совсем… Конечно мне все равно! В любом случае я никого из них больше не увижу. Но мама часто повторяла, что если ты одна, да к тому же девушка, люди только и ждут, что ты что-нибудь сделаешь не так. Она говорила – это от зависти. Она считала, общество всегда следит за тобой и поэтому ты тоже должна быть начеку.
– Я скомпрометировал вас своим приездом?
– А вы как считаете?
– Разве что в глазах тех, чье мнение для вас не важно. Только в их глазах.
– Думаю, вы не совсем правы, – сказала Глэдис. – В Нью-Йорке человек легко может затеряться в толпе, но здесь… Не лучше ли вести себя так, как католики?
– Это спокойнее, – ответил я, – хотя и католики порой могут заставить вас почувствовать себя неуютно. Но не кажется ли вам, что вы страшитесь призраков?
– Мне не хотелось бы вести себя вызывающе, – сказала Глэдис. – Это нехорошо – так учила меня мама.
– Что вызывающего в том, что мы проведем день вместе? И почему это нехорошо, если вы хотите этого, не боитесь меня, а единственная опасность – в том, что кто-то из тех, чье мнение вас не волнует, осудит вас.
– Наверное, я глупая, но я решила, что если проведу часть дня с кем-то еще, то люди подумают…
– Вы же сами сказали: вам не важно, что они подумают.
Глэдис задумалась:
– Как бы то ни было, я уже обещала.
– Ладно, держите слово, но мне обещайте вторую половину дня.
– Конечно.
– И вечер тоже.
– Хорошо.
Мы продолжали идти молча, и мне было не по себе от тайной досады: сказанное встало между нами, словно стена тумана.
– Глэдис, – спросил я, – объясните, какая разница, знаете вы меня больше или меньше?
– Знай я вас дольше, я могла бы представить вас как старого друга семьи, которого помню с детства… что-нибудь такое.
– Отчего же так и не сказать?
– Я привыкла говорить правду. – В голосе ее прозвучали звенящие нотки.
– Но стоит ли говорить правду людям, чье мнение вам безразлично и кто вообще не имеет права судить вас, тем более если из-за этого вы лишаетесь того, чего вам хочется?
– Еще раз – извините.
– А вы уверены, что не боитесь меня?
– Ни капельки! – быстро ответила она.
– Итак, вы доверяете мне, человеку которого знаете, и боитесь абстракции, общественного мнения?
– Вы считаете меня очень глупой?
– Гораздо хуже. Нет, нет, вы очень умудрены! Но как ужасно подчиняться такоймудрости.
– Мы слишком серьезно говорим о пустяках, – сказала Глэдис.
– Да. Но важно не то, что мы теряем время, которое могли бы провести гораздо лучше, а причины, по которым мы его теряем.
– Вы думаете, все это ерунда?
– Именно… Как-то я провел день вместе с Дорной, помните, я рассказывал? И даже не день, а целых два. Мы отправились на ее лодке, и нам пришлось заночевать на борту, потому что ветер стих. Я знал ее тогда еще меньше, чем вас. Ничьи глаза не следили за нами. Мысль о том, правильно или неправильно мы себя ведем, не гнала нас. И все же, с точки зрения островитян, молодому человеку и девушке, которые случайно оказались вместе, нехорошо было слишком долго оставаться наедине, поскольку рано или поздно дружеские чувства, увлекавшие их, начинают артачиться, как норовистая лошадь, и верх берет чисто животное влечение.
– А как долго это «слишком долго»? – спросила Глэдис.
– Зависит от людей. Один день, пожалуй, не слишком.
– Я ни разу не проводила целый день одна с мужчиной. Мне иногда хотелось. Но маме это не нравилось.
– Хотелось?.. Действительно?..
– О да. Мне казалось, что мама ведет себя глупо, не доверяя мне. А она все твердила, что я ничего не понимаю. Хотя, – продолжала Глэдис, – я реалистка, и даже, может быть, мне не хватает наивности.
– Если это и так, то потому, что жизнь сделала вас такой. Теперь мне ясно, как это все происходит. Представьте, что мы с вами исчезли куда-то на два дня, как мы с Дорной…
– А разве вам, побывавшему в Островитянии, путь от Доринга до Острова не кажется достаточно долгим?
– Да, верно.
– В письме вы ничего не писали о том, с кем вы были.
– Но вы – американка, и я боялся, что вы составите неправильное мнение.
– О вас?
– О Дорне.
– Полагаю, я была бы удивлена.
– А теперь удивлены? Или, может быть, теперь вы худшего мнения о нас с Дорной?
– О вас, разумеется, нет. А о ней я ведь знаю только с ваших слов. Похоже, она очень красивая.
– Да, Глэдис.
– Вы рассказали мне о ней, – мягко сказала моя спутница, – и я вам за это благодарна… Как же неверно я все себе представляла!
– Общество внушило вам свой узкий взгляд на жизнь.
– Что ж, видимо, вас Островитяния сделала менее практичным… Но почему вы хотите теперь рассказать мне о Дорне, раньше ведь вам этого не хотелось?
Ответ нашелся не сразу.
– Потому, что мне никогда не приходило в голову, что у вас могло составиться превратное мнение.
– Уверяю вас, нет! – твердо ответила Глэдис.
– Представьте, что если бы мы с вами уехали на два дня, то у обитателей гостиницы скорей всего составилось бы ложное мнение. И я объясню вам почему. Дело в том, что они и на минуту бы не задумались о том, что мы с вами за люди. Они лишь заметили бы, что произошло нечто, чего «не следует делать». Их шокировало бы нарушение условностей. А попроси их объяснить, почему же не следует делать того-то и того-то, они пустились бы в туманные рассуждения о соблазнах и прочем, по-прежнему не считаясь с нами как с конкретными, живыми людьми. Возвращаясь к уже случившемуся, они, вполне вероятно, предположат, что зло коренилось именно в нарушении условностей. Но откуда им знать, что мы чувствовали: было ли то искушением, соблазном или нормальным, обоюдным влечением двух любящих существ? Так или иначе, почему они вправе вмешиваться? Тем не менее они считают своим долгом вмешаться из-за того, что нарушена условность, а вовсе не из-за того, хорошим или дурным был сам поступок… Косность взглядов – вот камень преткновения. Будь взгляды этих людей шире, они моментально ощутили бы себя свободнее и сами свободно решали, как воспримут другие их поступки!
– Не знаю, как бы я могла существовать без условностей, – беззаботно откликнулась Глэдис. – На что же тогда опереться?
– Условности хороши, когда касаются правил поведения, – ответил я, – но не тогда, когда превращаются в неумолимый слепой закон.
– Я не верю в них именно потому, что они существуют. Мама обычно говорила, что презирает их.
– Но тем не менее соблюдала?
– О да! Она говорила, что так надо.
Я подумал о покойной матери Глэдис, которую она любила, но во мне миссис Хантер и ее поучения не вызывали симпатии.
– Она всегда была непоследовательной, – продолжала Глэдис, – а порой и просто говорила невесть что.
– И все-таки вы отказываетесь представить меня как старого друга семьи.
– Мама учила меня никогда не лгать, и я так и не привыкла врать… по крайней мере с легкостью.
– А что значит «невесть что»?
– Ну что она умнее меня… и я пока еще слишком глупа, чтобы судить, когда следует лгать, а когда нет.
– О, детская доверчивость!
– Я не была образцовым ребенком, – сказала Глэдис. – Вот вы нападали на законы и правила. А как по-вашему, разве не должно быть такого правила – не лгать?
– Нет, – ответил я. – Вы обязаны говорить правду тому, кто имеет право ее знать, потому что эта правда может повлиять на его дальнейшие поступки. Тому же, кто просто сует нос не в свои дела, вы ничем не обязаны.
– Не совсем с вами согласна!
– И вы не должны осуждать человека за ложь, даже если знаете, что он лжет.
– Я не осуждаю. Но разве вас не учили быть правдивым?
– Учили. Моим родителям ложь представлялась чем-то столь ужасным, что, стоило мне солгать, меня ждала порка, хотя в остальных отношениях они были люди мягкие. В результате долгое время одна мысль о лжи вызывала у меня жгучие ощущения в определенной части тела. Все это неправильно!
И я рассказал о том случае, когда Алиса взяла на себя вину за мой проступок, чтобы меня взяли в поездку.
– Оба мы говорили неправду, – сказал я, – но испытывали при этом такое чувство общности, благодарности и сострадания друг к другу, что оно полностью затмевало собой сознание вины. Разумеется, это было так по-детски.
– И что следовало сделать вашим родителям?
– Им следовало разобраться в наших чувствах, объяснить, как далеко могла завести нас такая практика и как по-детски мы рассуждаем. Наказание было бессмысленным.
– А в Островитянии?
– Там это вряд ли могло случиться. Наказание порождается условностями и законами, – сказал я и описал возвращение Наттаны в Нижнюю усадьбу так, как она сама рассказала о нем в письме, только опуская имена, и добавил: – Единственное наказание, какого потребовали в данном случае островитянские законы, – на некоторое время лишить эту девушку возможности заниматься любимой работой.
– Она не такая, как другие, – сказала Глэдис.
– Стало быть, и относиться к ней следует особо. Закон подстраивался под неё, а не наоборот.
– Но как же определить, кто особенный человек, а кто нет? Законы пишутся для обычных, простых людей. Для тех, кого большинство.
– В Островитянии общество устроено намного проще, поэтому там нет нужды в особых законах для простых людей. Суждения составляются с учетом характера каждого. Все более гибко.
– И все равно я думаю, – сказала Глэдис, – что поведение той островитянской девушки кажется ужасным ее отцу. Ей следовало бы постараться понять его.
– Но они и так прекрасно поняли друг друга.
– Этого мало. Почему бы ей не пожертвовать своими убеждениями?
– А разве не лучше оставаться честной?
– Не всегда… то есть я хочу сказать, не так. Допустим, я понимала, что мама часто непоследовательна, несправедлива, но какая разница, если я могла сделать ее счастливой? Если бы она даже наказала меня, это ничего бы не изменило. Я старалась быть такой, какой ей хотелось меня видеть.
– Вы любили ее, – сказал я. – А вы были счастливы, исполняя ее желания?
– Конечно.
– Вы истинная островитянка, Глэдис. Пока я теоретизирую насчет законов и условностей, вы думаете о чувствах конкретного человека.
Правда, я не добавил, что и Глэдис оказалась непоследовательной. Ведь если бы она действительно разделяла мысли своей матери, то не стала бы называть их несправедливыми и необоснованными.
Мы подошли к старой ветряной мельнице, темневшей на взгорке. Красная полная луна вставала в небе. Обернувшись, мы взглянули на ровный красный диск. В порывах не стихающего ветра складки плаща Глэдис то и дело, развеваясь, касались моей руки.
Мы удалялись от города по грязной, размытой дороге. Кое-где на низкой плоской равнине виднелись редкие дома. Млечный свет встающей луны рассеивал мглу, и тени становились более угловатыми и острыми.
Глэдис шла легко, плавно, несмотря на свое длинное платье, и я представил, как бы она была хороша – еще более раскованная и завершенная – в свободной островитянской одежде.
Оставленная мною земля Островитянии просвечивала повсюду, как память о сне. И Глэдис тоже словно была связана с нею…
Она шла то опустив голову, и тогда тень скрывала ее лицо, то поднимая ее и глядя в небо, и лунный свет падал на ее лицо. Каждое мое переживание несло в себе частицу ее существа, ощутимо сладостную, томительную и тревожную.
– Я надеюсь, вы правильно поняли все, что я говорила вам о маме, – вдруг сказала она, и внутренняя связь ее мыслей была для меня совершенно ясна: Глэдис боялась, что я буду несправедлив к той, кого она так любила.
– Не бойтесь, я понял все правильно, – ответил я.
– Маме жилось нелегко, – продолжала девушка. – Она с детства была избалованна, а потом деньги наши все таяли и таяли и она мучилась, не зная, что с нами будет.
– И она не могла подыскать себе какой-нибудь работы?
– Как-то она призналась мне, что чувствует, что ни на что не годна… Всякий раз, как только подумаю о какой-то другой жизни, вспоминаю, как тяжело приходилось маме. Ее воспитали с мыслью, что ей никогда не придется работать. Дедушка мой был вполне обеспеченным человеком. Он путешествовал, ни в чем себе не отказывал… Жизнь в Сиракузах, после свадьбы, показалась маме очень убогой. Она чувствовала себя космополиткой. В Нью-Йорке отец не преуспел… Вообще, я не очень хорошо помню его. Мама обычно говорила, что он был преуспевающий провинциал и ему не стоило уезжать из Сиракуз… Конечно, мы с ней все время жили вместе, и я не знала, что деньги на исходе. Маме казалось, что нам хватит того, что у нее было, на двоих, и я не сомневалась, что и после ее смерти буду жить без забот. Она старалась внушить мне мысль, что следует искать счастья в замужестве. Я же беспокоилась только о том, чтобы быть такой, какой она хочет меня видеть… Она действительно любила меня, Джон, я знаю. Кроме меня, у нее ничего не было.
– И вы любили ее.
– Конечно.
Сейчас Глэдис шла с понуренной головой, казалось едва касаясь земли.
– Вы понимаете ее, скажите правду?
– Да.
– Жизнь оказалась жестокой к ней.
– У нее не было своей алии, – сказал я.
– Что это значит?
– Я уже, наверное, наскучил вам Островитянией?
– Нет, нет. Расскажите.
– Островитянским девушкам никогда не прививают мысль о том, что ожидающая их жизнь может быть более пышной и яркой, чем та, что они ведут. Каждая знает, что, если выйдет замуж, условия ее жизни останутся практически теми же. Девушка отдает предпочтение мужчине, исходя из его собственных достоинств, а не из его достатка. И после свадьбы она не пытается изменить жизнь мужа. В браке она обретает чувство уверенности и постоянства и на этой основе может сама построить богатую и счастливую жизнь. Алия– это любовь человека к дому и семье, как к чему-то, что, даже меняясь, остается неизменным… Главное в ней – любовь родителей к детям, детей к родителям и всех родственников друг к другу. Это делает семейные узы естественными и прочными. У всех общая цель. Взять хотя бы мой случай.
И я поделился с девушкой своими раздумьями о любви родителей ко мне и моем отношении к ним, о том, какие чувства питают Филип и мама к нашим родственникам, и наконец сказал:
– Все это, Глэдис, примеры любви, но любви ущербной, хотя она могла бы принести и гораздо лучшие плоды, будь у каждого из нас алия.
– Бедная мама, – тихо сказала девушка. – Интересно, понравилось ли бы ей такое.
– А вам?
– Мне? – Глэдис задумалась… – Скорее всего я не гожусь для островитянской жизни.
– Но почему?
– Я во всем сомневаюсь. Та островитянка, про которую вы рассказывали, твердо знала, чего хочет. Мне это, в каком-то смысле, не дано.
– Неужели они показались вам людьми, не ведающими сомнений?
– Разве это не так?
– Они прекрасно разбираются в человеческих отношениях, потому что образование их строится иначе: меньше внимания уделяется фактам и гораздо больше – реальным человеческим чувствам и поведению. Такое образование развивает в них чуткость души.
Глэдис погрузилась в задумчивость.
– Мне трудно ответить вам, – заговорила она наконец, и слова ее, изобличая еще свежий жизненный опыт, прозвучали интригующе. – Значит, они так хорошо понимают друг друга?
– Если островитянин влюбляется, а его возлюбленная отвергает его, она считает своим долгом объяснить ему все причины и быть с ним предельно искренней.
– И Дорна повела себя так же? – робко спросила Глэдис.
– Да, и, зная, как ревностно берегут женщины тайну своих прихотливых поступков, думаю, что она повела себя как замечательный, истинно добрый человек.
– Быть может, лучше иногда пожалеть мужчину и не говорить ему все напрямик? Ведь если он будет постепенно узнавать истину, ему придется не так больно.
– Нет!
– Но часто девушка сама не в силах разобраться в своих чувствах.
– Пусть так и скажет.
– Она может не захотеть, испугаться…
– Островитянки с детства приучаются к откровенности. Скажите, Глэдис, вы имеете в виду что-то конкретное?
– Да, однажды мне сделали предложение. Мне исполнилось всего восемнадцать, но мама была «за». Даже не берусь описать, что я чувствовала. Казалось, мне стоило ответить согласием. Это разрешило бы многие проблемы… Но потом я поняла, что не могу! Но причин отказа я ему не объяснила. Это было невозможно!
– Если причины были вам ясны, почему вы не захотели объяснить открыто?
– Ах, – воскликнула Глэдис, – как же может женщина признаться мужчине, что он для нее всего лишь друг, и только?!
– Разве это так трудно? Это – правда и звучит более чем определенно.
– Мама твердила, что я должна поступиться тем, что чувствую. Она вконец запутала меня… И как я могла, сидя рядом с ним, говорить ему такие вещи?
– Разумеется, – ответил я, – не могли, не имея ясного представления о том, что с вами происходит. Сначала человеку следует хорошенько разобраться в себе, а уж потом говорить о своих чувствах. Уверен, вам обоим пришлось бы гораздо меньше терзаться и переживать.
– Значит, можно научиться…
– Пройдя тяжелый, мучительный путь.
– Мне кажется, я еще не знаю… Разве можно быть уверенным вполне?
– Можно, если сбросить лишнее бремя.
Мы возвращались к гостинице узкой улочкой, по обеим сторонам которой росли старые деревья, а осанистые старинные дома гордо и неколебимо высились в лунном свете, словно обещая милый уют и тепло – отдых после тягот жизни на море, чей соленый запах чувствовался в воздухе.
Глэдис задумчиво молчала… Мне ничего не хотелось от нее скрывать, и я первым нарушил молчание.
– Я любил Дорну, – начал я, – и не сомневался, ни на минуту не сомневался в своей любви. Потом я потерял ее… Это было тяжело. Но есть что-то такое в Островитянии, что всегда придает человеку силы. А затем Дорна подарила мне те несколько дней, те часы воздаяния, после которых между нами не осталось никаких недомолвок и неясностей. Теперь она – прекрасное воспоминание, а я – окончательно свободен.