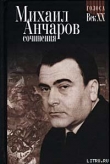Текст книги "Островитяния. Том третий"
Автор книги: Остин Райт
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Глава 39
ПОМЕСТЬЕ НА РЕКЕ ЛЕЙ
Свежий, прозрачный утренний свет заливал комнату. Я украдкой взглянул на Глэдис, которая не знала, что я уже тоже проснулся. Она лежала на спине, глаза, оттененные черными ресницами, были широко открыты. Глядя на темные перекрытия потолка, она похожа была на радостно завороженного ребенка.
В открытое окно веяло прохладой. В доме и вокруг царила тишина. Возможно, Станея уже и пришла, но мы все равно не услышали бы ее через толстые каменные стены и пол.
Заметив, что я проснулся, Глэдис потянулась ко мне и заговорила о том, что счастлива, так, словно хотела уверить меня в этом.
– Я все думала о том, чем могу заняться, Джон. Ведь ты, наверное, почти каждое утро будешь рано уходить из дома.
– Больше всего меня беспокоит сейчас, как мне передать пятую часть выручки за урожай агенту в Тэне, – ответил я. – Половина или треть уйдет на уплату налогов, а остальное мы продадим и только эти деньги сможем расходовать. Через несколько дней предстоит съездить в город – продать зерно, овощи, которые скоро портятся, яблоки, сидр и вино.
– Можно я поеду с тобой?
– Когда я говорю «мы», то имею в виду и тебя. Надеюсь, тебе захочется поехать.
– Обязательно.
– К тому времени вернется Фэк, и ты сможешь взять Грэна (эту лошадь подарил ей Дорн), а ту, что я нанял, мы прихватим тоже. Как только закончим дела, завезем ее обратно в Фаннар.
– Замечательно. А что ты будешь делать сегодня?
– Покажу тебе поместье и представлю Анселя и Станею.
На лице Глэдис появилось робкое, неуверенное выражение.
– Что мне лучше надеть?
– Коричневое прогулочное платье, которое дала тебе Некка.
– Буду островитянкой, – решительно произнесла Глэдис.
После завтрака мы отправились по идущей под уклон дороге в небольшую долину, где жили арендаторы. Спустившись вниз, мы ненадолго остановились. Потом поехали вверх по отлогому склону перед домами, через низкую седловину, с одной стороны которой возвышалась поросшая соснами гряда, а с другой – холм, вершину которого, словно плюмажи, украшали дубы и буки, а кругом раскинулись поля. Дальше дорога вела на север и снова сворачивала к реке Лей, русло которой вплотную подступало к усадьбе в двух местах, поскольку в восточном направлении река поворачивала вправо. Наконец мы достигли северной оконечности наших земель, при этом удалившись от усадьбы на целую милю. Перед нами лежали земли Ранналов; здесь местность делалась более гористой.
На мосту мы снова остановились.
– Мне наше поместье представлялось меньше, – сказала Глэдис.
– Миля в длину и почти полмили в ширину. Я сам его еще недостаточно знаю… Теперь, вместе, мы исследуем каждый уголок, даже самый запущенный, верно, Глэдис?
– Так прекрасно столько времени проводить на воздухе. В Нью-Йорке…
Переглянувшись, мы рассмеялись.
– Нью-Йорк!.. – воскликнула Глэдис. – Где теперь все твои театры, шум, грязь, толкотня, грохот поездов!.. Неужели я и вправду когда-то жила там? Я стала совсем другой! Ты женился на девушке из Нью-Йорка, сможешь ли ты полюбить ее островитянкой?
– Ты останешься прежней.
– Это невозможно, дорогой. Я полностью переменилась.
– Может быть, ты ищешь себя.
– Хотелось бы мне самой знать, чего я ищу. Я знаю только… – Она умолкла, а затем торопливо продолжала: – Знаю только, что любовь способна очень сильно изменить человека.
– К лучшему?
– Меня – да. Я счастлива… Ну а ты? Что для тебя, Джон, значит то, что я теперь все время рядом и ты можешь… ах, прости, дорогой, любить меня, обладать мною, знать, что я принадлежу тебе?
Я постарался найти нужные слова, но смог вымолвить только:
– Для меня в этом – покой и сила.
– Как это забавно звучит!
– И красота, – добавил я.
– Скажи, ты меня любишь?
– Люблю, – ответил я, чувствуя, что слово это ровным счетом ничего не добавляет к сказанному.
– Остальное мне не важно.
Идя по собственным следам, мы поднялись на Сосновую гряду, откуда Глэдис могла сама, воочию и без всяких объяснений, увидеть общий план нашего и соседних поместий. Холмы Года казались ближе, чем были на самом деле, а в шестидесяти милях вдали, за долиной Доринга, различимы были белые снежные вершины, невысокие, но отчетливые.
В четверти мили, выше наших владений, виднелось желтое колосящееся поле, где сейчас работал Ансель и остальные. Туда мы и направились сквозь густую сосновую поросль. Наконец Глэдис встретилась со всеми, кого мы не смогли застать дома по дороге в усадьбу: с самим стариком Анселем, «Анселем-братом»-Анселем и с молодым Анселем, которому исполнилось двадцать три. Все трое – дед, сын и внук – внешне были одного типа: сухощавые, но крепкие, со сдержанным, благородным выражением лица. Двое старших из троих Стейнов молодого поколения были покряжистее и попроще. Глэдис встретила их с улыбкой, учтиво и серьезно, без малейшего жеманства.
Поприветствовав гостью, все снова принялись за работу, кроме старого Анселя, который завел разговор об отсрочке платежа, о том о сем и наконец обратился ко мне с просьбой помочь сжать и обмолотить зерно с этого последнего поля. Глэдис держалась несколько в стороне, словно наш разговор о хозяйстве ее не касался. Мне хотелось, чтобы она одобрила мое согласие помочь старику и его семье, но она промолчала, и мне пришлось дать согласие только от себя.
Я подъехал к Глэдис, намереваясь рассказать о нашей беседе. Она следила за косарями, которые в ряд продвигались по мягко волнующемуся полю, оставляя за собой волнистые полосы сжатых колосьев.
– Так хочется попробовать! – воскликнула Глэдис.
– Поработать серпом?
– Ах, нет! Передать все это на холсте – желтое поле, синие рубахи жнецов, их мерное движение вперед.
– Попробуй.
Глэдис только горько улыбнулась, но я понял, что задача кажется ей совершенно невыполнимой.
– Попробуй хотя бы набросать, – сказал я, – не обязательно ведь, чтобы сразу получилась готовая картина.
– Я не умею рисовать.
Все остальные доводы были явно бессильны… Я рассказал Глэдис о просьбе Анселя и о том, что согласился помочь ему.
– Ну конечно! – ответила Глэдис. – Тогда я поеду домой?
– Лайя и Лайна скоро принесут обед. А потом вместе с детьми – они уже вернутся из школы – будут подбирать колосья. Если хочешь, можешь к нам присоединиться.
– Надо бы распаковать вещи.
– Как тебе больше нравится. Станея приготовит тебе ленч.
– А чего больше хочется тебе?
– Чтобы ты выбрала сама, одно могу сказать – работа эта довольно приятная.
Глэдис взглянула на меня в замешательстве, и, чтобы помочь ей принять окончательное решение, я сказал:
– По крайней мере останься и перекуси с нами.
– Хорошо. А пока чем мне заняться?
– Помоги Лайе и Лайне.
– Они не будут против?
– Наоборот – только рады.
Постояв с минуту в нерешительности, Глэдис направилась к видневшимся в отдалении домам – медленно уменьшающаяся фигурка, одиноко бредущая по краю поля.
Я взял грабли и двинулся вслед за жнецами. Валки скошенных колосьев лежали ровно и аккуратно, что облегчало мою работу. Скоро я уловил ритм, и движения мои стали механически повторяющимися и однообразными. Работать так было легче и приятней, и я начал вполголоса напевать какие-то незнакомые раньше, сами собой приходящие в голову мелодии…
А скоро и Лайя, Лайна и Глэдис появились в воротах дома на дальнем конце поля – маленькие движущиеся фигурки в ярких платьях. Все, как по условленному знаку отложив серпы, собрались под большим старым дубом. Ветра не было, и, несмотря на осеннюю прохладу, начало пригревать солнце.
Когда все были в сборе, оказалось, что нас десятеро и Глэдис – самая молодая. Каждая из женщин принесла по корзине с мясными рулетами, свежим салатом, ореховыми лепешками, яблоками и большими бутылками с разбавленным водой вином. Мы расположились, кто сидя, кто лежа, под ветвями дуба, ярко желтевшее на солнце поле расстилалось перед нами. Мне слишком часто приходилось уже вот так работать и перекусывать во время работы, поэтому происходящее казалось вполне естественным, и я не задумывался над ним, однако присутствие Глэдис снова навело меня на мысли об общественных взаимоотношениях. Мне было интересно, как она воспринимает этих людей: как англичанка, которая относится к своим работникам и слугам как к существам низшего порядка, достойным лишь того уважения, которое они заслужили; или же, подобно представительнице некоторых других народов, – как к равным, но низшим по положению, каковую разницу следует постоянно подчеркивать либо по-демократически пренебрегать ею; и я внимательно следил за тем, признаки какого именно отношения проявятся в поведении Глэдис. Ничто, однако, не примешивалось к ее обычной открытой дружелюбности, разве что легкая скованность, которая, впрочем, могла происходить оттого, что ей приходилось постоянно прислушиваться, чтобы понять, о чем идет речь.
Молодой Ансель, полулежа, расположился рядом с нею. До меня доносились отрывки их разговора. Ансель рассказывал Глэдис о том, как все рады, что в усадьбе теперь живут и она наконец-то перестала стоять темной и нежилой. Как приятно, завидев приветливо светящиеся окна, зайти навестить Ланга и Гладису. Теперь все почувствуют себя естественней и легче, а на Анселей и Стейнов можно положиться, как на лучших друзей… Сказав это, он бросил отломленную веточку в спину молодому Стейну, который с добродушной, приветливой улыбкой поглядывал кругом… К тому же он рад, продолжал Ансель, что теперь в поместье есть еще и его ровесники, кроме сестры… Немножко непривычно, конечно, что из ста пятидесяти тысяч островитянских поместий у них, как еще лишь в двух-трех местах, хозяева – танар– приехали из чужих краев, но Ланг да, пожалуй, и Гладиса ни в чем не отличались от прочих людей.
Произнеся эти слова, он посмотрел вверх, на Глэдис, как бы надеясь, что она словом или взглядом подтвердит его правоту, а может быть, и на большее…
Нет, тот, кто чувствовал себя стоящим ниже или равным, но находящимся в подчинении, никогда не стал бы так говорить со своей хозяйкой. Я заметил, что Глэдис изучает его, но по ее дружелюбным и в то же время ни к чему не обязывающим ответам видел, что у нее и в мыслях не было, что Ансель за ней ухаживает… Однако я услышал, как она назвала ему свой возраст и попробовала подсчитать, когда праздновать свой день рождения по островитянскому календарю.
Ансель смотрел на нее с тем выражением, с каким любой молодой человек смотрит на хорошенькую женщину. Я вспомнил Гартона и даже Дорна. Что-то в Глэдис, несомненно, привлекало мужчин-островитян. Ее можно было назвать симпатичной или, скорее, видной женщиной, со всегда блестящими глазами, оживленным лицом, – такой тип гораздо чаще встречался в Америке, нежели здесь. Она была искренна и пряма в общении, целиком отдавалась разговору, но чувствовалось в ней и нечто скрытое, поскольку образ мыслей ее был все же иным. Ансель был статным и весьма привлекательным юношей. Мысль о том, что он на семь лет моложе – и сейчас это стало очевидно, – больно кольнула меня, и я задумался: так ли уж прочна любовь Глэдис, которая сейчас основывалась лишь на физической и умственной привязанности к некоему Лангу? А островитянские мужчины были зачастую очень привлекательны и умственно, и физически.
Обеденное время закончилось. Мужчины вернулись к работе. Я обернулся к Глэдис: она стояла в нерешительности, не зная, чем теперь заняться, и я предложил ей взять грабли и немного помочь Лайе и Лайне.
– Я действительно здесь нужна? – спросила Глэдис.
– Особой нужды нет, но помочь ты можешь. Да и занятие это приятное.
– Если я не нужна… Может быть, в другой раз… Пожалуй, мне лучше вернуться домой и распаковать вещи… Но послушай, Джон, если ты хочешь, чтобы я осталась…
– Поступай, как тебе хочется.
– Тогда я пойду.
Она уже пошла было прочь, но тут же вернулась:
– Когда тебя ждать?
– Когда стемнеет.
– Значит, к ужину?
– Примерно за час до ужина.
– Ты не против, если… Впрочем, чая все равно нет.
– Попроси Станею приготовить шоколад.
– Ладно. Тогда… до встречи.
В голосе ее мне почудилось разочарование.
Домой я возвращался уже в сумерках. Приятная усталость разлилась по телу. Я заранее предвкушал встречу с Глэдис, такой ласковой и милой, мирную беседу с ней. На кухне Станея поднесла мне чашку шоколада, и я пожалел, что Глэдис не догадалась спуститься.
Поднявшись наверх, я застал ее в комнате: она молча сидела перед горящим очагом, глядя в огонь. На ней было темно-зеленое шелковое платье, которое делало ее более худощавой и снова похожей на американку. Она сидела безвольно сложив руки, сундуки и чемодан были открыты, и вещи в беспорядке разбросаны вокруг. Я присел рядом, но не решался коснуться ее: проработав весь день, я даже не успел умыться.
– Хорошо, что ты наконец вернулся, – произнесла Глэдис. – Время тянулось ужасно долго… Я уж думала пойти тебя встречать.
– Тогда почему не пошла?
Она ничего не ответила. Когда я вошел, Глэдис встретила меня улыбкой, но теперь снова отвернулась к огню, и я увидел, что на ресницах ее блестят слезы.
– Что случилось? – воскликнул я, схватив ее мягкую, вялую руку.
– Не знаю… Эта тишина меня пугает. Все ходят бесшумно, как призраки.
– Тебе было одиноко?
– Ах, нет… Я просто глупая… В этом доме я чувствую себя как кошка на новом месте. Даже не знаю, кто теперь мой хозяин.
– Мы устроим тебе свой уголок.
– Да, поэтому я и решила посидеть у огня.
– Мы устроим тебе мастерскую. Там тоже будет уютно.
– Здесь мне, пожалуй, уютнее всего.
– Разве тебе не хочется, чтобы у тебя было твое, и только твое место? Эта комната теперь наша, общая.
Глэдис покачала головой, пальцы ее сжались. Она повернула ко мне искаженное болью лицо.
– Глэдис, я почти весь день работал, вспотел и весь в земле. А ты такая чистая, свежая.
– Думаешь, я специально прихорашивалась?
Я усадил ее к себе на колени и крепко обнял.
– Я очень счастлива, – сказала она, прижавшись к моему плечу и тихо всхлипывая. Горючие слезы текли по ее щекам. – Здесь все такое призрачное, Джон, даже ты… все, кроме того, что ты обнимаешь меня.
Еще крепче прижав ее к себе, я осторожно прикоснулся губами к ее нежной шее…
Немного погодя она снова села прямо, поцеловала меня и пошла вытереть слезы.
– Ты действуешь на меня успокаивающе, – сказала она, вернувшись. – Мама всегда говорила, что некоторым женщинам слезы к лицу, а у меня, когда я плачу, вид ужасный… А откуда в Островитянии берут горячую воду?
– На кухне в кувшинах обязательно должна быть согретая вода. Сейчас принесу.
– Со временем я тоже всему научусь. Вообще-то я мылась холодной, а теперь только хочу умыть глаза. Я ведь очень редко плачу, Джон.
Я принес из кухни два больших умывальных кувшина для нас обоих. Глэдис раскладывала вещи, которые достала из сундука, но, умывшись, снова села перед очагом, положив на колени раскрытую книгу, но даже не глядя в нее.
Приготовив чистую одежду, я выдвинул из-под шкафа медную ванну, налил туда горячей воды и стал раздеваться…
– Можно я погляжу на тебя? – раздался голос Глэдис.
– Конечно… даже не спрашивай.
– Я не знала.
Бросив на нее быстрый взгляд, я увидел в ее глазах удивленное и веселое выражение. По щекам разлился румянец.
– У тебя красивое тело, – сказала она наконец, отворачиваясь. – Ах, мне подумалось…
– Что, Глэдис?
– Такое совершенное, такое любимое! – Она наклонилась и закрыла лицо руками. – Мне так хочется научиться рисовать, и чтобы при этом люди на моих рисунках не выглядели нелепо! Если ты заглянешь в мастерскую… Я собиралась не показывать тебе, но передумала.
Одевшись, я тут же прошел в мастерскую. Глэдис вытащила из сундуков все свои рабочие принадлежности и разложила на полу и стопкой на столе. Эскизы маслом стояли, прислоненные к скамье и вдоль стен, в ожидании, когда их можно будет развесить. Падавший от свечи свет делал краски приглушеннее. На мольберте стоял натянутый на подрамник холст. На нем был углем набросан вид из окна. И только в одном месте был положен белый мазок. Но повсюду виднелись резкие черные штрихи – словно ребенок с досады исчиркал неудавшийся рисунок. В воздухе приятно пахло красками и скипидаром, а на полу лежала палитра с червячками выдавленной краски.
Я вернулся в спальню. Глэдис по-прежнему, застыв, сидела перед очагом. Она даже не шевельнулась. Сев рядом, я обнял ее. Она не сопротивлялась, но и никак не ответила на мою ласку.
– Когда я первый раз приехал сюда, – сказал я, – мне казалось, что я просто умру от тишины и одиночества, ими дышит здесь сам воздух.
Глэдис вздрогнула… Рука ее легла на мою.
– Мне казалось, что это нервная реакция, так много всего произошло за последнее время, но ни в чем я по-настоящему не участвовала сама… – сказала она. – Прости.
– Это ты прости, что я заставляю тебя страдать.
– Но я вовсе не несчастлива. Я не могу быть несчастлива с тобой.
– Потом оказалось, – продолжал я, – что одиночество – лишь преддверие иной реальности, куда более живой и яркой, чем я когда-либо знал. Человек должен начинать с одиночества.
– Но я здесь всего неделю… Я пробовала писать, но у меня ничего не выходит… Ты посмотрел?
– Да, но…
– Что ты обо мне думаешь?
– О тебе? Я люблю тебя!.. И мне хочется, чтобы ты поскорее миновала преддверие одиночества. Впереди столько дел, Глэдис.
– Тебе не кажется, что я глупая?
– Да нет же, нет!
– А по-моему, да… ведь у меня все есть.
– Ты проехала чуть ли не через полсвета, вышла замуж, поселилась в незнакомом доме, переменила образ жизни – и все за пять дней. Конечно, нелегко пережить и принять все это сразу. Ты еще не целиком здесь.
– Не говори так! – прошептала она, словно испугавшись… – Столько дел – но… что мне делать?
– Сейчас пойдем вниз и поужинаем, – ответил я, – а после закончим с вещами.
Глэдис резко, как-то удивленно отодвинулась и взглянула на меня почти враждебно. Неужели предложение разобрать вещи прозвучало для нее как ультиматум, которому она не хотела покориться? Я долго вглядывался в ее словно ускользающее лицо…
– Хорошо, Джон, – все же произнесла она после долгого молчания. – Я сделаю, как ты хочешь.
Я сгреб поленья и погасил все свечи, кроме одной. Освещая себе путь этой свечой, мы прошли через темные, холодные, пустые комнаты и по каменным ступеням спустились в столовую, где было светло, а на столе ждали кушанья и вино.
Появившаяся в дверях Станея держалась как обычно, по-домашнему, и скоро Глэдис, несмотря на то что они почти не были знакомы, уже весело разговаривала с ней. Пожалуй, подумал я, никто в поместье и не заметит, что окружающее кажется ей сном.
Что можно сказать погруженному в глубокий сон человеку такое, что помогло бы ему стряхнуть сонные путы? Если усадьба тоже часть преследующего Глэдис кошмара, то мне не стоило заводить речь о жизнь здесь, о хозяйстве; не мог я говорить и о том мире, пробудиться в котором она желала, но не могла. На столе перед нами дымилась еда, и ела Глэдис со своим всегдашним аппетитом; и еще – была наша любовь, которую мне не под силу было выразить словами. Стремясь поддержать разговор, рассмешить ее, я не находил что сказать, поскольку все мои мысли были о том, что же стало причиною подавленного состояния Глэдис: усталость, которую излечит время и отдых, или же разочарование в любви?
Я завел речь о книгах в надежде, что Глэдис расскажет о тех, что привезла с собой. Однако мои рассказы об островитянской литературе звучали как-то сухо, по-лекторски. Глэдис тоже прилагала все усилия, чтобы поддержать беседу, однако на вопросы о том, какие из своих любимых книг она привезла, отвечала уклончиво.
– Ну что, пойдем наверх, наведем в комнате порядок? – спросила она, едва ужин закончился.
Как только мы поднялись в спальню, я разворошил поленья, и огонь вновь ярко заполыхал в очаге, но что до распаковки, то тут я мало чем мог помочь. Я сидел праздно, подобно человеку, вынужденному глядеть, как хлопочет его слуга. И хотя Глэдис держалась безупречно и улыбка всегда была у нее наготове, я чувствовал, чего ей это стоит.
Мы – а вернее, она – проделывали работу бережно и кропотливо, как будто и вправду собираясь остаться здесь насовсем.
Наконец в комнате воцарился идеальный порядок, сундуки и чемодан стояли пустые, каждая вещь заняла свое место, но Глэдис была все так же напряжена, и гнетущее чувство, похожее на безысходное отчаяние, сжало мне сердце.
Существовал единственный способ вернуть Глэдис, сломить ее сопротивление. Подойдя, я обнял ее. Она безвольно подчинилась. Я поцеловал ее, чтобы хоть как-то оживить, согреть. Она боялась, что ее шелковое платье помнется, и я помог снять его. Покорность ее бередила во мне желание, и Глэдис не осталась безразличной к моим ласкам, и все же она была лишь наполовину рядом. Губами, взглядом, осторожными прикосновениями я впивал божественную красоту ее обнаженного тела. Хмелея от наслаждения, которое мне хотелось продлить, я почти не думал о Глэдис, занятый лишь собственными эмоциями. Перед моим умственным взором то мелькали картины поместья, яркого, живого, самостоятельного, но целиком подвластного мне, готового удовлетворить все разнообразие моих желаний своей красотой и возможностью работы; то – вновь – я видел перед собой Глэдис, тоже мою, мне принадлежащую женщину, услаждавшую мои чувства и дарившую покой моему телу.
– Неужели это все наяву? – сказал я.
– Да, – откликнулась Глэдис и, дрожа, прижалась ко мне. – Я люблю тебя. Люблю…
Страсть ее не уступала моей, но когда все кончилось, она лежала неподвижно, как мертвая, только глаза горели темным живым огнем, и взгляд их был глубок и задумчив.
Я посмотрел на нее, и слезы комком подступили к горлу. Она была как ребенок в своей простой и прекрасной наготе: худые плечи, маленькая грудь, плоский живот, темные волосы, изящно очерченный рот, длинные голени, узкие колени и ступни. Стараясь внушить ей ощущение реальности, я подверг риску это чувство в себе. Мне вдруг показалось, будто я вижу эту женщину впервые. Глэдис тоже глядела на меня, точно не узнавая. Окружающее вновь стало сном.
Тем не менее утром Глэдис проснулась веселая, тормошила и обнимала меня, просила прощения за то, что весь вечер была такой грустной, сказала, что иногда с ней такое бывает, и шепнула, что любит меня и что после всего, что между нами произошло, она не может не быть счастлива. От моего приглашения провести день с нею Глэдис тоже категорически отказалась: ведь меня ждут в поле. Она же собиралась заняться этюдами и хотела набросать вид усадьбы с моста, а потом, пожалуй, и присоединиться к нам еще утром, и уж наверняка после ленча.
Приободренный, я отправился в поле; на губах был еще свеж вкус ее поцелуя, в сердце – память о ее улыбке. Работа окончательно сняла нервное напряжение, сохранившееся после минувшей ночи. Дела, касавшиеся отправки урожая, уладились, и повозки должны были отправиться в Тэн через одиннадцать дней, первого мая.
Ближе к полудню появилась Глэдис. Все обитатели поместья, за исключением Станеи и находившихся в школе детей, вышли в поле, чтобы полностью закончить жатву к вечеру.
Глэдис подошла ко мне с робостью и одновременно стараясь казаться непринужденной, так что, пока не приблизилась вплотную, казалось, будто она меня не замечает. Подойдя, она улыбнулась и обронила: «Здравствуй».
– Здравствуй, – ответил я. – Хорошо, что пришла. Я ждал.
– Я все была там, возле дома.
– Удалось сделать набросок?
– Да, а после вернулась в дом, но делать там было особенно нечего, и я решила пойти помочь остальным. Итак, что я должна делать?
Я подвел ее к Анселе, та была всего двумя годами старше. Молодые женщины обменялись улыбками, и, оставив их наедине, я вернулся к своей работе, сгребая сжатые колосья в валки…
Чуть позже, взглянув туда, где работала Глэдис, я вновь с болью почувствовал себя жестоким хозяином, не щадящим своего слугу. Островитянки, и молодые и старые, нагибались, подбирая колоски, которые складывали, как в мешки, в подобранные кверху подолы; Глэдис, которой было явно неловко демонстрировать таким образом свою фигуру, каждый раз приседала и снова выпрямлялась – изящным и одновременно неуклюже-старательным движением, а подобранные колоски сжимала в руке, как букет цветов.
Наконец Эдона позвала нас обедать, и со всех концов поля люди стали сходиться под сень старого дуба. Глэдис шла хмуро, воткнув несколько колосков в свои пышные волосы так, что концы их сходились у нее надо лбом, наподобие венка Деметры.
Наблюдавший за Глэдис молодой Ансель что-то сказал ей, глядя на воткнутые в ее волосы колосья. И, слушая рассуждения старика Анселя о перевозке урожая, я время от времени слышал ровный голос Глэдис, рассказывавшей завороженно глядевшему на нее юноше историю о Персефоне и поисках, предпринятых ее родительницей.
Жатва продвигалась быстро, и после обеда моя помощь оказалась уже не нужна. Мы с Глэдис пошли пешком обратно к дому. Желтые колосья были по-прежнему воткнуты в ее темно-каштановые, отливающие на солнце волосы.
Я спросил, не хочет ли она поехать верхом – для Грэна и той лошади, что я нанял, не лишней была бы небольшая разминка.
– Хорошо, Джон, прогуляем лошадей, – коротко и довольно сухо ответила Глэдис.
Когда мы подошли к дому, я почувствовал себя в некотором замешательстве, не зная, за что взяться. Дел скопилось множество, но послеобеденные часы я решил провести с Глэдис, а на прогулку мы собирались еще через час-другой. Желание – смутный отголосок ночи – шевельнулось во мне… Глэдис, я видел, тоже не знает, куда себя деть.
Мы перешли в гостиную так, словно я пришел с визитом, совершенно не понимая, чем занять друг друга. Глэдис стояла повернувшись боком к очагу, будто греясь у невидимого пламени.
– Как рисовалось? – спросил я.
– Плохо.
– Жаль.
– Да я особенно и не старалась. – Она почти совсем отвернулась от меня… Значит, тогда, в поле, она солгала без всякой нужды; от неожиданности сердце мое похолодело.
– Но у тебя же было предчувствие, что дело пойдет, разве нет, Глэдис?
– Я знала, что ничего не выйдет.
– В чем же причина?
– Причина?.. Я говорила тебе вчера.
– Что все нереально, как во сне?
– Да… и сон неинтересный. Слишком холодный.
– Со временем желание рисовать вернется.
– Не знаю… Я все выдумала, Джон, никуда я не гожусь.
– Замолчи, Глэдис! Я совершенно с этим не согласен.
– Да и тебе от меня никакой пользы… Сегодня утром я чувствовала себя счастливой, мне было так хорошо. Я шла к реке с самыми радужными мыслями. Ансель, мальчик, его хорошенькая сестричка и две девочки Стейнов болтали по дороге в школу. Они ненадолго задержались возле меня, и мы очень мило, по-дружески поговорили, но, когда они ушли, мне снова стало страшно одиноко – ни единой живой души кругом, только эта бесконечная тишина и плеск воды. Ах!.. Я вернулась домой и плакала, а потом решила написать кузине, но подумала, что будет лучше сделать то, о чем ты просил. И, как видишь, даже успела поработать в поле. Только пользы от меня было немного… Вот мое утро.
– Неужели же все так пусто и неинтересно?
– Конечно нет! Все в порядке.
– Глэдис, если ты опять грустишь, скажи.
– Нет, дорогой, никому из нас лучше от этого не будет.
– Не старайся казаться счастливой, если ты несчастлива. Лучше скажи мне правду. Вдруг я смогу помочь.
Она посмотрела на меня тяжелым, пристальным взглядом, взяла в руки мой плащ.
– Ты – все, что у меня есть, – сказала она. – В тебе весь мой мир. И я счастлива! Но мне не хочется делать несчастным тебя… – Губы ее задрожали. – Я приехала к тебе и отказалась от всего. Я – твоя. Мне ничего больше не надо для счастья… Я не знаю, в чем дело.
– Глэдис! Глэдис! – воскликнул я, сжимая ее руки. – Постарайся остаться сама собой. Подумай о себе.
– Если я не принадлежу тебе, – сказала она, высвободив руки и делая шаг назад, – то что я такое? Зачем я? Ты намеренно отталкиваешь меня. – И, отвернувшись, пошла к двери.
– Ты моя единственная любовь, Глэдис! Женщина, влюбленная в алиюЛанга!
– Ах, Джон! – С этими словами она вышла.
Стряхнув оцепенение, я последовал за ней, прислушиваясь к доносящимся вдали шагам. Она лежала на кровати, с широко открытыми глазами, и не плакала, но, когда я вошел, даже не взглянула в мою сторону.
– Ты одинаково дорога мне и когда сама ищешь свое счастье, – сказал я.
Казалось, она не слышит моих слов.
Я смотрел на нее, мучительно размышляя, как сделать ее счастливой, если вопреки всему – принадлежа мне по моей ли, по своей воле – она так несчастна… Я думал о том, что еще могу сделать для нее, но она беспокойно, почти с неприязнью пошевелилась, словно стараясь укрыться от моего взгляда.
– Поедем прогуляемся? – спросил я.
– Разумеется. Я скоро буду готова, – прозвучал ответ.
Постояв еще немного, я вышел и вернулся к работникам в поле.
Вдоль реки Лей тянулись заросшие травой дороги и тропинки, с одной или с обеих сторон окаймленные деревянными изгородями или каменными стенами; местами по обочинам их росли деревья, сплетая вверху свои ветви наподобие зеленого свода, местами вдруг открывались зеленые лужайки. Река, то текущая совсем неслышно, то тихо журчащая по гальке и между валунами, всегда была рядом. Проезжая через земли Дартонов, Ранналов и Севинов, мы пересекали открытые, солнечные участки и снова въезжали в путаницу тени, которую отбрасывали полуоблетевшие деревья, и опавшие, где лежащие кучами, где засыпавшие небольшую ложбинку, листья сухо шуршали под копытами лошадей.
С яблонь в саду Севинов падали на дорогу сбитые ветром поздние яблоки, и я по звуку отыскал одно и, спустившись с лошади, преподнес его Глэдис.
Алые губы ее были полуоткрыты. Ровными, крепкими белыми зубами она откусила большой кусок яблока, еще не совсем зрелого и такого холодного, что слезы выступили у нее на глазах…
Я осторожно положил руку на ее бедро, сквозь грубую ткань ощутив его нежную округлость. Глэдис замерла, держа яблоко в руке. Вожделение жаром полыхнуло внутри, и я почувствовал, что оно не безответно.
Я прижался лицом к ее теплому бедру, она тихо провела рукой по моим волосам. Наше мгновенное согласие, единый порыв ничем не могли завершиться, и я почувствовал, как жалость и тоска острой сталью впиваются в сердце, но утешать следовало сейчас не меня.
– Прости, что я так вела себя, – сказала Глэдис. – Я люблю тебя, Джон. И я, правда, очень счастлива.
– Прощать нечего. Если же ты не можешь быть счастлива здесь, в поместье, давай уедем, – ответил я, понимая, что жертвую ради нее чем-то большим, чем жизнь.
– Нет, нет! – прервала меня Глэдис. – Мы останемся. У меня есть ты, мой любимый, и этого достаточно.
В это мгновение ее лошадь, до того беспокойно переступавшая на месте, вдруг пустилась вскачь. Многое осталось недосказанным, но стоило ли продолжать разговор? Мы помирились.