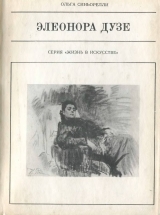
Текст книги "Элеонора Дузе"
Автор книги: Ольга Синьорелли
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Антония, любит ли он ее. Ее голос – певучий, капризный. Она опи¬
рается на плечо Антония. В другой руке вместо опахала большой бу¬
кет висящих лотосов... Вот она – настоящая Клеопатра – фантасти¬
ческий образ древнего юго-востока. Вот она – Клеопатра Шекспи¬
ра – влюбленная женщина, уже уставшая любить, но бессильная
совладать со своей последней страстью... Докладывают о вестнике из
Рима. Предчувствие ли это разлуки или просто ужас при мысли о том,
что есть еще целый широкий мир, владеющий ее Антонием, но Кле¬
опатра уже вся возбуждена, глаза загораются, чтобы тотчас померк¬
нуть, голова откидывается назад, как от дурноты; надорванным голо¬
сом она зовет своих приближенных рабынь. «Я упаду... Не может это
длиться... Не выдержит природа...».
Антоний застает ее в этом состоянии. Она гонит его прочь. Она
дает волю своему необузданному воображению: она осыпает его ядо¬
витыми упреками. Недобрая улыбка, особенная улыбка восточной
женщины, приподнимает ее верхнюю губу и обнаруживает два ряда
блестящих зубов. Насмешки сменяются упреком, певучий голос вдруг
становится глухим, сдавленным, потом резким. Но разлад ей невы¬
носим. Антоний очаровывает ее, даже в минуту ссоры. Она прибли¬
жается к нему, кладет руки ему на плечо, и в откинутой голове, в по¬
лузакрытых горящих глазах чувствуется непреодолимая женская
страсть. Они прощаются страстным кратким объятием.
Антоний в Риме. Клеопатра лежит на кушетке ничком и, подпер¬
ши голову обеими руками, облокотясь на локти, смотрит куда-то
вдаль загадочным взглядом, в котором неуловимо переливаются ка¬
кие-то думы. Головная повязка спадает по обеим сторонам ее лица:
настоящий египетский сфинкс. «Хармиона, где он теперь? Как дума¬
ешь? Стоит ли он, иль ходит, или сидит, иль едет на коне? Счастли¬
вый конь: Антония он носит! Конь, будь ретив: известно ли тебе, кто
твой седок? Атлас, держащий землю, рука и меч людского рода. Он
не вспомнил ли теперь о Нильской змейке (так он зовет меня)? Не
говорит ли он, не шепчет ли тихонько: где она?.. Увы! Я пью слад¬
чайшую отраву: возможно ль, чтоб он вспоминал меня, всю черную
от поцелуев Феба, покрытую морщинами годов...» Непередаваемым
голосом, полным мечтательной грусти, говорит Дузе этот монолог, ле¬
жа в той же позе, глядя вдаль широко открытыми глазами. Усталость
отражается на ее лице, и в ту минуту, когда она говорит о своих мор¬
щинах, лицо ее вдруг кажется постаревшим. Вы понимаете, глядя на
эту сцену, что драма Шекспира не просто ряд эпизодических сцен,
как о ней отзываются многие театральные и художественные крити¬
ки. Вы понимаете, что история последней любви египетской царицы
есть настоящая цельная драма. В последней привязанности этой жен¬
щины, когда-то безумно расточавшей свои ласки и искавшей само¬
забвения в объятиях многих мужчин... есть глубоко человечный эле¬
мент. Борьба стихийных сил отражается на закате ее жизни пробле¬
сками сознательного тяготения к прекрасному: колеблясь среди сво¬
их разнородных и прихотливых страстей, Клеопатра идеализирует
человека, чарующего ее своим мужественным величием.
...Напрасно Клеоцатра ждет своего обожаемого Антония. Часы тя¬
нутся медленно... Ничто ее не тешит. Капризным и усталым голосом
требует она музыки, чтобы тотчас же отменить свое приказание. Вос¬
поминание о лучших днях, о том времени, когда Антоиий впервые
попался на ее удочку,– это единственное, что на мгновение тешит и
просветляет лукавой улыбкой ее пасмурное лицо. Входит гонец: «Ца¬
рица» – ...он запинается. Клеопатра приказывает ему говорить, бро¬
сает ему золото, протягивает руку для поцелуя (заметьте эту манеру
восточной царицы – это резкое движение протянутой руки с расто¬
пыренными пальцами, на которых блестят кольца). Гонец медлит.
Клеопатра вскакивает, лицо ее темнеет, неумеренные обещания сып¬
лются на гонца на случай хорошей вести и страшные угрозы – на
случай дурной. «Антоний здоров, дружен с Цезарем, но... Но? Какое
но? Что такое но?..» Гонец объявляет роковую весть. Резкий гортан¬
ный звук вылетает из груди царицы. Безумная ярость охватывает ее.
Страшным ударом она повергает растерявшегося раба на землю, с
обезображенным злобой лицом рвет его за волосы, царапает по лицу,
колотит коленом... Опомнившись, она кричит ему, чтобы он опроверг
свою ужасную весть. Дрожащий раб повторяет свое известие: Анто-
пий женат. Клеопатра своей слабой женской рукой выхватывает из-за
пояса кинжал...– она не умеет ударить им и только в бессильном бе¬
шенстве кидает кинжал вслед убегающему рабу. Гнев вдруг слетает,
но остается какая-то тревога во всем существе, желание разузнать
все подробности относительно соперницы. Она велит вернуть гонца.
Но она не может расспросить его до конца. Ей дурно, она склоняется
на руки прислужниц, но сквозь дурноту она помнит случившееся и
протестует против пего. Она вспоминает Цезаря, ей кажется преуве¬
личенной ее любовь к Антонию; гордость ее жестоко страдает. Она
опять велит позвать гонца. Она уже более владеет собой. Она осыпа¬
ет вопросами ползающего у ее ног раба: хороша она? высока? какой
у нее голос?.. «Она некрасива, невысока, у нее низкий глухой го¬
лос...»
Торжествующая улыбка проносится по лицу Клеопатры. «Она
уже не молода... Лицо у нее круглое, лоб низкий...» Нет, Клеопатре
нечего опасаться, это – не любовь, это не соперница... Один вздох,
одно маленькое движение плечами, с откинувшейся назад головою, с
потухшими глазами, с бессильно повисшими руками – движение об¬
легчения, успокоения после муки – и весь театр разражается крика¬
ми восторга и рукоплесканиями великой артистке, неподражаемо пе¬
редающей бури человеческой души. Но это еще не все. Клеопатра вся
дышит жизнью. Момент затишья – и его сменяет дикая радость во¬
сточного человека. Она стонет, она мечется, с томной улыбкой, с
блуждающими глазами; она ласкает гонца, треплет его рукой по ли¬
цу, как трепала бы пресмыкающуюся у ее ног собаку, как нельзя ла¬
скать даже раба. Эта сцена была признана за истинный шедевр дра¬
матического искусства даже теми, кто, не зная драмы Шекспира,
составив неправильное представление о том, чем должна быть Клео¬
патра, высказывали банальное или невежественное суждение об игре
Дузе в этой роли...
Но драма идет к концу... Антоний поражен и ранен... Клеопатра,
запершись в склепе храма, ждет смерти. Она велела принести себе
ядовитых змеек, одно прикосновение которых причиняет смерть.
В простой белой блузе, растрепанная и бледная, она мечется в темном
подземелье. Вносят раненого Антония, Клеопатра, как истинно любя¬
щая женщина, вся подбирается, настораживается, безмолвно ухажи¬
вая за умирающим. Но Антоний кончается, завещая ей не сетовать
о нем напрасно. Ее помощь не нужна более – и отчаяние, бурное,
страстное, сменяет минутную сдержанность. Стоны, вопли, рыдания
с восточными причитаниями и страстные ласки, расточаемые дорого¬
му телу, доводят ее до истощения. Она впадает в дурноту, сидя все
на том же месте, на полу, в темном углу склепа, припав головой к
трупу Антония. Ее окликают, теребят. Она приходит в себя. «Я жал¬
кая женщина, подвластная страстям»,– со стоном говорит она и, не
вставая с места, бессильно прислонясь к стене, сыплет проклятиями
на свою судьбу и взывает к своему дорогому Антонию, ласкаясь к не¬
му, как к живому, и хватаясь за его тело, пока его наконец не уносят
из склепа.
...Клеопатра бросается на пол, на то самое место, где только что
покоился ее обожаемый друг и властелин. Она полулежит, запроки¬
нувшись навзничь, глаза ее широко раскрыты. Она говорит о своем
Антонии. Он все растет в ее глазах. Он кажется ей каким-то сказоч¬
ным созданием – каким-то божеством... «Его лицо на небо походило:
сияли там и солнце и луна, бросая свет на маленькое «о», которое
землею называют». Это какой-то бред, по великолепный бред сильной
и богатой души.
Приближается Цезарь со свитой. И что же? Египетская царица
делает несколько шагов ему навстречу и вдруг расстилается перед
ним на земле – не как человек, даже не как раб, а как вещь, как по¬
крывало, брошенное к его ногам. Полное унижение во прах перед сра¬
зившей ее силой. Такова психология женщины, и притом восточной
женщины. Но глубина замысла и смелость такого движения на сцене
может принадлежать только истинно гениальной артистке.
...Клеопатра есть наиболее сложная и наиболее трудная из всех
женских ролей классического и современного репертуара... Чтобы ис¬
полнить эту роль так, как исполнила ее Дузе, – со всеми переливами
разнообразных страстей, капризов и чувств, требуется талант смелый
и гибкий, темперамент страстный и выносливый. Чтобы сообщить
Клеопатре цельность и типичность, чтобы измерить вдоль и поперек
богатую женскую душу во всей ее первобытной пестроте – для этого
требуется ум, способный к глубоким и смелым обобщениям. Чтобы
придать образу Клеопатры этот египетский колорит, замашки восточ¬
ной деспотки и восточной женщины, нужно яркое творческое вообра¬
жение, свойственное только великим худояшикам. Клеопатра Шек¬
спира и Дузе *– женщина, со всем, что есть наиболее типичного в
женской природе: с ее неустойчивостью, с ее подчиненностью сти¬
хийным страстям, с ее тонкой чувствительностью, с ее привязчиво¬
стью к мелочам. Но кроме того, Клеопатра Шекспира и Дузе – яр¬
кий, колоритный образ восточной царицы, опаленной жгучим солн¬
цем, возросшей среди ярких красок и томных ароматов южного во¬
стока, одурманенной фимиамом лести окружающих ее рабов.
ПРОФИЛЬ ДУЗЕ,
ВОССОЗДАННЫЙ ПО ФОТОГРАФИЯМ
Элеонора Дузе таинственным, непостижимым образом живет да¬
же на своих фотографиях. Эти изображения, взволнованно смотрящие
па тебя сегодня, как будто спрашивают о чем-то, понимают тебя, при¬
слушиваются к твоим мыслям... Кажется, что перед тобой друг, к
которому ты всегда можешь заглянуть, чтобы поговорить с ним по ду¬
шам, услышать совет.
Но почему же она так странно, не по моде, одета и причесана? Да
потому, что от нас ее отделяют годы и годы и мы уже много раз пе¬
ременили покрой своей одежды, прежде чем смогли с ней свидеться.
Как часто фотографии знаменитых актеров и актрис прошлого
трогают нас своей профессиональной старательностью, которая нам
кажется сегодня наивно смешной. Их облик, свидетельствующий о
былых успехах, еще имеет какую-то притягательную силу. Взгляд
этих людей, царивших на сцене, еще приковывает к себе. Но какими
до пелепости застывшими, скованными кажутся их позы и жесты.
Может быть, в этом виноват щелчок фотоаппарата, прервавший ес¬
тественное движение?
Но па портретах Дузе жест не статичен, движение не прервано.
Фотоаппарат не превратил ее в марионетку, как это произошло с
Д’Аннунцио, на фотографиях которого живыми остаются только глаза.
Фотографии сохраняют живость нежного ее лица и мягкие, живые
линии ее фигуры. Ее позы и жесты даже сейчас так же выразитель¬
ны, как движение в танце. Поворот ее тела и головы все еще сохра¬
няет над нами власть, которой обладает естественная прелесть, гра¬
ция танцора. На этой сильной волне живого движения голова устрем¬
лена вперед, подобно челну, направившему свой бег к близкому или
безмерно далекому острову.
Такое движение, исполненное инстинктивной непосредственности,
может уловить фотограф, ждущий в засаде появления гибкого, быст¬
рого животного.
Но Дузе сознательно замедляет движение, как бы задерживает
его на мгновение, так что аппарат фиксирует его и зритель, изумлен¬
ный, оказывается в совершенно новом мире. Ритм ее движения под¬
чинен естественному порыву, но в нем есть элемент контроля.
...Вероятно, все ее жесты и движения были тщательно обдуманы.
Этого мы не узнаем никогда. Не узнаем никогда, о чем они говорят
с такой живостью, какое чувство утверждают и отстаивают, какому
миру принадлежат. В этом – вся их неповторимость.
ПАРАЛЛЕЛЬ, РАСКРЫВАЮЩАЯ КОНТРАСТ
МЕЖДУ ИСКУССТВОМ
САРЫ БЕРНАР И ЭЛЕОНОРЫ ДУЗЕ
Бернар гастролировала первой в «Даниэле» Луи Вернея 205. Я
приехал в театр довольно рано, но в зале собралось уже достаточно
публики. Вскоре театр был полон. Все вокруг было насыщено возбуж¬
дением, казалось, даже воздух искрится и трепещет, пронизанный не¬
терпеливым ожиданием. Огни, хрустальная люстра, оранжевая с зо¬
лотом обивка кресел, глаза публики – все сверкало и казалось более
праздничным, чем обычно, и даже гораздо более шумным. Разговари¬
вали все, даже люди, не знакомые друг с другом. Гудящий улей в
ожидании Королевы Пчел! Могло показаться, что все зрители получи¬
ли хорошую дозу какого-то тонизирующего средства и несколько ка¬
пель атропина в глаза. Оживление, царившее в тот вечер в лондон¬
ском «Павильон-тиетр», пенилось, звенело в воздухе, как ярко вспы¬
хивающие голубыми и золотистыми бликами граненые подвески
огромной люстры. Все вокруг было празднично, блистательно, эффек¬
тно, как карьера самой Сары Бернар. Не было даже намека на тра¬
гедию, хотя все, разумеется, знали о том, что великая артистка пере-
: несла ампутацию ноги, что она немолода и что на лицо ее наложена
хрупкая, «фарфоровая» маска, скрывающая морщины (первая ла¬
сточка пластических операций). Как ни странно, но театр в тот ве¬
чер напоминал чем-то цирк. На память приходило и вавилонское
столпотворение, ибо среди публики было много иностранцев, не гово¬
ря уже о французах. Французские, английские, русские и другие, ме¬
нее знакомые, слова порхали в воздухе, словно экзотические жуки
или бабочки наполняя его веселым жужжанием. Разнообразие инто¬
наций, сталкиваясь, создавало целую какофонию. Почему-то почти
все присутствующие жевали шоколад и конфеты и, не умолкая, бол¬
тали, громко шурша оберточпыми бумажками. Зал пестрел программ¬
ками, которые трепетали в руках зрителей, будто белокрылые птич¬
ки. Казалось, каждый вновь и вновь перечитывает напечатанное на
листках легендарное имя Сары Бернар, дабы еще раз убедиться, что
все это не сон. Внезапно, перекрывая многоголосый шум, раздался
стук деревянного молотка, ударяющего по дощатому полу сцены:
столь необычным и несколько прозаическим сигналом французы воз¬
вещают о начале спектакля. Звук этот, резкий и диссонирующий,
освящен традицией, поэтому кажется задушевным и мелодичным и
радует сердце.
И вот долгожданный миг настал: огни постепенно меркнут! О,
этот миг! С чем можно сравнить те волшебные секунды, когда мед¬
ленно гаснет свет, а вместе с ним замирает и ропот голосов, сменяясь
тишиной? Так вздрагивают в последнем усилии крылья умирающей
бабочки. Затем спускаются волшебные театральные сумерки, не¬
сколько мгновений в полумраке еще мерцают огни, но вот и их га¬
сит невидимая рука, и тогда мягким, кошачьим прыжком обрушива¬
ется на занавес яркое, многоцветное сияние огней рампы и наполня¬
ет его трепетным биением жизни. О, этот занавес, за которым таятся
неведомые чудеса, тайны, прекрасный, полный страстей незнакомый
мир, вот-вот готовый открыться нам. И какая бы ни шла пьеса, какие
бы актеры в ней ни играли, этот готовый распахнуться занавес всегда
пробуждает в вас чувство радостного, нетерпеливого ожидания. По¬
крывало богини Майи 206. Существует ли прозаическая и бесчувствен¬
ная душа, способная отвлечься в этот момент от мысли о зачарован¬
ном мире, скрытом за занавесом, за движением его складок? Вас буд¬
то околдовали, по спине пробегает волнующий холодок, все исчезло,
кроме этого мгновения – вы вне реальности, вне времени, вы лишь
частица воцарившегося безмолвия.
И тут занавес поднимается! На сцене, на постели среди поду¬
шек—Сара Бернар! Театр содрогается от оваций. Бернар низко
склоняет золотистую кудрявую головку, принимая почести с достоин¬
ством и грацией королевы. В громе аплодисментов слышатся возгла¬
сы: «Сара! Божественная Сара!» Шум долго не смолкает, публика с
радостью дает выход обуревающим ее чувствам. Начинается спек¬
такль.
Я следил за Сарой с неослабевающим вниманием, стремясь не
упустить ничего, и заметил, что во время представления два чувства
преобладали во мне: жгучее любопытство и полубессознательное, но
постоянное ощущение легендарной славы Бернар, еще сохранившее¬
ся в памяти людей, возвращавшее меня ежеминутно к мысли, что
женщина, на которую я смотрю, была некогда и велика и обаятель¬
на. Мысль эта не находила опоры в том, что я видел сейчас, именно
в эти моменты. Мне показалось, что она худа и мала ростом. И очень
стара, много старше, чем я ожидал. Шапка золотых кудрей казалась
жалкой и неуклюжей уловкой пожилой женщины, стремящейся
скрыть свой возраст. Лицо Бернар напоминало фарфоровую маску.
Я знал, что она не только прибегает к гриму, но и постоянно пытает¬
ся скрыть свои морщины при помощи какого-то очень твердого и
жесткого косметического средства (говорят, что это эмаль). Улыба¬
лась она с трудом, создавалось впечатление, что улыбка, появляв¬
шаяся на се изношенном раскрашенном бело-розовом лице, причиня¬
ет ей боль.
Я вслушивался в ее голос, тот прославленный «золотой голосок»,
который пленял своей красотой тысячи зрителей. Обаяние его исчез¬
ло, зато осталось обаяние былой славы, столь могущественное и не¬
отразимое. Голос был старческий, немного хрипловатый, сначала он
просто напугал меня, однако потом я привык к нему и даже находил
приятным и волнующим. Французское «р» – ярко выраженный гор¬
ловой звук, причем Сара Бернар грассирует, произнося его, еще боль¬
ше, чем другие парижане. Звук возникал где-то глубоко у нее в горле
и, прежде чем достигнуть слуха, многократно прокатывался по языку,
словно дробь очень старого, по все еще звучного барабана. Особенно
запомнилась мне реплика, с которой Бернар, обращаясь к ак¬
теру, исполнявшему роль доктора, живым и грациозным жестом про¬
тягивала ему сигареты: «Сигар-р-еты, доктор-р?» Ах, эти «эр»! Мно¬
го времени спустя после спектакля я мысленно повторял эту реплику,
да и сейчас порою, вспоминая Бернар, делаю то же самое, и она вста¬
ет передо мной, как живая. Если бы смерть вдруг приняла облик
женщины и ей вздумалось угощать кого-то сигаретами, не сомнева¬
юсь, что голос ее звучал бы именно так: «Сигареты, доктор?» – слов¬
но перестук сухих дробинок, просыпанных на лист пергамента. Мне
бросилась в глаза ее странная манера держать сигарету: правая ру¬
ка крепко стиснута в кулак, сигарета зажата между указательным и
другими тремя пальцами, большой палец снизу поддерживает мунд¬
штук.
Двигалась она, конечно, мало, но все жесты были отточенными,
выразительными. Реплики звучали четко и живо. Бернар «показыва¬
ла высокий класс» – вы это чувствовали сразу, но, несмотря на бли¬
стательность формы, чего-то не хватало в содержании. Был свет,—
но холодный, он никого не согревал. Сверкало и пламя, яркое, чи¬
стое,—но оно не обжигало. Как жаль, что я не видел ее в молодости,
без конца повторял я себе, она, наверное, была восхитительна, по
всему видно, что это так.
Испытывая самый искренний восторг, я не мог не ощущать, как
холодно и пусто то, что я наблюдал; мы все с почтением внимали ей
и взирали на нее, но ничто не волновало нас, кроме мысли: «Это же
Вернар, великая Бернар. О, в свое время она, наверное, была непод¬
ражаема!» Я следил за ее игрой, затаив дыхание, дожидаясь того
маленького штриха, того момента, который создает величие. Гени¬
альные актеры демонстрируют порою прекрасную, отточенную игру,
которая не поднимает их, однако, над уровнем просто талантливых
исполнителей. И вдруг в одной какой-то сцене, жесте, интонации
блеснет, подобно откровению, «искра божественного огня». Так на¬
ступает вдохновенный миг, столь же ослепительно и внезапно оза¬
ряющий театральные подмостки, как вспышка молнии освещает ноч¬
ной пейзаж.
Бернар добилась этого в финале спектакля, в сцене смерти. Отки¬
нувшись на высоко взбитых подушках, она умирала. В последние
минуты, когда жизнь еле теплилась в ней, она вдруг приподнялась
и села. В ее голосе и в лице, несмотря на белизну кукольной эмалевой
маски, появилось что-то новое, покоряющее своей силой. Почти ше¬
потом она сказала несколько слов, и казалось, что жизнь отлетела от
нее. Все актрисы, которые играли при мне умирающих, и, уж ко¬
нечно, все, исполнявшие именно эту сцену, испустив последний
вздох, непременно падали на подушки, грациозно вытянув руки и
запрокипув бледное, в рамке кудрявых волос лицо, чтобы те, кто си¬
дит в зале, смогли увидеть последнюю улыбку (лучезарный свет, по¬
кой, печаль) или все, что угодно. Бернар сыграла сцену иначе: не¬
ожиданно резким движением, так, что мы все похолодели и задрожа¬
ли в своих креслах, она рухнула вперед, неловко и тяжело, как свин¬
цовая, трагически вытянув руки вдоль тела ладонями наружу. В этой
позе она застыла. Да, это была смерть, настоящая, окончательная, не¬
поддельная. Конечно, это был только театр, но это было высокое ис¬
кусство. Тот неповторимый штрих, который заставлял воскликнуть:
«На сцене великая Сара Бернар!»
Театр дрогнул от бури аплодисментов. Люди вскакивали со своих
мест, снова садились. Артистку без конца вызывали. Бернар появля¬
лась перед зрителями в восхитительно отрепетированной позе.
Раскинув руки и низко склонив голову, она стояла посередине сцепы,
поддерживаемая двумя актерами,– точная копия распятого Христа.
Она стояла в такой позе, пока длились вызовы, лишь иногда припод¬
нимая голову и вновь роняя ее на грудь.
Ни разу в жизни я не слышал, чтобы публика так неистовствова¬
ла: это было всеобщее ликование, все кричали: «Браво! Браво! О, бо¬
жественная Сара! Божественная Бернар! Да здравствует Сара!»
Захваченный общим порывом, я аплодировал до боли в руках и
самозабвенно вопил во весь голос.
Немного погодя публика стала покидать театр. Я направился к
артистическому выходу в переулке подле театра. Там уже собралась
целая толпа. Все были веселы, возбуждены. Оживленные разговоры
сливались в многоголосый, ликующий гомон. У дверей стоял длин¬
ный черный лимузин. Вскоре низенькая дверца служебного выхода
распахнулась, и появилась Бернар с букетом красных роз в руках.
Двое мужчин поддерживали ее под руки. И снова толпа обезумела.
Оглушительный крик прокатился под солидным, полным достоинст¬
ва лондонским небом: «Браво! Да здравствует божественная!» Люди
размахивали руками. Бернар грациозно раскланялась. Ее усадили в
автомобиль, и он тронулся с места. Толпа, окружив машину, броси¬
лась вслед за ней, крича и размахивая руками, люди бежали до тех
пор, пока, набрав большую скорость, лимузин не скрылся за углом.
И я бежал вместе со всеми, и я кричал вместе с толпой. Веселое, ра¬
достное возбуждение охватило меня, как и всех. Шумно переговари¬
ваясь и смеясь, публика медленно растекалась по улицам Лондона.
На следующий день я подвел итоги своим впечатлениям от спек¬
такля. Я провел восхитительный вечер, пережил прекрасные минуты.
Бернар, несомненно, блистательна. Она все еще владеет своим вели¬
колепным мастерством. Возможно и даже весьма вероятно, что в
прошлом она была неподражаемой и играла вдохновенно. Несмотря
на это, мне с неохотой пришлось признаться себе, что я разочарован.
Слава прежней Бернар затмевала нынешнюю, мысль об этой славе
волновала больше, чем впечатление от игры. Той великой Бернар, той
Божественной, чье искусство и «золотой» голос околдовывали и увле¬
кали зрителей, не было. Я увидел актрису – старую, но мужествен¬
ную. Она по-прежнему владела совершенной техникой, но вместо
былого огня остался холодный пепел, усталость. Я увидел актрису,
которая, наверное, была прекрасна в свое время. Мне было немного
грустно, и в душе я склонился, почтительно и низко, перед отваж¬
ным, гордым духом маленькой женщины с фарфоровым личиком и
золотистыми кудрями, все еще находящей в себе силы и мужество
выходить на деревянные подмостки, где мерцали столь любимые ею
огни рампы. «Сигареты, доктор?» – эта фраза в течение многих дней
звучала у меня в ушах, как приглушенный перестук барабанных па¬
лочек по сухому листу пергамента.
Месяц спустя в Лондон приехала Элеонора Дузе. Она привезла
три спектакля: «Женщина с моря», «Привидения» Ибсепа и «Да бу¬
дет так» Томмазо Галларати-Скотти. Все три я видел. Я опишу один
из них, самый интересный,– «Да будет так». И в этот раз я пришел
в «Павильон-тиетр» заблаговременно, и зал быстро наполнился пуб¬
ликой. Любопытная вещь: театр тот же самый – оранжевая с золо¬
том обивка, хрустальная люстра под куполом, и публика собралась та
же, что и в прошлый раз – англичане и множество иностранцев,– и
тем не менее зал выглядел совсем иначе, чем в тот вечер, когда вы¬
ступала Бернар. Огни светились мягче, более тускло, в зале стояла
удивительная тишина, зрители будто на цыпочках проходили к своим
местам, шепотом переговариваясь. Никто пе жевал конфет, пальцы
тихо и бережно листали программки. Все звуки раздавались глуше,
словно только что выпал пушистый первый снег. Но под этим види¬
мым спокойствием таилось, словно электрический заряд, какое-то воз¬
буждение. Оно носилось, оно трепетало в воздухе, пробегало внезап¬
ным холодком по вашей спине, заставляя сердце биться все сильнее
и громче, так громко, что, казалось, его стук беспокоит соседей. Но
соседи не жаловались, их лица пылали, руки двигались быстро и
нервно, а сердца, конечно, бились тоже слишком громко на фоне ца¬
рившей в зале благоговейной тишины. Вот вам чудесное, неизъясни¬
мое влияние одного маленького человеческого существа на тысячи
других, охотно и с радостью ему покоряющихся. И в тот вечер, когда
выступала Бернар, и нынче, в день гастролей Дузе, где-то вдали от
публики, не видимая ею, за крепкими стенами, за тяжелым занаве¬
сом, за сценой, в тесной каморке артистической уборной сидела перед
зеркалом маленькая и хрупкая шестидесятитрехлетняя женщина и,
готовясь к работе, капля по капле собирая свои столь драгоценные си¬
лы, обретала вдохновение. И вот это-то хрупкое, тщедушное создание
безраздельно и неоспоримо властвовало над сотнями других, сидящих
в зале, куда более молодых, здоровых, сильных! И они, эти другие, с
радостью покорялись милой тирании. Как струны исполинского роя¬
ля, публика, находившаяся в зале, отзывалась на некий неразличи¬
мый ухом ультразвук, который долетал из-за кулис. Струны были так
натянуты, что, казалось, мелодия зазвучала еще до того, как пальцы
пианиста коснулись клавишей.
К тому времени, как начали меркнуть огни, тишина в зале стала
такой глубокой, что вы услышали бы, как падает пушинка. С мягким
шелестом поднялся занавес... и этот звук казался тише в этот вечер.
На сцене было несколько актеров. Мелодичные звуки пленительной
итальянской речи хлынули из-за рампы сверкающим каскадом све¬
жей ключевой воды. Я не знаю итальянского, не знало его и большин¬
ство зрителей, но, право же, это не имело никакого значения. Мы слу¬
шали актеров, как прослушивают скучное вступление, и только жда¬
ли появления Дузе. И вот в глубине сцены показалась хрупкая фи¬
гурка, в крестьянском платье, в пестром платочке на голове. Сказать,
что Дузе вышла на сцену, было бы неверно – она появилась, возник¬
ла совсем незаметно и теперь постепенно приближалась. Я сперва да¬
же не сообразил, кто это, покуда запоздавшая волна аплодисментов не
прокатилась по залу. Фигурка остановилась и застыла в неподвижно¬
сти, пока не стихли аплодисменты. Так это Дузе... Я вгляделся в нее.
Боже милостивый! Старуха, совсем старуха! Такая хрупкая и тще¬
душная, что, кажется, ее можно сдуть со сцены с такой же легкостью,
с какой задувают свечу. Бледное, почти прозрачное лицо – прекрас¬
ное, о да, поистине прекрасное, огромные темные глаза, вокруг них
морщины. Как много у нее морщин! Глубокие, резкие, безжалостно
прочерченные прожитыми и выстраданными годами. И она не прячет,
не стыдится их, не пытается скрыть йоД гримом. Даже на бледных
губах нет следов помады. Из-под пестрого платочка выбиваются во¬
лосы – совсем седые, белые, как первозданный снег!
Я почувствовал внезапную боль в сердце, словно его сдавили чьи-
то стальные пальцы, и откинулся на спинку кресла; слезы застилали
мне глаза. Какое мужество! И какая глубокая в этом печаль! Беспре¬
дельная печаль нашего мира, бесконечная печаль старости с ее стра¬
даниями. Я почти раскаивался, что пришел в театр. В программе было
сказано, что в первом акте Дузе играет молоденькую крестьянку
двадцати трех лет, мать грудного младенца, жену горького пьяницы;
во втором и третьем актах действие происходит спустя тридцать лет.
Возможно ли смотреть, как эта маленькая старушка изображает мо¬
лодую мать, и ие умирать от смущения и боли... Я не умер. О, жалкий
маловер! (да, да, конечно, я говорю о самом себе), о, маловер! Про¬
шло несколько минут, и я понял, как заблуждался в своем трусливом
неверии. Свершилось чудо, одно из тех незабываемых чудес, которые
всю жизнь потом служат источником вдохновения. Не успел я огля¬
нуться, как светлая магия гения превратила Дузе, морщинистую, се¬
дую Дузе, в прелестную молодую женщину, полную юного трепета и
сил. Не злато, как это случилось – я ни о чем подобном не подозре¬
вал, пока ие понял вдруг, что перемена произошла. Передо мною бы¬
ла молодая женщина, в самом расцвете первой весны. Вот она сидит
у колыбели младенца – юная мать.
Сюжет пьесы довольно прост. Вот что я запомнил. Молодая жен¬
щина замужем за злобным, жестоким пьяницей. Ее ребенок опасно
занемог. Мать в отчаянии обращается с мольбой к богу. Но у нее нет
ничего, что она могла бы принести в жертву, нет ни гроша, чтобы ку¬
пить свечу и поставить перед алтарем; поэтому за исцеление младен¬
ца она обещает богу единственное сокровище, которым владеет. Это
сокровище – воспоминание; в ее убогой, беспросветной жизни оно
единственное утешение для сердца и ума. Однажды, еще в девушках,
сидя у окна, она увидела красивого юношу, проходившего мимо. Юно¬
ша остановился, посмотрел на нее, их взгляды встретились, и они
улыбнулись друг другу. Девушка влюбилась с первого взгляда. По
красивый юноша ушел своей дорогой, и она уже никогда его не встре¬
чала. С того дня воспоминание о нем стало самым драгоценным ее
достоянием. И вот его-то несчастная приносит в дар богу! Если бог
пошлет ребенку исцеление, она готова расстаться с милым сердцу
воспоминанием, пикогда больше не думать о юноше. Сцена молитвы
была незабываемой. И хотя сейчас, когда я пишу о пьесе, я не могу
не видеть, что вся эта история незначительна и трудно судить о ней
справедливо,– в тот вечер мольба Дузе была шедевром искусства.
Каждый, конечно, слышал о руках Дузе. Они были прекрасны.
Подчас они напоминали цветы, иной раз – мечи. В них чувствова¬
лась хрупкость и сила, они могли быть нежными, могли быть и жест¬
кими. Дузе пользовалась ими с безыскусной грацией. Ее выразитель¬








