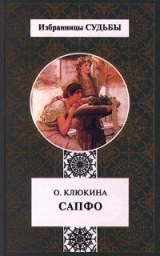
Текст книги "Сапфо, или Песни Розового берега"
Автор книги: Ольга Клюкина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
– О, моя нежная, любимая Псаффа, – пробормотала Сандра каким-то странным, хриплым голосом, словно сдерживая готовые выплеснуться наружу рыдания.
У Сандры – длинные волосы, но маленькая, мужская грудь и прямые бедра, и она умеет овладевать еще неистовее, чем мужчина.
Но сейчас Сандра не спешила, потому что, будучи настоящей женщиной, ценила в постели не напор и быструю победу, а каждое сладостное мгновение любви и возможность общего, непременно совместного полета.
Закрыв глаза, Сандра страстно приникла к губам Сапфо, так что наконец-то их языки соединились, а руки начали блуждать по одежде, стараясь угадать обнаженность тела…
– О, Псаффа, я, пожалуй, до завтрашнего дня не стану мыться и причесываться из опасения, как бы не стереть твои ласки, не захочу помадить губы и пудриться, чтобы сохранить твои поцелуи, – сказала Сандра, когда две женщины уже отдыхали от любовного изнеможения, но не желая пока пробуждаться окончательно.
– Ну, это уже слишком, – пробормотала Сапфо.
– А знаешь – почему? – рассмеялась Сандра счастливым, звонким смехом. – Потому что до завтрашнего дня, Псаффа, я все равно буду крепко спать, а утром проснусь с таким чувством, как будто бы родилась заново. И это – благодаря тебе, только одной тебе.
Сапфо молча поцеловала подругу в теплое веко, которое, казалось, было искусно вылеплено каким-то божественным мастером из мрамора, а сейчас было прогрето солнцем их любви, лежащим где-то в самой глубине тела.
И это показалось Сандре лучше любого ответа.
– Можно, Псаффа, я останусь спать здесь, в нашей усталой постели, которая еще долго будет хранить отпечаток твоего тела, даже когда ты уйдешь? – спросила Сандра, видя, что Сапфо потянулась собирать разбросанную в беспорядке одежду.
– Конечно, моя радость, – ответила Сапфо, которой уже не терпелось выйти на улицу, хотя Сандра все еще продолжала тихо забавляться ее волосами, то завязывая их под подбородком, то снова распуская по своей прихоти и пропуская сквозь свои растопыренные пальцы, как сквозь гребенку.
Когда Сапфо вышла на улицу, ей показалось, что только что наступило утро – второе за этот день, но еще более свежее и промытое.
Любовь Сандры словно очистила для глаз Сапфо все краски природы, как особый раствор может иногда мгновенно снять патину с благородных металлов.
Снова по-особому ярко зеленела листва, пока еще никак не сдававшаяся перед неизбежностью скорой осени, ослепительными, снежными глыбами плыли по синему небу облака.
Сапфо чувствовала, что теперь все ее тело, будто священный сосуд, наполнен спокойствием и ни с чем не сравнимой приятной негой.
Когда-то Анактория сказала Сапфо странные, очень странные слова, их смысл она поняла только сейчас, спустя много лет.
«Всякая женщина, которая будет искать в любви не тело, а душу, – обречена на женщину», – вот что сказала Анактория, глядя на Сапфо загадочными, мерцающими глазами.
Как это точно сказано – обречена на женщину, и сопротивление в данном случае не имеет никакого смысла.
Проходя между деревьями по дорожке, ведущей к морю, Сапфо заметила, что в дальней веранде напротив друг друга сидели Алкей и Фаон – кажется, мужчины развлекались настольной игрой в кости, и их неподвижные фигуры были слегка наклонены друг к другу.
Сапфо с облегчением отметила про себя, что больше не испытывает никаких особенных, странных чувств при виде сына Тимады.
Милый, добрый, прелестный мальчик – мало ли таких на белом свете?
Целое войско, готовое идти на любовные битвы, если поставить их плечом к плечу.
Но вдруг Сапфо вздрогнула и остолбенела от внезапной догадки.
Потому что только сейчас, увидев Фаона на расстоянии, Сапфо поняла, чем именно ее так сильно поразила внешность Фаона с его копной светлых, почти что белых волос и темными, лучистыми глазами.
Фаон, как никто другой, напомнил Сапфо о ее драгоценной седой музе – об Анактории.
Словно бы та сама наконец-то надумала явиться к Сапфо, но только в новом, еще более прекрасном облике – в неподражаемом цветении юности.
Глава четвертая
ПЕРВЫЕ «ФАОНИИ»: ПРОБА ГОЛОСА
Праздник решили провести днем на свежем воздухе, как всегда, на открытой поляне.
Она была расположена совсем недалеко от того обрыва, который в течение нескольких лет служил женщинам неизменной смотровой площадкой для наблюдения за восходами и заходами солнца, а нередко – и за штормовыми морскими бурями, и к тому же эта поляна была щедро оснащена жертвенниками для служения всевозможным богам и считалась в здешних местах священной.
При желании на поляне можно было хоть весь день передвигаться от алтаря к алтарю и приносить жертвы поочередно то Зевсу-Дарителю, то Гере, то Дионису, то Деметре или Гераклу, и всем, кому только вздумается, – насколько хватило бы до ночи даров, голоса и сил.
Но чаще всего любой, пусть даже маленький праздник посвящался кому-либо одному из богов, и люди старались придерживаться негласного распорядка, позволявшего в течение года постепенно охватывать своим вниманием всех небесных покровителей.
Считалось, что ревнивые друг к другу боги не любят, когда о них вспоминают скопом, и согласны лучше терпеливо дожидаться своей очереди, чем попасть в общую толпу и слушать перепутанные гимны.
Разумеется, это не касалось крупных, повсеместных праздников вроде фесмофорий, когда все греческие женщины осенью, в посевную пору, устраивали большие и порой не вполне приличные игрища в честь Деметры и Персефоны, которые должны были способствовать плодовитости человека и всей природы, или крупномасштабных шествий в честь Зевса или Диониса – само собой разумеется, что на Лесбосе они тоже отмечались с особой торжественностью.
Но в школе Сапфо было заведено, что даже самые маленькие, шутливые состязания и развлечения посвящались тем или иным небожителям, потому что приятный досуг здесь тоже считался делом «божественным» и очень важным.
Весь предыдущий день и в самом доме, и на заднем дворе, и в близлежащей роще царило небывалое оживление.
Подруги то в одном, то в другом месте собирались кто попарно, а кто небольшими группами, разучивали какие-то новые песни, неожиданно появлялись в каких-то странных нарядах и потом снова исчезали, но, казалось, буквально отовсюду, даже из лесной чащи, раздавалось их таинственное шушуканье и смех.
Это была та завораживающая, волнующая атмосфера подготовки к празднику, которая порой приносила людям не меньше радости, чем сам праздник, а точнее, сама по себе уже казалась праздником.
Сапфо про себя называла такое настроение «предчувствием песни» – когда слова еще не высказаны, но та сила, которая заставляет их все же вот-вот сорваться с языка, уже радостно и неукротимо теснит грудь.
Почему-то на этот раз в подготовке первых «фаоний» особенно бурной энергией отличалась Дидамия.
Казалось, она вовсе забыла, что такое усталость и скука: Дидамию одновременно видели почти одновременно в самых разных местах.
То она в который раз со вдумчивым видом беседовала с Эпифоклом, записывая за ученым чуть ли не каждое слово, то Сапфо встречала ее уже поющей в беседке с подругами, то о чем-то со смехом рассказывающей не слишком веселой Филистине.
Фаон тоже в этот день частенько появлялся то в доме, то во дворе, увлеченный подготовкой к празднику, который к тому же должен был (в шутку ли? на самом деле?) носить именно его имя.
Сапфо почти постоянно видела его рядом с Алкеем либо с Филистиной и замечала, что со щек юноши, покрытых нежным, совсем еще детским пушком, от волнения буквально не сходит пунцовый румянец.
После того как отъезд Фаона был отложен на время «сразу же после праздника», Сапфо испытала почему-то невероятное облегчение.
Ведь это означало, что юноша хотя бы еще несколько дней на законных основаниях пробудет рядом, на глазах, и ей пока не нужно было ломать голову, а точнее – душу насчет его дальнейшей судьбы.
В конце концов, такой вынужденной паузы, как считала Сапфо, ей может вполне хватить, чтобы настроиться на прежний, спокойный лад и не поддаваться своему искушению.
Сапфо даже научилась почти не обращать на присутствие Фаона особого внимания – по крайней мере, она уже не краснела и не бледнела при его внезапном появлении, как глупая девчонка.
Ничего, теперь от глупых мыслей ее охраняла мудрая Гея – мать всех богов – которой Сапфо сегодня горячо помолилась на заре и принесла обильные жертвы.
Впрочем, один раз Сапфо все же сама вызвала Фаона на разговор, и теперь вспоминала об этой беседе с невольной улыбкой.
Сапфо решила, что есть смысл заранее подробно поговорить об увлечениях и склонностях юноши: она должна иметь о них хоть какое-то представление, прежде чем рекомендовать Фаона известным афинским учителям.
Может быть, Фаон всерьез увлекается математикой, философией, риторикой и уже имеет на этот счет какие-либо честолюбивые планы, о которых Сапфо пока просто ничего не известно?
Но на все заданные вопросы Фаон только отрицательно качал головой или растерянно пожимал плечами.
Нет, ничего подобного за ним, похоже, не водилось, и получалось, что Фаону было совершенно безразлично, чему, зачем и у кого учиться.
Но Сапфо была сильно заинтригована и так просто, ни с чем, отступать не хотела: может быть, в таком случае у Фаона есть склонность к музыке, поэзии, танцам или другим видам искусств, находящимся под покровительством Аполлона и какой-либо из девяти Муз?
– Ой, нет, я даже не знаю, – скромно потупившись, признался Фаон. – Тогда я спел только потому, что вы все меня очень попросили. Но вообще-то Филистина говорит, что мне в детстве, наверное, в уши заползли муравьи, когда я нечаянно заснул на муравейнике, и они так сильно растащили звуки моих мелодий в разные стороны, что их порой просто невозможно собрать в кучку.
– Но тогда, быть может, ты, Фаон, хотел бы прославиться на Олимпийских играх, как бегун, или атлет, и завоевать себе лавровый венок на спортивных состязаниях? – спросила Сапфо, дружелюбно улыбаясь. – Об этом в твоем возрасте мечтают многие юноши!
Но и такое предположение не прибавило Фаону радостного блеска в глазах, и он только вздохнул, давая понять, что определенно не представляет себя даже мысленно в роли победителя на каких-либо крупных спортивных игрищах.
Сапфо поневоле сделалось еще любопытнее: кем же все-таки видит себя этот загадочный юноша во взрослой жизни, к которой, как ни крути, он уже подошел почти что вплотную?
Торговцем? Воином? Моряком?
Пожалуй, последнее предложение Фаону понравилось больше прочих, но и тут у него имелись в душе какие-то сомнения.
– Знаешь, Сапфо, я только сейчас понял: наверное, больше всего на свете я хотел бы быть паромщиком, – вдруг неожиданно сказал Фаон, поднимая на Сапфо красивые, но такие простодушные глаза.
Сапфо невольно загляделась: как две далеких, заоблачных звезды в бахроме ресниц.
– Кем? Паромщиком? – не поняла даже поначалу смысла внезапного признания юноши Сапфо.
Что ни говори, но это была несколько странная мечта для молодого, полного нерастраченных сил человека, который сейчас имел счастливейшую возможность избрать себе в общем-то любой, самый необыкновенный жребий…
– О, как бы это было для меня хорошо! – воскликнул Фаон, увлеченный новой идеей. – Я много думал все эти дни. Да, точно, я не могу пожелать для себя лучшей доли, чем стать паромщиком! Но вот где именно и как – этого я пока что совсем не знаю.
И Фаон несколько путано пояснил свою мысль: с одной стороны, паромщик всегда находится в пути, и имеет возможность встречаться с самыми разными людьми, и слушать их рассказы, но с другой стороны, – его никогда не занесет на край света каким-нибудь дурным ветром, как это всегда бывало с морскими путешественниками еще со времен Одиссея, и паромщик точно знает, что, всласть поборовшись с волнами, он всегда вернется домой, на прежнее место, где его будут ждать близкие люди.
– Значит, тебя не привлекает даже судьба Одиссея, который пережил множество самых удивительных приключений? – искренно удивилась Сапфо, потому что за свою жизнь она встречала немало мальчишек, мечтавших оказаться под стенами Трои и сражаться там с неукротимостью Ахиллеса, а потом пуститься, подобно Одиссею, в чудесные странствия.
Но среди них не было ни одного, который желал бы себе доли перевозчика, чего-то похожего на долю угрюмого Харона.
– Ну уж нет! – твердо сказал Фаон. – Счастье Одиссея, что его блуждание по миру закончилось более-менее благополучно. И все же лично мне из всех его приключений больше всего нравится тот момент, когда добрая служанка Эвриклея начинает мыть страннику ноги и, единственная из всех, узнает Одиссея по шраму на ноге. Но что было бы, если бы к этому моменту Эвриклея уже сошла в другой мир? Ты когда-нибудь об этом задумывалась?
– Нет, – призналась Сапфо, которой действительно никогда не приходило в голову рассматривать историю про многоумного героя именно с этой стороны.
– Просто тогда Одиссей – ведь он за годы скитаний внешне изменился до неузнаваемости – никому не сумел бы доказать, что он – это он. Ни своей Пенелопе, ни сыну – его бы просто приняли за бродягу-самозванца и взашей прогнали из собственного дома, разве не так? – не на шутку разволновался Фаон. – А старая Эвриклея хотя и была уже почти слепой, но все равно видела лучше их всех, вместе взятых…
– Ты, наверное, просто забыл, Фаон, – мягко сказала Сапфо. – Ведь потом был момент, когда только Одиссей из всех женихов сумел натянуть лук…
– Нет, все равно, – упрямо покачал головой юноша. – Все равно.
Сапфо было забавно слушать совсем детские рассуждения Фаона, в которых она угадывала и рассудительные интонации хозяйственной молочницы Алфидии, и старательно сдерживаемую юношескую порывистость, доставшуюся ему в наследство от маленькой Тимады, и личное желание показаться сейчас перед ней человеком разумным и самостоятельно мыслящим.
Ну надо же, паромщик!
Это показалось Сапфо смешным и даже откровенно глупым!
Но, вспомнив о разговоре с Фаоном через некоторое время, ближайшей бессонной ночью, Сапфо вдруг пришла к выводу, что за наивной мечтой юноши на самом деле скрывается еще и совсем другая глубина – врожденное чувство меры, душевного равновесия, которым может похвастаться вовсе не любой из мудрецов.
В сущности, единственное, что способно сделать человека по-настоящему счастливым.
И пожалуй, в воображаемом образе паромщика это драгоценное чувство меры Фаона уже вовсю давало себя знать: ничего слишком, всегда держаться середины, суметь оставаться между двух берегов.
На одном берегу – дом, привычная жизнь; на другом – чужбина; неизведанные, таинственные возможности, но душа Фаона изо всех сил желала бы удержаться где-то посередине, не прибиваясь всецело к какому-то из этих берегов, и тем самым охраняя свою свободу, и одновременно – счастье.
Конечно, любому честолюбцу, который в мыслях пытается сравниться с богами, невнятная мечта Фаона могла бы показаться нелепой, и даже скорее достойной раба, чем свободного человека.
Но так ли это на самом деле?
И еще, долго ворочаясь без сна на своем ложе, в эту ночь казавшемся холодным и чуть ли не каменным, Сапфо снова и снова вспоминала слова Фаона про старую, подслеповатую служанку Одиссея, которую он назвал в разговоре «самой зрячей из всех».
И в этих простых, робких словах юноши Сапфо тоже увидела глубоко скрытую, может быть, даже не до конца понимаемую им самим великую мудрость.
А действительно: какое зрение следует считать наилучшим?
У одноглазого Киклопа был один огромный глаз, нацеленный в одну точку, каким не мог похвастаться никто из людей, но Одиссей сумел легко победить чудовище при помощи хитрости.
Ведь и тысячеглазый Аргус – верный стражник богини Геры, вездесущий, как звездное небо, и умевший одновременно глядеть во все стороны, тоже в конце концов лишился своей головы.
Сапфо вспомнила также и дальнозоркого аргонавта Линкея, который стоял на носу корабля Арго и заранее видел не только далекие, приближающиеся скалы, но и вообще умел глядеть сквозь землю, – но даже ему не удалось спастись при помощи своего необыкновенного зрения.
Фаон был прав: по-настоящему можно увидеть лишь особым, любовным взглядом – только любовь, чувство делает зрение человека поистине всепроникающим и, как выясняется, дает божественную зоркость.
В доме Одиссея действительно все были слепыми и лишь старая Эвриклея – зрячей, потому что за многие годы она единственная не забыла и не разлюбила скитальца, и это стало главной гирькой на весах его судьбы, которая уравновесила долгие годы странствий со счастливым моментом возвращения.
И еще Сапфо подумала, что, наверное, именно поэтому на глазах многих смертных лежит плотная пелена, не позволяющая им воочию видеть богов.
Лишь избранные, те, что любят небожителей по-настоящему, всем сердцем, способны особым зрением видеть иногда перед собой бессмертные лики и даже беседовать с олимпийцами.
Лишь те, кто по-настоящему умеют любить…
Но откуда все это может быть известно Фаону, выросшему в маленьком доме на краю буковой рощи, все свое детство забавлявшемуся с козлятами и игравшему им на свирели?
Под утро Сапфо все же смогла ненадолго заснуть, и ей неожиданно приснился Фаон, чем-то похожий на полузабытого мужа Керикла.
Во сне у Фаона были черные как смоль волосы и холодные стальные глаза – полная противоположность тому, как юноша выглядел на самом деле, – и он сурово смотрел исподлобья куда-то мимо лица Сапфо, в неведомую даль.
Сапфо задумалась: говорят, в Стране Блаженства, о которой ходит много легенд, люди почему-то бывают седыми в детстве, а к старости – наоборот, чернеют, потому что время там движется задом наперед.
Может быть, как раз Фаон что-то знает об этой самой загадочной Стране Блаженства?
Скорее всего, в нее тоже возможно проникнуть только лишь при помощи силы любви, и никак иначе.
Но слишком долго лежать в постели и предаваться туманно волнующим размышлениям о загадочной Стране Блаженства Сапфо не могла: наступил день поэтического состязания, который Алкей упорно называл «фаониями».
Погода в этот день выдалась на редкость благодатной, солнечной, и праздничная поляна издалека напоминала большой, пышный цветник.
В эти сентябрьские дни, когда месяц боедромин еще только набирал силу, на холмах само по себе бушевало многоцветие полевых цветов, целые островки зарослей душистого укропа и других причудливых трав, и потому вся местность, особенно если можно было бы посмотреть на нее сверху, должна была казаться большим, искусно вытканным ковром, рисунок которого уже через год в точности повторить совершенно невозможно.
Но к празднику поляну еще и специально украсили розами, цветочными венками, коврами и расшитыми покрывалами, на которых так приятно было в минуту отдыха понежиться на солнце, поэтому она и вовсе казалась благоухающей, цветочной клумбой, и самыми красивыми цветами на ней, конечно же, были люди, и в первую очередь – нарядно одетые женщины.
Сапфо подумала, что боги, которые с небес, разумеется, с интересом наблюдали за происходящими действиями, должны были остаться довольны открывшимся у них перед глазами зрелищем и послать хорошую погоду.
По сути дела, именно они, небожители, всякий раз были главными и единственными зрителями всевозможных празднеств и песнопений, потому что все присутствующие на поляне сразу же становились активными участниками то хора, то хоровода, и никому даже не приходило в голову просто сесть в стороне и отчужденно смотреть, как себя будут вести другие.
Наверное, боги, а в особенности богиня Афродита должна была остаться довольной также и обильным жертвоприношением из молока и меда, которое было принесено перед началом праздника на небольшом алтаре, сложенном из ослепительно белых камней в ее честь.
По крайней мере, всем показалось, что после того, как молоко струйками растеклось по камням и просочилось через зелень травы в землю, солнце засветило еще ярче и щедрее, чем прежде, и кто-то словно невидимой рукой смахнул с неба последние хмурые тучки, порой залетавшие сюда случайно из-за моря.
– Я наконец-то понял: у вас здесь какая-то своя религиозная община, только для посвященных, – прошептал Эпифокл Дидамии, с которой стоял рядом, едва-едва доходя ей ростом до плеча. – И Сапфо здесь – царица. Сапфо и еще – ты.
– Разве? – удивилась Дидамия, на минуту отвлекаясь от пения – у нее был очень низкий, густой голос, живший где-то в самой сердцевине груди.
А Эпифокл, прищурившись, с видом ювелира рассматривал сейчас лица и фигуры женщин, самозабвенно исполняющих на разные голоса известный гимн в честь природы, где природа называлась то кормилицей-матерью, а то «самоотцом, не имущим отца».
– Я же вижу: вы принимаете к себе не всех, а только самых красивых женщин, которых сумели создать великие боги, поэтому среди вас тут нет ни одной дурнушки. А ведь их немало встречается в других местах! – продолжал шепотом делиться с Дидамией своими выводами Эпифокл. – Вы все в своей общине связаны между собой идеей бессмертной красоты и считаете себя жрицами Афродиты, но никому про это вслух не рассказываете, разве не так?
– Мы все связаны между собой любовью, – с улыбкой пояснила Дидамия, слегка наклоняясь к своему спутнику. – И в этом смысле – конечно, нас можно назвать особой семьей, которая находится под покровительством Афродиты…
– Но, значит, богиня любви и красоты сама внушает вам, чтобы вы брали к себе только безупречных красавиц, – упрямо повторил Эпифокл. – Я много всякого разного повидал на своем веку, но впервые вижу одновременно так много красивейших женских лиц, фигур и голосов, нарочно собранных в одном месте. Это несколько похоже на чудо, хотя я, как всякий ученый, обычно все же пытаюсь найти любым необычным явлениям разумное объяснение…
– Хорошо, тогда я открою вам один наш секрет, – тихо сказала Дидамия, и Эпифокл даже незаметно приподнялся на цыпочках, чтобы лучше расслышать ее слова. – Мы не принимаем к себе исключительных красавиц, но женщины, которые приходят сюда, незаметно сами в них превращаются – да-да, не удивляйся, Эпифокл, все без исключения. Любая женщина, согретая лучами взаимной любви, способна расцвести… как вот этот самый цветок.
И с этими словами Дидамия вручила Эпифоклу одну из роз, из которых был искусно сплетен ее пояс.
Но выдернув цветок из общего сплетения и протянув старику, Дидамия невольно удивилась своему маленькому открытию.
Эта ярко-бордовая роза, настоящее украшение венка-пояса, в руке Эпифокла сразу же показалась ей какой-то сиротливой с изломанным, жалким стеблем, оборванными шипами, не такой уж и пышной, несколько подвядшей от жары.
Дидамия подняла глаза на своих подруг и особенно долго задержалась взглядом на Сапфо – вот кто первая поняла, что именно в женщинах, собранных вместе, любовно сложенных в один букет или общий венок, начинает с особой выразительностью проявляться неведомая сила цветения их всевозможных талантов.
Каждая из подруг Сапфо, несомненно, обладала каким-то особым, только ей присущим, неповторимым дарованием, но ведь при других условиях эти способности могли бы и завянуть, как обычно случается во время внезапных морозов с неокрепшими побегами.
Эпифокл перехватил взгляд Дидамии.
– Скажи, моя царица, Сапфо всегда такая молчаливая? – спросил он, тоже с интересом вглядываясь в лицо прославленной поэтессы. – Признаться, я представлял ее несколько иначе. И думал, что мне удастся побольше с ней поговорить и узнать о ее воззрениях на жизнь.
– Нет, не всегда, – призналась Дидамия, которую тоже в последнее время несколько озадачивал замкнутый вид Сапфо – она казалась полностью погруженной в себя, и даже выглядела чем-то расстроенной. – Но ведь вам вовсе необязательно говорить с самой Сапфо, чтобы узнать, о чем она думает.
– Как это? Что за новые загадки? – не понял Эпифокл.
– Достаточно послушать, о чем разговариваем и поем все мы, чтобы понять, кто такая наша Сапфо, – с гордостью сказала Дидамия. – Сапфо – это каждая из нас, и одновременно все мы, вместе взятые. Ведь все, кого ты здесь видишь, – прежде всего подруги Сапфо, и значит, в каждой из нас можно найти хоть что-то, созвучное ее душе…
– Вот она – моя теория взаимных связей и проникновений, – воскликнул Эпифокл. – И я сейчас буквально могу видеть ее перед своими глазами. Удивительно! Наверное, сами боги направили меня к вам сюда в повозке Алкея. Погоди-ка, погоди-ка, во мне уже начинает пробуждаться еще одна новая мысль…
– Поздравляю тебя, – сказала Дидамия.
Она отобрала у Эпифокла цветок, сняла с себя пояс, снова ловко вплела розу в общий венок и затем шутливо надела его Эпифоклу на голову, прикрывая лысину старика.
– Мне кажется, тебе, как самому старшему из нас, и к тому же зачинателю «фаоний», следует выступить первым, – подсказала Дидамия, и Эпифокл с венком на голове, подняв руку, тут же вступил в центр круга, показывая, что собирается что-то сказать или пропеть.
Женские голоса сразу же затихли, уступая место солисту.
Обычно на подобных праздниках, проводимых в форме музыкальных состязаний, не было четкой очередности – кто, когда и за кем должен демонстрировать свое мастерство – каждый руководствовался движениями собственного сердца и начинал петь тогда, когда внутренне чувствовал к этому себя абсолютно готовым.
Тогда певец просто выходил на середину круга, прерывая общие гимны, которые, впрочем, могли без остановки звучать и до глубокой ночи, если у участников праздника неожиданно одновременно пропадало желание оказываться у всех на виду.
Впрочем, в школе Сапфо подобного не случалось ни разу.
Вообще-то, сначала Эпифокл намеревался на «фаониях» познакомить слушателей с отрывками из своей любимой, правда, пока еще не законченной эпической поэмы о пронзительных свойствах солнечного света.
Но теперь, глядя на окружающие его со всех сторон одухотворенные женские лица, неожиданно переменил свое решение.
Эпифоклу пришло на ум, что на этой поляне гораздо уместнее будет под звуки кифары исполнить что-нибудь более темпераментное, чем его поучительная поэма, так сказать более мужественное, способное, в свою очередь, наполнить волнением любое женское сердце.
Может быть, философ тоже незаметно для себя проникся идеей негласной круговой поруки, но только – особой, мужской?
Поэтому Эпифокл предложил вниманию слушателей песни Архилоха, предварительно пояснив, что он как раз направляется на остров Фасос, где долгое время воевал прославленный поэт, и поэтому сейчас кто-то словно сам подтолкнул его язык исполнить именно Архилоховы песни.
На поляне сразу же воцарилась такая полная тишина, что в промежутках между переборами струн кифары, которые не всегда вполне хорошо слушались негнущихся пальцев Эпифокла, было слышно жужжание диких пчел, перелетающих с цветка на цветок.
Услышав имя Архилоха, Алкей невольно оглянулся на Сапфо: она не отрывала взгляда от поющего философа, нервно сплетая и расплетая свои красивые пальцы и словно мучительно размышляя о чем-то своем.
Алкей нахмурился: ну кто, спрашивается, просил сейчас этого неразумного толстопуза начинать праздник именно с песен Архилоха, которого, кстати сказать, давно уже не было среди живых на этом свете?
Ему что – мало живущих?
Алкей почувствовал, что у него сразу же резко испортилось настроение.
Конечно, на этой поляне не только он один, но, наверное, и все остальные были наслышаны о том, что Архилох какое-то время был, или считался, возлюбленным Сапфо.
Так ли это было на самом деле?
Возможно, это просто были очередные слухи, которыми имя Сапфо с каждым годом опутывалось все плотнее, словно густым туманом.
Но узнать что-либо более определенное оказалось делом совершенно невозможным.
«Да, разумеется, Архилох – мой возлюбленный, – улыбаясь, ответила однажды Сапфо на откровенный вопрос Алкея. – Он, и еще – прославленный певец Орфей, который любил свою Эвридику так же красиво, как и сочинял свои песни, впрочем, как и многие другие…»
Алкей так до конца и не понял: то ли Сапфо тогда пошутила, то ли пыталась скрыть за этой шуткой истинную правду, и поэтому он теперь следил за непроницаемым выражением ее лица с повышенным вниманием.
Получалось, что одного поэта – безумного Архилоха – Сапфо почему-то посчитала возможным одарить своей любовью, а его, Алкея, упорно продолжала держать на расстоянии как несмышленого мальчишку.
Правда, связь Сапфо и Архилоха (впрочем, ходили упорные слухи, что в числе возлюбленных Сапфо был в свое время также поэт Гиппонакс и кто-то еще из рифмоплетов!) могла продолжаться совсем недолго, если учесть, что они встречались всего один раз на острове Паросе во время большого праздника в честь богини Афродиты, куда каким-то ветром занесло и Сапфо, но ведь за праздничную неделю тоже можно было успеть немало!
Но даже если любовная связь Сапфо с нахалом Архилохом была действительно всего лишь слухом, то Алкею, признаться, было все равно досадно, что ему не досталось даже тени подобной молвы.
Наоборот, получается, что про него теперь все будут говорить: «тот самый Алкей, который напрасно добивался любви и руки великой Сапфо».
«Тот самый Алкей»…
– Эпифокл, а спой-ка ты лучше песню про то, как ваш любимый Архилох бесславно бросил на поле боя свой щит, – подсказал Алкей, язвительно улыбаясь.
с готовностью пропел Эпифокл Архилохов стих своим старческим, несколько козлиным голосом.
– Ха-ха, вот он – вояка! Пасынок Ареса, – прокомментировал вслух Алкей и пропел строчку из другого, не менее известного стихотворения своего соперника-сердцееда.
Вот весь ваш Архилох здесь как будто на ладони – гроза семерых врагов, славный оруженосец, пустой болтун!
И проговорив это, Алкей горделиво посмотрел на женщин.
Все они, разумеется, прекрасно помнили одно из самых известных стихотворений самого Алкея, в котором тот в живописных подробностях описывает трофейное вражеское оружие, которое теперь хранилось у него дома.
Но Алкей не удержался, а сделав шаг в круг, звонко еще раз пропел свою песню, которой по-настоящему гордился.
Ведь он вовсе не хвастался в этой песне своими славными победами, не пересказывал ни одного военного приключения, а просто подробно описал те щиты и мечи, которые достались ему от врагов.
Но почему-то простое перечисление всех этих предметов действовало на воображение слушателей гораздо сильнее любых героических воззваний.
И постепенно Алкей сам догадался почему: тот, кто слушал, как выглядит аккуратно развешанное на стенах его дома оружие, сразу же живо вспоминал о своих личных сражениях и представлял мысленно свои собственные битвы – а они для каждого, если быть до конца откровенным, все равно были куда более волнующими, чем самые яркие подвиги Геракла или Ахиллеса.






![Книга Мелика [Вокальная лирика] автора Сапфо](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-melika-vokalnaya-lirika-191797.jpg)

