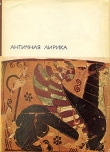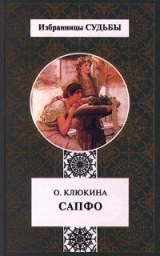
Текст книги "Сапфо, или Песни Розового берега"
Автор книги: Ольга Клюкина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Тогда все вновь прибывшие беглецы разместились под гостеприимным кровом своих бывших соотечественников, и лишь волею случая (всевышних богов!) Сапфо оказалась под покровительством именно этой богатой, бездетной пары – старого Трилла и его жены Анактории.
Сапфо была благодарна своим новым хозяевам за то, что они не донимали ее своей опекой – предоставили комнаты, обильный стол, но при этом вовсе не докучали лишними расспросами и разговорами, на которые, как известно, бывают особенно падки женщины, запертые мужьями в четырех стенах.
Трилл, кажется, вообще считал, что у Сапфо, после известия о смерти мужа, случился паралич языка, и порой ворчал, что хотел бы посмотреть, будет ли его женушка предаваться столь же безутешной печали после его смерти, и даже грозился устроить как-нибудь на эту тему проверку.
Он вообще вел себя со своей женой на редкость бесцеремонно, постоянно осыпая ворчливыми упреками и не стесняясь в выражениях даже в присутствии посторонних людей.
Сапфо поражало, что Анактория – такая невозмутимо-цветущая по сравнению со своим иссохшимся, злобным супругом! – никогда не отвечала на его выпады ни единым словом и даже тихо улыбалась про себя, словно имела дело с несмышленым ребенком.
Признаться, Сапфо это даже несколько удивляло: неужели привычка к обеспеченной жизни способна сделать любую женщину такой же покорной?
Или здесь имела место какая-то странная форма любви, вовсе неведомая Сапфо?
Впрочем, Сапфо по-настоящему об этом не задумывалась, лишь иногда ее невольно охватывала жалость к Анактории.
Все-таки эта добрая женщина постоянно старалась как-нибудь по-своему, незаметно подбодрить и порадовать Сапфо: то присылала ей тарелку с изысканными пирожными или восточными сладостями, постоянно украшала комнату печальной гостьи свежими цветами, или внезапно начинала петь в соседней комнате, аккомпанируя себе на лире – не слишком громко, но достаточно для того, чтобы быть услышанной через приоткрытую дверь.
Именно она, Анактория, нашла в Сиракузах самого лучшего, высокооплачиваемого доктора, который то и дело наведывался в дом и следил за состоянием Сапфо, – ведь под складками туники у невеселой гостьи-молчуньи вскоре округлился непомерно большой живот, а потом – отыскала и сноровистых повитух, очень ловко и искусно принявших роды.
Сапфо даже и во время родов не кричала, словно подтверждая диагноз, поставленный Триллом, а лишь только молчаливо вздыхала.
Вздохнула Сапфо и тогда, когда узнала, что родилась девочка – что поделать, Керикл даже и после смерти не дождался своего единственного мужчину-наследника, который гордился бы славой воинственного отца.
Но это был невольный вздох облегчения – слава богу, что теперь некому будет мстить обидчикам Керикла и в свою очередь складывать голову в борьбе за власть.
Пусть лучше дочка учится вышивать крестиком и баюкает глиняных кукол – воображаемых героев.
Сапфо решила назвать новорожденную девочку Клеидой в честь своей матери, оставшейся на Лесбосе.
Она даже хотела было сначала назвать свою дочку Анакторией, чтобы хоть как-то отблагодарить добрую, бездетную хозяйку дома за многочисленные хлопоты, которые она невольно доставила безропотной женщине, но потом передумала.
На десятый день после рождения, когда каждый младенец должен был получить законное имя, Сапфо нарекла девочку все-таки Клеидой, а не Анакторией, как звали милую покровительницу.
Впрочем, теперь Сапфо даже странно было вспоминать, что было время, когда ее отношение к Анакте не выходило за рамки обычной благодарности.
Да, пожалуй, так бы навсегда и осталось, не случись следом еще одного события, мгновенно все снова перевернувшего в доме с ног на голову.
Почему-то в тот момент, когда во внутренний двор внесли на связанных простынях красного, как рак, но недвижимого Трилла, Сапфо подумала, что этот странный человек все-таки надумал устроить своей жене обещанную чудовищную проверку – но не более того.
Но оказалось, что с Триллом, прямо в бане, случился непонятный приступ, возможно, вызванный тем, что перед этим старик выпил слишком много неразбавленного вина, а потом еще все время просил подогревать угли, потому что его начал бить внезапный озноб.
Увы, это оказалось вовсе не шуткой – Трилл действительно скончался и отправился к своим предкам, даже не простившись ни со своей женой, ни с друзьями-собутыльниками, ни с родственниками.
Дом, который только что был перебудоражен рождением дочки Сапфо и младенческими криками, теперь погрузился в траур, и в нем зазвучали погребальные причитания.
Сапфо временами казалось, что она просто видит один и тот же бесконечный сон, который никак не хочет заканчиваться, – в этот сон она погрузилась еще на корабле, убаюканная синими морскими волнами, и он теперь продолжается наяву.
Почему-то ей порой даже приходило в голову, что именно она, Сапфо, а точнее, этот ее сон на самом деле были чуть ли не главной причиной гибели Трилла и, соответственно, несчастья Анактории – они просто сами не заметили, как оказались охваченными невидимым круговоротом смутной, чужой тоски.
Но иногда вдруг к Сапфо являлась и вовсе страшная мысль: может быть, она самолично ускорила также и гибель своего Керикла?
Тогда, когда на корабле молилась по очереди всем богам? Когда просила, чтобы они научили ее, как ощутить в стиснутой вечными тревогами груди такие же свободу и покой, которыми обладают ветер, море и даже парус, казалось бы, накрепко привязанный к кораблю?
Когда спрашивала, почему такая свобода не была доступна ни одной из самых достойнейших женщин, которых знала Сапфо?
Вдруг боги по-своему, страшными загадками, начали отвечать на посланные в звездное небо вопросы?
Сапфо во всех подробностях помнила то утро, которое она вскоре стала считать своим вторым днем рождения.
В окно светило солнце, кормилица только что принесла показать Сапфо розовощекую малышку – малютка Клеида уже научилась смешно морщить носик, с улицы были слышны звуки несмазанных тележек, на которых рыбаки везли с побережья на городской базар свежепойманную, еще живую рыбу.
Двое озорных мальчишек – наверное, это были дети кого-то из слуг – кидались друг в друга апельсинами, выкрикивая какие-то гортанные дразнилки, и, кажется, кто-то из них случайно угодил в одну из лошадей, она рванулась в сторону и опрокинула тележку с морским грузом.
Вслушиваясь в сразу же поднявшийся за окном гомон, крики, смех, когда множество людей принялись вылавливать теперь уже руками, прямо с земли, трепыхающихся рыбин, Сапфо впервые за долгое время вдруг почувствовала, что к ней тоже начала возвращаться, казалось бы, навсегда утраченная радость жизни.
И тут же услышала, как в соседней комнате Анактория очень тихо заиграла на флейте, выдувая губами такую печальную мелодию, какой Сапфо не слышала никогда в жизни.
И тогда Сапфо не выдержала, не смогла справиться со своим чувством жалости: забежав в комнату Анактории, она начала просить у этой женщины прощения в том, что невольно навлекла своим появлением несчастия на ее дом.
«О, нет, Сапфо, ты вовсе ни в чем не виновата, – подняла Анактория на Сапфо свои темные, загадочные глаза, и вдруг добавила спокойно. – Мало того, мне кажется, что Тихэ наконец-то повернула ко мне свое лицо, освободив от Трилла, но почему-то никак не решится осчастливить меня окончательно».
И Анакта поведала Сапфо, что главная ее мечта – как можно скорее вернуться на Лесбос, но пока она не может покинуть Сиракузы, потому что вот-вот сюда должны явиться многочисленные племянники Трилла и другие желающие принять участие в дележке его немаленького наследства.
И до этого времени Анактория вынуждена оставаться в городе и петь печальные песни, а не плыть под легкими парусами в сторону Лесбоса, как бы ей того хотелось, – вот, собственно, и вся причина ее грусти.
«Ах, Сапфо, когда-нибудь и ты поймешь, что нам, женщинам, ничего не принадлежит на этом свете, кроме нашей души, – сказала тогда Анактория. – И потому мы должны изо всех сил любить и копить только те сокровища, которые находятся внутри нас самих, но, к сожалению, очень немногие женщины умеют это делать».
«Не грусти, Сапфо, – вот что также сказала Анактория, с улыбкой вслушиваясь в веселую возню рыбаков и детей за окнами. – Пусть мы, женщины, словно неразумные дети, не внесены в их имущественные списки и даже не считаемся законными гражданами той или иной страны, но зато нам принадлежит весь мир, и даже такой, о котором не знает ни один мужчина, даже если он сумел завоевать множество чужеземных стран».
«Вот что я скажу тебе, печальная Сапфо, – продолжала Анактория. – Всякий человек за свою жизнь умирает множество раз. Ведь разлука – это настоящая, маленькая смерть. Ты мучаешься оттого, что не понимаешь, что с тобой происходит. А на самом деле ты умерла в тот момент, когда рассталась со своим супругом, но есть такие встречи, которые способны заново возрождать к жизни…»
Признаться, Сапфо поначалу неприятно передернуло, когда Анакта назвала смерть своего престарелого мужа «улыбкой Тихэ», но после того, как та вдруг начала очень спокойно, но с обнажающей откровенностью рассказывать, сколько унизительных, гадких моментов заставил пережить ее богатый самодур, Сапфо перестала осуждать эту женщину.
Наоборот, удивилась, откуда она взяла столько сил, чтобы с достоинством, в полном одиночестве переносить оскорбления от своего богатого пьяницы и откровенного дурака.
«Во-первых, я научилась просто не замечать присутствия этого человека, как умеем мы не обращать внимания на мышь, скребущуюся за стеной. А во-вторых, Сапфо, я никогда не бываю одна» – возразила на это Анактория.
«Ты хочешь сказать, что постоянно чувствуешь покровительство богов?» – осторожно спросила Сапфо, боясь ненароком обидеть женщину лишним напоминанием о ее бездетности, кажется, связанную с каким-то неизвестным заболеванием.
«Нет, я не бываю одна, потому что со мной всегда – есть я», – ответила Анактория, загадочно улыбаясь, и Сапфо поразилась простой мудрости этих слов.
«Но… неужели тебе, Анактория, никогда не хотелось по-настоящему, страстно любить и быть любимой? И чтобы с этим человеком было все, все общее?» – выдохнула Сапфо, выдавая буквально помимо воли свое самое заветное желание.
«О, Сапфо, когда-нибудь ты поймешь, что есть женщины, обреченные на мужество, – сказала Анакта. – Когда мы идем к мужчинам с пустыми, просящими руками, они готовы нас принять и выказывать свое покровительство, но щедрых даров нашего сердца пугаются. Только боги не боятся даров, Сапфо, или те, кто близок к богам, готовы принимать жар чужих сердец – и чаще всего почему-то это бывают именно женщины. Я, Сапфо, встречала в своей жизни слишком много сильных мужчин, которые на самом деле оказывались… привидениями…»
И тогда Сапфо вдруг тоже не выдержала и начала сбивчиво, многословно, будто желая разом выговориться за все время молчания, рассказывать Анактории о собственных невнятных обидах на Керикла, о своих странных мыслях, непонятных настроениях.
И чем дольше Сапфо говорила, тем сильнее удивлялась: зачем же она раньше прятала свои сомнения так далеко от людей, словно они были самой главной ее драгоценностью?
Ведь Анакта теперь не просто ее внимательно слушала – она понимала буквально каждое слово, как никто и никогда раньше, чутко улавливая даже то, что пока еще оставалось невысказанным.
Наверное, родная мать, ласкавшая Сапфо в детстве, вряд ли казалась ей тогда ближе и роднее, чем эта женщина, похожая одновременно и на мать, и на сестру, и на подругу по несчастью, и даже на малютку дочь – пусть не именем, но чем-то еще более сокровенным, чем обычное сочетание звуков.
Они проговорили тогда весь день и все никак не могли расстаться, словно боясь, что счастье может исчезнуть как сновидение.
Две женщины – темноволосая и сереброволосая – вместе пообедали, вместе вышли погулять на главную площадь, вместе поразвлекались пением и вышиванием и, казалось, вовсе не могли друг с другом расстаться больше чем на полчаса.
Да, к счастью, этого и не требовалось – ведь они жили в одном доме, и теперь обе были полностью предоставлены самим себе.
Сапфо почти физически чувствовала, что в то время, когда рядом была Анактория, самые яркие дни становились словно еще светлее, и ей даже гораздо легче дышалось, чем это было до недавнего времени.
В конце концов, они вместе несколько раз даже незаметно засыпали на общем ложе, где до этого, отдыхая, вели бесконечные тихие разговоры, казавшиеся самыми интересными и важными на свете: кто какие видит сны, кто что любит есть, в какие игрушки нравилось играть в детстве, и так далее… – пока внезапно чье-нибудь последнее словечко не похищалось Гипносом и не уносилось куда-то на крыльях сна.
Но ничем не хуже было и просто молчать, представляя, о чем может думать сейчас каждая, и Сапфо временами ощущала, как в ней начинали течь мысли Анактории, более неспешные, красивые и мудрые, чем ее собственные.
Для Сапфо стало настоящим открытием, что все те наблюдения, радости, шутки, которые Керикл наверняка посчитал бы лишь неинтересной женской болтовней, – и даже не стал бы слушать, для кого-то – и этим человеком стала Анактория! – оказывается, имели такую огромную ценность.
Что и говорить, Анактория, действительно, в какой-то степени стала для Сапфо второй матерью – она незаметно сделала из нее нового человека.
А точнее – женщину в самом полном и лучшем смысле этого слова.
Но все же Сапфо до сих пор жалела, что тогда, в то поистине драгоценное и короткое время счастья вблизи Анактории, она не смела лишний раз дотронуться даже до руки своей взрослой подруги, не говоря уж о том, чтобы хоть раз зарыться лицом в прохладную, голубоватую копну ее седых волос, или крепко обнять ее за плечи – такие молодые, гладкие и… притягательные.
Но Сапфо сдерживала подобные желания, потому что приписывала их своему слишком уж затянувшемуся воздержанию от близости с мужчинами.
Ведь это казалось ей тогда совершенно невозможным – испытывать с женщиной в постели такое же наслаждение, какое получают любящие супруги, и даже чем-то вовсе постыдным.
Сапфо решила про себя, что ей пришла пора завести любовника – иначе вовсе можно сойти с ума от воображаемых поцелуев и ласк… но почему-то исходящих от губ и рук прекрасной Анакты.
Теперь Сапфо даже смешно было вспоминать о пережитых муках – какой же все-таки она тогда была маленькой и несмышленой!
Сапфо понятия не имела, испытывала ли подобные чувства Анактория – по крайней мере, старшая подруга никогда не высказывала вслух ничего подобного.
Но сама Сапфо тогда впервые для себя открыла, что, оказывается, женщину можно любить с такой же пылкой страстью, как и мужчину.
И даже еще сильнее – потому что в любви к мужчине спрятано признание к чужому, совсем другому миру, а в любви к женщине – узнавание себя и удивление собственному, никогда не раскрываемому до конца, близкому чуду.
Но вот только почему, почему Сапфо так и не осмелилась сказать Анактории о своих чувствах хотя бы слово?
Впрочем, по-своему она все же пыталась.
Ведь как-никак Анакта была первой, кому Сапфо решила показать свои горько-сладкие любовные стихи и напеть песенки – сколько Сапфо себя помнила, они неотвязно крутились в ее голове.
И Анактория, без преувеличения, с самых первых же услышанных строчек, пришла от них в настоящий восторг!
Мало того, она заставила Сапфо спеть эти песни перед другими своими знакомыми женщинами, а потом и еще перед каким-то большим собранием гостей, у которых – Сапфо ясно это видела! – от ее стихов вдруг начинали взволнованно, как-то необычно блестеть глаза.
Все это было так удивительно!
Ведь Сапфо пела вовсе не о героях и не о богах.
Она даже не вкладывала в свои строки воспитательный, назидательный смысл, как это делали настоящие, получившие широкую признательность поэты – да и какой мудрости она могла научить?
Сочиняя свои незатейливые стихотворения, Сапфо просто мысленно (а теперь – вслух, перед всеми!) проговаривала всякие признания, обиды, наблюдения, радости, которыми она не имела возможности поделиться когда-то с Кериклом и с кем-либо из других людей, только лишь потому, что они никогда никому не были по-настоящему интересны.
Возможно, бывшего супруга заинтересовали бы песни, если бы они отражали перипетии борьбы за власть, воспевали бы его подвиги или, на крайний случай, хотя бы восхваляли оружие – мужчины, в том числе и Керикл, когда-то пели за столом такие сколии, – но ничего подобного в стихотворениях Сапфо и близко не было.
А также ни слова – про богатство, роскошь, так ценимую Кериклом, постоянно ставившим в пример персов, мол, умеющих и воевать, и не только привозить домой богатую добычу, но также и обустраивать свою жизнь так, что она казалась великолепнее, чем узоры на павлиньих хвостах.
Иногда Сапфо даже приходило в голову, что постоянно меняющиеся, и причем всегда самые дорогие, наложницы появлялись у Керикла вовсе не потому, что Сапфо не могла удовлетворить нечеловеческой любвеобильности своего мужа, а как возможность еще более утвердиться в славе одного из самых могущественных и богатых людей на Лесбосе, который может позволить себе любую роскошь и удовольствие.
А тут – какие-то смешные, женские песенки!
Но там, вдалеке от родного дома, в благословенных Сиракузах, первые стихи Сапфо о самых простых, до боли знакомых, пережитых чувствах были восприняты первыми слушательницами как самое настоящее откровение.
Мало того: и слушателями тоже!
Послушать песни Сапфо, многие из которых быстро разучили другие женщины и уже исполняли их на всевозможных праздниках то хором, то поодиночке, приходили и весьма именитые поэты-мужчины, которые потом, как правило, с несколько озадаченным видом, но явно выражали одобрение, а также и политики, и ученые мужи, оторвавшись ради этого от своих пергаментов.
Причем желающих познакомиться с творчеством Сапфо и самой молодой поэтессой почему-то становилось все больше и больше. Сначала это были в основном земляки, которых здесь объединяла тоска по родному Лесбосу, потом – и вовсе незнакомые лица, какие-то чужестранцы, и Сапфо даже не слышала названий мест, откуда многие из них были родом.
Всякий раз Сапфо казалось, что ей удается словно что-то отворять в самых закрытых, суровых сердцах, которые люди привыкли на всякий случай держать закрытыми на сто замков, и слушатели благодарят ее именно за это громкими возгласами и еле слышными вздохами облегчения, сами до конца не осознавая, почему, казалось бы, вовсе нехитрые строчки дарят им такую неожиданную, искреннюю радость.
Иногда Сапфо даже пыталась представить: а что, если бы она когда-то все же осмелилась прочитать свои сочинения Кериклу?
Может быть, он тогда все-таки понял бы ее гораздо лучше и крепко, по-настоящему прижал к своему сердцу?
Но, вспоминая гордый, красивый профиль Керикла, Сапфо всякий раз понимала, что она вряд ли и сейчас осмелилась бы на подобную откровенность, даже если бы Керикл вдруг каким-то чудом вернулся из страны мертвых.
Слишком уж много в отношении к мужу у Сапфо было рабского почтения, а точнее, какого-то тайного страха – он буквально сковывал стремящиеся к пению уста.
Но зато теплый, как луч весеннего солнца, взгляд Анактории сумел в два счета растопить, казалось бы, вековечный лед, за последние годы незаметно наморозившийся в груди у Сапфо невидимой, прозрачной глыбой.
И тогда вдруг сразу же – хлынуло, зажурчало, запело…
Примерно в это же время пришло разрешение всем изгнанникам вернуться на Лесбос, которое для обеих женщин стало поистине счастливой вестью.
Ведь теперь они могли тем более никогда не разлучаться и вместе вернуться в родные края!
Но Анактории необходимо было еще на какое-то время задержаться в Сиракузах, и она убедила Сапфо отправиться в путь первой, вместе с группой соотечественников, обещая тут же приехать следом.
И как только Сапфо могла на это согласиться?
Сапфо и теперь никак не могла понять: что же заставило и ее подчиниться общему ликующему порыву, охватившему многих ее земляков при мысли о скором возвращении на Лесбос?
Но все ее старые знакомые вдруг действительно словно на какое-то время помутились рассудком: сразу же засобирались в путь, начали говорить только об этом, предаваться воспоминаниям об оставленных на Лесбосе домах и друзьях, считать дни до отплытия…
Даже те, кто, казалось бы, отлично, на редкость удобно устроились в Сиракузах и даже начали потихоньку вливаться в здешнюю деловую, торговую жизнь, но вот – на тебе!
Как только появилась первая же возможность отправиться на родину, не нашлось буквально ни одного из прежних спутников Сапфо, кто пожелал бы остаться.
Вот и любовник Сапфо, которого она все же выбрала среди своих слушателей из числа соотечественников, тоже вовсю засобирался в дорогу.
Сапфо решила, что с ним будет более спокойно, безопасно отправляться в дальний путь с малышкой на руках – ведь мужчина искренно обещал Сапфо свое покровительство.
Теперь Сапфо не могла даже точно вспомнить: как же звали этого молодого, неплохого человека?
Диофрит? Диофит?
Она помнила только, что у него была странная привычка кусать ее ухо во время любовных игр и в то короткое время, пока продолжалась их связь, уши Сапфо горели, словно от стыда.
Они и сейчас начинали гореть, когда Сапфо вспоминала, что те драгоценные минуты и часы, которые можно было бы провести с Анакторией, она тратила зачем-то на этого необузданного ухогрыза, полагая, что именно он способен удовлетворить дикий, не на шутку разыгравшийся любовный голод ее тела.
Но ведь и саму Сапфо тоже в те дни охватило поистине счастливое нетерпение: ей так вдруг захотелось как можно скорее увидеть родной дом, показать дочку матери и отцу – замкнутому человеку с длинным именем Скамандроним, которые никогда еще не видели маленькой Клеиды, побродить по любимым рощам и холмам, и даже просто выпить пригоршню воды из лесбосского родника, которая на чужбине казалась слаще и желаннее самого изысканного заморского вина.
Но самое главное, что Сапфо почувствовала: именно теперь, вернувшись на Лесбос, ей удастся написать самые лучшие свои стихотворения, и даже, может быть, – чем Аполлон не шутит! – сделаться по-настоящему прославленной поэтессой.
Она ощутила в себе небывалую силу, которая должна была еще многократно увеличиться сразу же, как только ноги почувствуют под собой родную землю…
Эти предчувствия Сапфо не обманули – так и получилось.
Вот только с тех пор Сапфо никогда больше не видела свою Анакторию.
«Никогда…» – слово страшное, как камень, брошенный в воду.
Сапфо с тех пор даже и не слышала о своей дорогой подруге что-либо определенное, хотя с настойчивостью умалишенной постоянно пыталась раздобыть хоть какие-то сведения о ее судьбе.
Куда она исчезла? Что с Анакторией могло приключиться?
Какой-то заезжий чудак, бывший сосед по сиракузскому дому, пытался уверить Сапфо, что сразу же после ее отъезда Анакта вдруг зачем-то срочно отправилась в Византию.
Но зачем подруге вдруг понадобилась Византия, если она никогда раньше туда не собиралась и ничего не говорила Сапфо о своих намерениях?
Кто-то уверял, что Анактория все же тайно появлялась в Митилене, столице Лесбоса, но потом так же незаметно исчезла из города в неизвестном направлении.
Эта версия была еще более маловероятной: Анактория не могла бы, появись она на родине, тут же не разыскать свою Сапфо – нет, такое было совершенно исключено.
Злые языки вообще болтали, что тот корабль, на котором Анактория вскоре вслед за земляками отправилась к берегам Лесбоса, потерпел кораблекрушение и во время сильной бури никому не удалось спастись.
«Глупость! Чушь!» – упрямо качала головой Сапфо.
Тогда боги непременно известили бы ее об этом хотя бы во сне!
Звучали еще и другие всевозможные нелепости: про то, что Анактория добровольно лишила себя жизни, не в силах бороться со своей тайной женской болезнью, или что она, наоборот, отправилась к дельфийским жрецам, надеясь на излечение, и даже что снова вышла замуж за какого-то торговца оливковым маслом и уехала с ним на край света.
Сапфо много раз с горечью вспоминала слова Анактории о том, что женщины во многих странах почему-то приравнены к листьям на деревьях – они не внесены в гражданские списки, поэтому их также никто не пытается пересчитать, или хотя бы вслушаться в их лепет, тогда как мужчины считаются настоящими людьми.
Ну а уж если листок с ветки сорвется и его понесет куда-то ветром…
Но что бы вокруг ни говорили, Сапфо жила постоянной надеждой, что когда-нибудь она снова увидит Анакторию.
И представляла, что придет такой день, когда ее неожиданно окликнет голос подруги, которую Сапфо считала не только первой, настоящей любовью в жизни, но и своей десятой музой, сумевшей каким-то чудом вызволить из ее стиснутой гортани песню.
Может быть, потому-то Сапфо и столь откровенно радовалась своей известности – ведь это еще больше укрепляло надежду, что молва о славе знаменитой поэтессы из Лесбоса может когда-нибудь все же достичь и ушей Анактории, где бы та теперь ни находилась, и подруга явится, чтобы послушать, как сильно за время разлуки окреп голос Сапфо.
Возможно, Анактория за это время совсем состарилась и даже сделалась вовсе неузнаваемой – но Сапфо все равно крепко обнимет свою подругу и узнает хотя бы только по созвучному биению их сердец.
Так когда-то герой Пелей прижал к своей груди Фетиду, будущую мать Ахилла, которая, желая его обмануть, превращалась то в горящий куст, то в серебряный поток, то в водопад, то в змею, а то и в чудовище…
Но он все равно не разжал своих рук, и тогда она, устав притворяться, показала ему, наконец-то, свой истинный, божественный образ.
Наверное, Пелей так же сильно любил нереиду, как и Сапфо Анакторию, одно текучее имя которой мгновенно вызывает в душе волну нежности.
Когда-нибудь, закрывшись от всех, Сапфо много дней подряд будет петь только для Анактории, для нее одной.
– Псаффа! – окликнул чей-то голос буквально над ухом, так что Сапфо невольно вздрогнула.
Ну, конечно, так ее называла только Сандра, незаметно пробравшаяся в комнату.
– Псаффа, ты заболела? – с тревогой заглянула Сандра в лицо Сапфо. – У тебя сильно болит голова?
– Ничего, не беспокойся напрасно, – слабо улыбнулась подруге Сапфо. – Но… как ты узнала? Наверное, тебя уже навестила моя Диодора, у которой слова не держатся, словно огонь за зубами…
– Нет, Псаффа, я сама, – вздохнула Сандра. – Потому что у меня тоже сейчас вдруг резко заболела голова. Вот здесь. И я сразу узнала про твой внезапный недуг.
И Сандра осторожно дотронулась рукой как раз до того места на затылке Сапфо, где действительно коварно затаилась пульсирующая боль.
Нет, все же сколько раз ни слышала Сапфо от Сандры подобные признания, она никогда не могла к ним привыкнуть.
Разумеется, она знала, что между любящими людьми образуется крепкая, невидимая связь, – понимала это умом.
Но когда такая связь проявлялась в подобных, конкретных мелочах, то это почему-то рождало в душе у Сапфо неясную тревогу.
Мало того, Сандра нередко говорила, что не переживет смерти Сапфо, а лучше в тот же самый день тоже лишит себя жизни, и вслух кляла судьбу за то, что в ее жилах текла кровь какой-то древней сивиллы, поневоле обрекая на долгожительство.
Конечно, Сандра не была настоящей сивиллой, которые, как говорят знатоки, живут не менее тысячи лет.
Но про то, что ей придется пережить всех людей, сейчас ее окружающих, Сандра всегда знала точно.
И могла спокойно смириться с потерей каждого, но только не Сапфо.
Именно поэтому, будучи от природы искуснейшим доктором, который может на глаз определить то или иное заболевание и излечивать людей от самых различных недугов, Сандра считала чуть ли не главным делом своей жизни – неусыпно следить за здоровьем Сапфо, лично бороться со всеми ее хворями и позаботиться о ее долголетии.
Вот и сейчас, едва дотронувшись до головы Сапфо и убедившись, что здесь действительно находится больное место, Сандра молча взяла руку Сапфо в свою и принялась нежно массировать по очереди каждый палец, приговаривая шепотом какие-то непонятные слова.
Сандра как-то говорила, что все части тела на самом деле связаны между собой невидимой паутиной, и для того, чтобы прогнать злобного паука, притаившегося в голове или, допустим, в животе, порой бывает достаточно просто подергать за палец или помассировать пятку.
Вот и теперь Сапфо не сопротивлялась сильным рукам Сандры, даже если ей становилось немножко больно, когда та ногтями сдавливала мизинцы – но зато при этом она чувствована, что боль в голове, только что казавшаяся нестерпимой, понемногу отступала, начинала рассеиваться, как черное, мглистое облако.
Потом Сандра стала ощупывать и слегка простукивать каждый позвонок на спине Сапфо – она называла позвоночник «человеческим тростником», на котором прочно, или не очень, у всех людей держится здоровье.
Движения Сандры сделались отрывисты и точны, и теперь она больше ничего не говорила вслух, словно желая вложить всю силу непроизнесенных слов в свои пальцы.
Сапфо по опыту знала, что в такие минуты ей тоже лучше всего молчать, и уж тем более не сопротивляться – на непоседливого, чересчур суетливого больного Сандра ведь могла и разгневаться.
Но когда Сандра уже перешла к ногам и принялась нажимать на какие-то только ей приметные точки, якобы расположенные на стопах и пятках, а потом натирать пятки незнакомой ароматной мазью, Сапфо не выдержала и тихо засмеялась, тем более что она уже почувствовала себя абсолютно здоровой.
– Потерпи, осталось совсем немного, Псаффа, – слегка нахмурила Сандра свои черные, крылатые брови, но потом не выдержала и тоже нежно улыбнулась.
Руки Сандры теперь казались такими ласковыми и целебными, что Сапфо от блаженства могла бы сейчас запросто замурлыкать, как кошка.
Сандра закончила свою работу и, желая передохнуть, прилегла рядом с Сапфо.
Всякий раз врачевание отнимало у нее очень много сил, и было похоже, что сейчас Сандра наконец-то сможет уснуть и освободиться от своей изнурительной бессонницы.
Но нет – Сапфо это только показалось!
Когда две женщины отдыхают вместе, сон стоит за дверью, но почему-то не торопится приблизиться к ложу.
Нога Сандры в затаенной тишине скользнула по Сапфо, подарив короткую, нежную ласку.
Еще ни один поцелуй Сандры не достиг губ Сапфо, ни рука – сжатых колен, но обе они уже знали, что сейчас это произойдет, потому что уже не может не произойти.
Черные локоны Сандры свободно колыхались над головой Сапфо, словно прекрасные птицы, готовые унести двух женщин в неведомую даль, где цветут медовые ласки женщин.






![Книга Мелика [Вокальная лирика] автора Сапфо](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-melika-vokalnaya-lirika-191797.jpg)