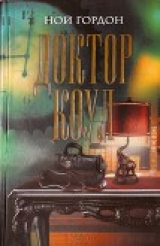
Текст книги "Доктор Коул"
Автор книги: Ной Гордон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Она лежала на кровати. Дэвид опустился на колени возле нее.
– Я тоже ее любила, – прошептала она.
– Я знаю.
Они плакали вместе, как им и следовало поступить годом ранее. Р. Дж. подвинулась, позволив ему лечь рядом. Первые поцелуи были мягкими и смешанными со слезами.
– Я постоянно думал о тебе. Каждый день, каждую секунду.
– Мне не нравится эта борода, – сказала она.
Утром Р. Дж. не покидало странное ощущение, что она провела ночь с посторонним человеком. Дело было даже не в бороде и недостающем хвосте.
К тому времени как она приготовила тосты и поджарила яичницу, к ней присоединился Дэвид.
– Вкусно. Что это?
– Я смешала апельсиновый и клюквенный сок.
– Ты никогда так раньше не делала.
– Ну, теперь делаю. Все изменилось, Дэвид. Тебе не приходило в голову, что я могла встретить другого мужчину?
– Встретила?
– Ты больше не имеешь права знать это. – Ее гнев нашел путь наружу. – Почему ты связался с Джо Фэллоном, но не со мной? Почему ты ни разу не позвонил? Почему ты так долго ждал, прежде чем написать мне? Почему ты не сообщил, что с тобой все в порядке?
– Со мной не все было в порядке, – ответил он.
Когда он начал говорить, они забыли о еде.
После смерти Сары воздух вокруг меня приобрел странный оттенок словно весь мир стал светло-желтым. Часть меня продолжала функционировать как обычно. Я позвонил в похоронное бюро в Рослин, что на Лонг-Айленде, и договорился о похоронах на следующий день. Я осторожно, очень осторожно ехал за катафалком до самого Нью-Йорка.
Я остановился в мотеле. Утром прошла простая церемония. В нашем бывшем храме был новый раввин. Он не знал Сару, и я попросил его быть очень кратким. Сотрудники похоронного бюро несли гроб. Распорядитель похорон поместил объявление в газете о церемонии, но пришло всего несколько человек. В Западном Вавилоне на кладбище Бет Мозес две девочки, которые дружили с Сарой в школе, плакали, обнявшись. Рядом стояло человек пять, мужчины и женщины с мрачными лицами, которые знали нашу семью, когда мы жили в Рослине. Я отпустил землекопов и засыпал яму сам. Сначала я бросил несколько лопат камней, слушая, как они глухо стучат по крышке гроба, а потом пошла земля. Над могилой я насыпал небольшой холм.
Полная женщина, в которой я с трудом узнал лучшую подругу Натали из какой-то прошлой жизни, всхлипнула и прижала меня к себе, а ее муж умолял меня поехать к ним домой. Я даже не помню, что ответил им.
Я ушел сразу же, как только закончилась церемония. Проехав пару километров, я свернул на пустынную стоянку возле церкви, где прождал больше часа. Когда я вернулся на кладбище, люди уже разошлись.
Две могилы располагались довольно близко. Я сел между ними, положив на них руки. Никто меня не потревожил.
Я чувствовал лишь боль утраты и одиночество. Когда солнце начало клониться к западу, я сел в машину и уехал.
Я не знал, куда еду. Казалось, машина едет по собственной воле по Уэллвуд-авеню, пересекая перекрестки и мосты.
В Нью-Джерси.
В Ньюарке я остановился у «Старой славы», бара для рабочих, который находится как раз возле шоссе. Быстро выпив три стопки, я почувствовал на себе косые взгляды и внезапно наступившую тишину. Если бы на мне был рабочий комбинезон или джинсы, то все было бы в порядке, но на мне был испачканный землей дорогой синий костюм от Харта Шаффнера и Маркса. К тому же я носил хвост. Я расплатился и вышел, направившись к ближайшему супермаркету, где купил три бутылки джина «Бифитер», с которыми поехал в мотель.
Я слышал десятки рассказов алкоголиков о вкусе выпивки. Некоторые описывают его как «жидкие звезды», «нежный нектар», «пищу богов». Мне никогда не нравился вкус алкогольных напитков, сделанных на основе зернового спирта, я ненавидел свое пристрастие к джину и водке. В мотеле я искал забвения, накачиваясь спиртным, пока не засыпал. Когда я просыпался, я лежал несколько минут, не понимая, где я нахожусь и почему. Потом накатывали воспоминания и ужасная боль, и я снова тянулся за бутылкой.
Это была старая, проверенная временем тактика – в былые времена я тоже пил в запертом помещении, где был в безопасности. Три бутылки джина помогли мне не выбираться из забытья четыре дня. Потом я почти сутки страдал от похмелья. Съев скудный завтрак, я выписался из мотеля и поехал дальше.
Подобный образ жизни я вел прежде, потому очень быстро и легко снова к нему адаптировался. Я никогда не садился за руль пьяным, понимая, что от катастрофы меня отделяют лишь машина, бумажник с кредитными картами и чековая книжка.
Я ехал медленно, практически на автопилоте. Мой разум замер, пытаясь оставить реальность позади. Но рано или поздно наступал момент, когда реальность вторгалась в машину и ехала вместе со мной. Когда боль становилась невыносимой, я останавливался, покупал пару бутылок и заворачивал в ближайший мотель.
Я напивался в Харрисбурге, штат Пенсильвания. Я напивался на окраинах Цинциннати, штат Огайо, и в местах, которые мне совершенно не знакомы. Я напивался и трезвел снова и снова.
Одним теплым утром в начале осени, очень рано, я обнаружил, что еду по проселочной дороге. У меня было сильное похмелье. Передо мной открывался милый холмистый пейзаж, хотя холмы были ниже, чем в Вудфилде, и там было больше обработанных полей, чем леса. Я объехал черную телегу с впряженной в нее лошадью. На телеге сидел бородатый мужчина в соломенной шляпе, белой рубашке и черных штанах с подтяжками.
Эмиш.
Я проехал ферму и заметил женщину в длинном платье и маленькой шапочке, помогавшую двум мальчикам сгружать с телеги тыквы. По другую сторону пшеничного поля еще один мужчина правил пятеркой лошадей.
Меня мучила тошнота, болела голова.
Медленно продвигаясь по сельской местности, я повсюду видел белые или некрашеные дома, милые амбары, водонапорные башни с ветряными мельницами, ухоженные поля. Я думал, что снова попал в Пенсильванию, куда-то в район Ланкастера, однако очень скоро я подъехал к какому-то городку и узнал, что покидаю пределы Эпплкрик, штат Огайо, и въезжаю в городок Кидрон. Во рту у меня пересохло. Всего в километре от меня находились магазины, мотель, холодная кока-кола, еда. Но я этого не знал.
Я мог бы легко проехать мимо того дома, но подъехал к пустой телеге с оглоблями, лежащими на асфальте. Оборванные постромки говорили о том, что лошадь убежала.
Я проехал мимо мужчины, который бежал за кобылой, не желавшей возвращаться к телеге.
Недолго думая, я обогнал лошадь и загородил ей дорогу машиной. Выпрыгнув наружу, я стал перед машиной и замахал руками. С одной стороны дороги был забор, а с другой – пшеничное поле. Когда кобыла остановилась, я подошел к ней, заговорил ласковым голосом и схватил за уздечку.
Громко пыхтя, подбежал мужчина.
– Данке. Зер данке. У вас есть опыт обращения с лошадьми, не так ли?
– У меня тоже когда-то была лошадь.
Мир перед моими глазами поплыл, и я оперся о капот машины.
– Вы больны? Вам помощь нужна?
– Нет, я в порядке. Все в порядке. – Тошнота и головокружение проходили. Мне нужно было лишь убраться из-под прямых солнечных лучей. В машине у меня был тайленол. – Вы знаете, где здесь можно найти воду?
Мужчина кивнул и указал на ближайший дом.
– Вот они дадут вам воды. Постучите к ним.
Фермерский дом окружало пшеничное поле, но здесь жили не эмиши. Я заметил на заднем дворе несколько автомобилей. Постучав в дверь, я прочел небольшую табличку «Иешива Исроел. Дом изучения Израиля». Из открытых окон до меня донеслись голоса, певшие на иврите, определенно один из псалмов.
– О дом Израилев, слава Господу, о дом Аарона, слава Господу.
Дверь открыл бородатый мужчина, которого невозможно было отличить от эмиша. Он был одет в темные штаны и белую рубашку, но на голове его красовалась кипа, левый рукав был закатан, а филактерии [11] обвивали его лоб и руку. За его спиной я увидел сидящих за столом мужчин.
Он внимательно посмотрел на меня.
– Заходи, заходи. Ты еврей?
– Да.
– Мы ждали тебя, – сказал он на идише.
Никто никому не представлялся. Это сделали позже.
– Ты десятый мужчина, – сказал мужчина с седой бородой.
Я понял, что совершил миньян [12] , позволив им закончить с псалмами и приступить к утренним молитвам. Несколько мужчин улыбнулись, еще один глухо пробормотал, что я пришел очень кстати. Я внутренне застонал. Даже в самом лучшем своем состоянии я не хотел бы попасть на службу ортодоксальных евреев.
Однако что я мог предпринять? На столе стояли стаканы с водой, и сперва мне дали напиться. Кто-то протянул филактерии.
– Нет, спасибо.
– Что? Не будь глупцом, ты должен надеть филактерии, они не кусаются, – прогрохотал мужчина.
Очень много лет прошло с тех пор, как я в последний раз надевал филактерии, потому им пришлось помочь мне надеть кожаные ремешки на лоб и руку и закрепить коробочку с текстами Торы на переносице. Между тем двое других мужчин нацепили мне филактерии и проговорили молитву. Никто меня не торопил. Позже я узнал, что они привыкли к нерелигиозным евреям, время от времени забредающим к ним в дом. Это была мицва, считалось благословением иметь возможность помочь и направить. Когда начались молитвы, я обнаружил, что серьезно забыл иврит, но остаточных знаний было вполне достаточно для службы. Когда-то в семинарии меня хвалили за хорошее знание этого языка. Ближе к концу службы трое мужчин стали для каддиша, молитв по недавно умершим, и я стал вместе с ними.
После молитвы мы позавтракали апельсинами, сваренными вкрутую яйцами, хлебом и крепким чаем. Я гадал, как бы сбежать от них, когда они прибрали стол после завтрака и принесли большие книги, писанные на иврите. Страницы их пожелтели и обтрепались, а уголки обложек помялись и вытерлись.
Через несколько минут они расселись на разнокалиберные стулья и принялись изучать книги. При этом они спорили, ругались между собой, слушая аргументы оппонента с повышенным вниманием. Темой их дискуссии было то, насколько человечество тяготеет к добру, а насколько – ко злу. Я был поражен, как редко они заглядывали в книги. Они цитировали наизусть целые абзацы устного закона, сформулированного почти две тысячи лет раввином Иудой. Они с легкостью обсуждали вавилонский и иерусалимский Талмуды, спорили о разных точках зрения в Путеводителе растерянных [13] , Зогаре [14] и прочих трудах. Я понял, что стал свидетелем ежедневной словесной баталии, которая ведется уже более шести тысяч лет по всему миру.
Присутствующие время от времени переходили на идиш, иврит, арамейский и просто разговорный английский. Большую часть их разговоров я понять не мог, но они немного успокаивались, когда размышляли над очередной цитатой. Голова еще болела, но я был поражен тем, что мне довелось услышать.
Я смог определить главного, пожилого еврея с роскошной седой бородой и гривой не менее седых волос. Небольшое брюшко под рубахой, пятна на галстуке, круглые стальные очки, агатово-синие глаза. Ребе сидел и отвечал на вопросы, которые время от времени ему задавали.
Каким-то образом время ускорилось. Я чувствовал себя как во сне. Когда после полудня они прервались на обед и пошли за едой, припасенной в коричневых бумажных пакетах, я очнулся от полузабытья и приготовился уходить, однако ребе попросил меня остаться.
– Пойдем со мной, пожалуйста. Поедим.
Я последовал за ним, мы прошли через две классных комнаты с рядами вытертых парт. На стенах, возле досок, висели домашние задания учеников. Мы стали подниматься по лестнице.
Это была аккуратная маленькая квартира. Крашеные полы блестели. На мебели лежали кружевные салфеточки. Царил полный порядок. Определенно, там не было маленьких детей.
– Здесь я живу с женой Дворой. Она работает в соседнем городке продавщицей. Я раввин Московиц.
– Дэвид Маркус.
Мы пожали друг другу руки.
В холодильнике обнаружился салат с тунцом и овощи. Ребе нарезал халу [15] и вставил пару ломтиков в тостер.
– Итак, – сказал он, благословив пищу, которую мы собирались есть, – чем ты занимаешься? Торгуешь?
Я заколебался. Если бы я сказал, что торгую недвижимостью, то мне пришлось бы поинтересоваться, что сейчас продается в округе.
– Я писатель.
– Серьезно? О чем пишешь?
Вот так бывает всегда, когда начинаешь плести паутину лжи.
– О сельском хозяйстве.
– Здесь много фермеров, – сказал ребе, и я кивнул.
Мы молча принялись за еду. Поев, я помог ему прибрать со стола.
– Ты любишь яблоки?
– Да.
Ребе достал из холодильника несколько плодов сорта Макинтош.
– Тебе есть где переночевать?
– Еще не нашел.
– Тогда живи с нами. Мы сдаем одну из комнат, недорого. А утром ты поможешь сделать миньян. Почему нет?
Яблоко оказалось кисло-сладким и одновременно терпким. На стене я заметил календарь с картинками, на одной из которых была Стена плача. Я очень устал постоянно быть за рулем. Ванная оказалась в отличном состоянии. Действительно, почему нет?
Раввин Московиц вставал ночью несколько раз, чтобы сходить в ванную, шаркая по полу шлепанцами. Я предположил, что у него увеличенная простата.
Двора, его жена, оказалась маленькой седовласой женщиной с розовым лицом и живыми глазами. Она напоминала мне веселую белку и каждое утро, хлопоча по кухне, пела любовные песни и колыбельные на идише сладким дрожащим голосом.
Я не разбирал свою одежду, понимая, что скоро покину этот дом. Каждое утро я застилал постель и прятал вещи назад в чемодан. Двора Московиц сказала мне, что я примерный жилец.
В пятницу на обед у нас была та же еда, что готовила мне мать, когда я был ребенком: фаршированная рыба, куриный суп с клецками, жареная курица с картофельным пудингом, фруктовый компот и чай. В пятницу днем Двора сделала чолнт на следующий день, когда было запрещено готовить. Она положила картофель, лук, чеснок, ячмень и бобы в глиняный горшок и залила водой. Добавив соль, перец и паприку, она поставила горшок на огонь. За несколько часов до наступления Шаббата она положила туда же мясо и поместила горшок в духовку, где он томился на медленном огне всю субботу.
Открыв горшок, мы увидели прекрасную, аппетитную корочку, от которой шел умопомрачительный аромат.
Раввин Московиц достал из шкафа бутылку хорошего виски и налил две стопки.
– Не для меня.
Ребе удивленно развел руками.
– Не будешь шнапс?
Я знал, что если выпью, то заберу из машины бутылку водки, а это не тот дом, где я мог позволить себе напиваться.
– Я алкоголик.
– Ах, вот как, – кивнул раввин и надул губы.
Я словно попал в мир ортодоксальных евреев, о которых мне много рассказывали родители, выросшие в подобном окружении. Но иногда ночью я просыпался, недавние воспоминания затопляли мое сознание, и мне хотелось снова напиться. Однажды ночью я встал, спустился на первый этаж и босиком вышел во двор, покрытый росой. Я открыл багажник машины, нашел бутылку водки и сделал пару больших, спасительных глотков, но не взял ее с собой, когда вернулся в комнату. Если ребе или Двора слышали меня, то ничего не сказали.
Каждый день я сидел с теми мужчинами, чувствуя себя одним из учеников, которые заполняли классные комнаты. Эти люди настолько отточили свой разум за долгие годы, что я со своим слабым пониманием Библии и еврейских законов остался на много световых лет позади. Я не упоминал, что закончил еврейскую теологическую семинарию Америки и был раввином. Я знал, что консервативный или реформистский раввин не был раввином для них, не говоря уже о ребе.
Потому я молча слушал их споры о человеческих существах, их способности творить добро и зло, о браке и разводе, о трефе и кашруте, преступлении и наказании, рождении и смерти.
В особенности я заинтересовался одной темой. Леви Дресснер, старый дрожащий человек с хриплым голосом, указал на трех разных мудрецов, которые говорили, что преклонный возраст может стать вознаграждением за благочестие, однако даже благочестие может рано встретить смерть, что печально.
Ревен Мендель, грузный мужчина с красным лицом, лет сорока, цитировал труд за трудом, в которых говорилось, что рано умершие молодые люди после смерти воссоединялись с родителями.
Иехуда Нахман, бледный мальчик с сонными глазами и шелковистой коричневой бородкой, цитировал нескольких авторов, уверенных в том, что умершие поддерживали связь с живыми и интересовались их жизнью.
46
Кидрон
– Так ты провел весь год с ортодоксальными евреями? – спросила Р. Дж.
– Нет, от них я тоже сбежал.
– Что случилось? – спросила Р. Дж.
Она взяла холодный тост и откусила кусочек.
Двора Московиц была тихой и вежливой в присутствии мужа и других мужнин, но, словно бы понимая, что я отличаюсь от них, когда мы оставались наедине, становилась очень разговорчивой.
Она тяжело трудилась, чтобы в квартире и классных комнатах было чисто во время Дней трепета [16] . Мóя, стирая и отчищая, она рассказывала мне легенды и историю семьи Московиц.
– Двадцать семь лет я продаю платья в магазине «Бонтон». Я с нетерпением жду следующего июля.
– Что тогда будет?
– Мне стукнет шестьдесят два, и я уйду на пенсию. – Она любила конец недели, потому что не работала по пятницам и субботам по причинам религиозного свойства, а в воскресенье магазин был закрыт. Она подарила ребе четверых детей. Больше не смогла. Такова воля Божья. У них было трое сыновей, двое из которых жили в Израиле. Лабель бен Шломо был ученым в Меа Шеариме, Пинкус бен Шломо был раввином в Петах-Тиква. Самый младший, Ирвинг Московиц, продавал страховки в Блумингтоне, штат Индиана. – Моя черная овечка.
– А ваш четвертый?
– Это была дочь, Леа. Она умерла, когда ей было два года. Дифтерия. – Воцарилось молчание. – А вы? У вас есть дети?
Я рассказал ей все. Мне было сложно не только решиться, не только думать об этом, но и облечь мое горе в слова.
– Значит, вы говорите кадиш по дочери.
Она взяла меня за руку. Наши глаза увлажнились, я хотел убежать. Она сделала мне чай с хлебцами и морковными конфетами.
Утром я встал очень рано, пока они еще спали. Я застелил кровать, оставил деньги и записку с благодарностями и пробрался с чемоданом к машине, пока темнота еще не сменилась восходом.
Все Дни трепета я провел в беспробудном пьянстве – в ночлежке в Уиндеме, в ветхом домике для туристов в Ревенне. В Кьяхога Фоллз управляющий мотеля открыл мою запертую дверь и вошел ко мне после того, как я пил в номере трое суток подряд, и попросил уехать. Когда я достаточно протрезвел, я поехал в Акрон, где обнаружил потрепанный старый отель «Маджестик», павший жертвой моды на мотели. Угловой номер на четвертом этаже требовал покраски и был полон пыли. Через одно окно я видел дым, выходивший из труб фабрики по производству резины, а из другого – коричневые воды реки Маскингум. Я сидел там восемь дней. Портье по имени Роман приносил мне выпивку, когда она заканчивалась. В отеле не было обслуживания номеров. Роман ходил куда-то, по всей видимости, далеко, чтобы принести мне жирные гамбургеры и плохой кофе. Я щедро давал на чай, потому Роман не обокрал меня, когда я был пьян.
Я так и не узнал, было ли это его имя или фамилия.
Однажды ночью я проснулся и понял, что в номере кто-то есть.
– Роман?
Я включил свет, но номер оказался пуст.
Я даже проверил душевую и шкаф. Выключив свет, я снова почувствовал чье-то присутствие.
– Сара? – наконец спросил я. Потом: – Натали? Это ты, Нат?
Молчание.
С таким же успехом я мог позвать Наполеона или Моисея. Эта мысль причинила мне боль. Но я не мог отделаться от ощущения, что в номере кто-то был.
Этот «кто-то» не казался опасным. Я лежал в темной комнате и вспоминал разговоры в доме Московицев. Ребе Иехуда Нахман цитировал мудрецов, которые утверждали, что умершие близкие никогда не покидают нас, а с интересом наблюдают за нашей жизнью.
Я потянулся за бутылкой, и в этот момент меня пронзила мысль, что мои жена и дочь, возможно, сейчас наблюдают за мной, таким слабым и разбитым в этой грязной комнате, воняющей блевотиной. Во мне уже было достаточно алкоголя, чтобы я мог наконец погрузиться в сон.
Когда я проснулся, почувствовал, что снова один, но лежал и вспоминал мысли, которые одолевали меня накануне.
Позже в тот день я нашел турецкие бани и с радостью растянулся на лавке, окруженный клубами пара, позволяя алкоголю выйти через поры. Затем я отнес грязную одежду в прачечную. Пока она сохла, я зашел в парикмахерскую, где меня плохо постригли. Я распрощался с хвостом. Настало время повзрослеть и измениться.
На следующее утро я сел в машину и покинул Акрон. Я нисколько не удивился, когда машина привезла меня назад в Кидрон во время миньяна. Там я чувствовал себя в безопасности.
Евреи тепло поприветствовали меня. Ребе улыбнулся и кивнул, словно я вернулся с какого-то задания. Он сказал, что комната все еще свободна, и после завтрака я отнес туда вещи. На этот раз я опустошил чемодан, развесив некоторые вещи в шкафу, а остальные рассовав по ящикам.
Осень сменилась зимой, которая в Огайо очень похожа на зиму в Вудфилде, не считая того, что в Огайо менее холмистая земля. Я носил ту же одежду, что и в Вудфилде, то есть длинное нижнее белье, джинсы, шерстяные рубашки и носки. Выходя на улицу, я надевал толстый свитер, вязаную шапочку и старый красный шарф, который мне дала Двора, а также синее пальто, купленное в комиссионке в Питтсфилде в первый год, когда мы переехали в Вудфилд. Я много ходил, лицо краснело от мороза.
По утрам я участвовал в миньяне, что было для меня скорее общественной обязанностью, чем душевной потребностью. Я все еще с интересом слушал их разговоры, которые сопровождали каждую службу, и обнаружил, что понимаю уже намного больше, чем прежде. Комната, в которой сидели мы, находилась по соседству с классными комнатами. Днем туда приходили дети, громко шумели и разговаривали. Некоторые мужчины занимались их обучением. Я хотел было предложить помощь, но понял, что учителя получают плату, а мне не хотелось отбирать ни у кого средства к существованию. Я много читал старые еврейские книги, время от времени задавая ребе вопросы, которые мы с интересом обсуждали.
Каждый из учителей знал, что Господь дал им радость познания, потому относились к работе серьезно. Они мало походили на Маргарет Мид, обучающую жителей Самоа. В конце концов, мои предки принадлежали к этой культуре, но я был лишь наблюдателем, чужаком. Я внимательно слушал и, как и другие, часто заглядывал в трактаты, лежавшие на столе, пытаясь найти там аргументы. Иногда я забывал о сдержанности и задавал вопрос. Однажды это случилось, когда собравшиеся обсуждали загробную жизнь.
– Как мы можем знать, что существует жизнь после смерти? Откуда мы знаем, что есть связь с нашими близкими, которые умерли?
Мужчины озабоченно посмотрели на меня.
– Потому что так написано, – пробормотал ребе Гершом Миллер.
– Многие вещи, написанные пером, неверны.
Гершом Миллер разозлился, но ребе взглянул на меня и улыбнулся.
– Ну же, Довидель, – сказал он, – неужели ты хочешь, чтобы Всемогущий подписал контракт?
Я не смог удержаться и захохотал вместе со всеми.
Однажды вечером мы обсуждали Тайных святых.
– Согласно нашим преданиям в каждом поколении рождается тридцать шесть благочестивых. Это обычные смертные, которые занимаются повседневными делами, но на их благочестии зиждется мир, – сказал ребе.
– Тридцать шесть. А женщина может быть одной из них? – спросил я.
Ребе засунул руку в бороду и поскреб подбородок. Он поступал так всегда, когда размышлял над чем-то. Сквозь приоткрытую дверь в кладовую я заметил, что Двора замерла на месте. Она стояла к нам спиной, но было понятно, что внимательно прислушивается к нашему диалогу.
– Полагаю, может.
Двора принялась за работу с удвоенной энергией. Она казалась довольной, когда внесла салат с лососем.
– А христианка может быть одной из них?
Я задал этот вопрос тихо, но понял, что они почувствовали напряжение в моем тоне. Ведь мой вопрос был продиктован определенными личными соображениями. Я заметил, как Двора внимательно посмотрела на меня, поставив тарелку на стол.
По глазам ребе ничего нельзя было понять.
– Как ты считаешь, каким будет ответ? – спросил он.
– Конечно, может.
Ребе кивнул, ни капли не удивившись, и улыбнулся.
– Возможно, ты сам один из них, – сказал он.
У меня вошло в привычку гулять посреди ночи, вспоминать аромат духов. Я запомнил этот запах с тех времен, когда обнимал тебя.
Р. Дж. посмотрела на Дэвида и отвернулась. Он помолчал несколько мгновений и продолжил.
Мне снились эротические сны о тебе, и сперма выстреливала из моего тела. Чаще всего я видел твое лицо, слышал твой смех. Иногда сны были бессмысленны. Мне снилось, что ты сидишь на кухне за столом с Московицами и каким-то эмишем. Мне снилось, что ты управляешь повозкой с впряженной в нее восьмеркой лошадей. Мне снилось, что ты одета в длинное бесформенное платье эмишей, поверх которого на тебе еврейский национальный наряд.
В доме Московицев ко мне относились благожелательно до определенной степени, однако едва ли уважали. Знания и понимание этих мужчин были глубже, чем у меня, и их вера отличалась от моей.
К тому же все знали, что я алкоголик.
Однажды в воскресенье днем ребе руководил свадебной церемонией Йосселя Штайна. Баша Штайн выходила за Иехуду Нахмана, самого младшего из учителей. Ему было семнадцать лет, он был вундеркиндом. Свадьба проводилась в амбаре. Пришли все жители общины. Когда пара вступила под полог, все запели сладкими голосами:
Он, кто сильнее всех,
Он, кто благословеннее всех,
Он, кто величественнее всех,
Да благословит жениха и невесту.
После этого никто не повернулся ко мне и не предложил стакан, когда разливали шнапс, как никто не предлагал мне бокал с вином после завершения каждой службы в конце Шабата. Они обходились со мной с мягким снисхождением, совершая свои мицвот, свои хорошие поступки, словно бородатые бойскауты, заботящиеся о калеках, чтобы получить за заслуги значки и когда-нибудь – самую главную награду.
Приход весны был для меня словно новый приступ боли. Я был уверен, что моя жизнь изменится, но не знал как. Я перестал бриться, решив отрастить бороду, какие носили все мужнины в тех местах. Я некоторое время прокручивал в голове мысль начать жизнь сначала в этой общине, но понял, что эти евреи так же не похожи на меня, как я не похож на эмишей.
Я наблюдал, как фермеры все больше времени проводят в полях. Кругом стоял густой запах навоза.
Однажды я отправился на ферму к Симону Йодеру. Йодер арендовал у ортодоксальных евреев часть земли и обрабатывал ее. Именно его лошадь я остановил тогда на дороге.
– Я хочу работать на вас, – заявил я.
– Что ты можешь?
– Все, что необходимо.
– Ты можешь править повозкой?
– Повозкой? Нет.
Йодер с сомнением посмотрел на меня, пытаясь понять мой странный английский.
– Здесь мы не платим даже минимальную зарплату. Мы платим меньше.
Я пожал плечами.
Итак, Йодер испытал меня, приставив наполнять железную телегу навозом. Я занимался этим целый день и чувствовал себя, как в раю. Когда в тот вечер я вернулся в квартиру Московицев, усталый и пропахший навозом, Двора и ребе решили, что я либо вернулся к выпивке, либо сошел с ума.
Весна выдалась на удивление теплой. Дождей было мало, но достаточно для урожая. После того как навоз был раскидан по полям, Симон начал пахать и культивировать землю плугом, запряженным пятью лошадьми. Его брат Ганс занимался тем же, но в его упряжке было восемь животных.
– Лошадь производит удобрение и других лошадей, – сказал мне Симон. – Трактор не производит ничего, кроме счетов.
Он учил меня управляться с упряжкой.
– Ты уже можешь справиться с одной лошадью. Это самое важное. Ты натягиваешь постромки постепенно, когда осаживаешь их. Упряжь снимаешь по одной. Они привыкли работать в команде.
Я начал распахивать уголки полей с упряжкой из двух лошадей. Я лично засадил поле, окружавшее дом Московицев. Когда я шел за лошадьми, удерживая поводья, то чувствовал, что в каждом окне маячит несколько бородатых лиц, следящих за каждым моим движением, будто я прибыл с Марса.
Вскоре после посадки настало время первого покоса. Каждый день я работал в полях, вдыхая запахи труда: смесь лошадиного мускуса, моего собственного пота и одуряющего аромата свежескошенной травы. Моя кожа потемнела на солнце, а тело постепенно закалилось и стало сильнее. Я не стригся и не брился. У меня отросла солидная борода. Я чувствовал себя Самсоном.
– Ребе, – спросил я однажды вечером за ужином, – считаете ли вы Господа всемогущим?
Длинные белые пальцы поскребли подбородок, спрятанный под окладистой седой бородой.
– Во всем, кроме одной вещи, – наконец ответил ребе. – Господь есть в каждом из нас. Но мы должны дать ему позволение выйти наружу.
Все лето я получал настоящее удовольствие от простого труда. Я думал о тебе, когда работал. Я позволял себе мысли о тебе, поскольку верил, что становлюсь хозяином самому себе. Я имел наглость начать надеяться, однако я понимал, что алкоголик во мне все еще жив, ибо мне не хватало некой храбрости. Всю жизнь я убегал. Я убежал от ужасов Вьетнама, найдя успокоение в бутылке. Я убежал от обязанностей раввина, став агентом по продаже недвижимости. Я убежал от личной утраты, выбрав деградацию. Я не питаю особых иллюзий на свой счет.
Внутри меня росло напряжение. Когда лето начало подходить к концу, я, будто псих, пытался оттянуть его неминуемый конец, но, естественно, это было невозможно. В самый жаркий день августа я помог Симону Йодеру сложить остатки сена в амбар. Потом я поехал в Акрон.
Супермаркет находился там же, где и прежде. Я купил литр виски «Сиграмз Севен Краун». В кошерной пекарне я купил разных булок, а в еврейском магазине – несколько банок маринованной селедки. Одна из банок, по всей видимости, была закрыта негерметично, потому что, когда я отъехал на несколько километров, машина наполнилась острым запахом рыбы.
Я отправился к ювелиру и сделал еще одну покупку. Я купил изящную золотую цепочку с жемчужиной, которую подарил Дворе Московиц в тот же вечер. Также я выписал ей чек. Она расцеловала меня в щеки.
На следующее утро, после церемонии, я принес еду для миньяна. Я пожал всем руки. Ребе проводил меня до машины и передал мешочек, в который Двора положила сэндвичи с тунцом и печенье. Я ожидал услышать нечто важное от ребе, и он меня не подвел.
– Да благословит и хранит тебя Господь. Пусть его лик будет к тебе благосклонен и принесет мир в твою душу.
Я поблагодарил его и завел двигатель.
– Шалом, ребе.
Наконец я покидал это место так, как положено. На этот раз машина уже не везла меня куда глаза глядят. Я ехал в Массачусетс.
Когда Дэвид закончил рассказ, Р. Дж. взглянула на него.
– Так… мне можно остаться? – спросил он.








