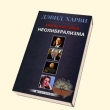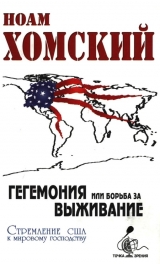
Текст книги "Гегемония, или Борьба за выживание"
Автор книги: Ноам Хомский
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
По подсчетам Армии обороны Израиля, в первый месяц объявления интифады соотношение убитых со стороны палестинцев и израильтян в районах, занятых вооруженными силами, составило почти двадцать к одному (семьдесят пять палестинцев на четырех израильтян), причем сопротивление израильским солдатам редко принимало более серьезные формы, чем метание камней палестинцами. Вооруженные силы Израиля применили тяжелые военные бульдозеры, предоставленные США для уничтожения жилых построек, сельскохозяйственных полей, оливковых рощ, с неистовой силой. После этого Израиль стали сравнивать с «одним большим бульдозером, – писал один крайне обеспокоенный таким положением дел израильский журналист, – который своими действиями ставит крест на собственных основополагающих идеалах о том, чтобы „сделать пустыню цветущей“»{349}.
С самого начала беспорядков Израиль использовал военные вертолеты, которые поставляли США для нанесения ударов по гражданским объектам, в результате чего погибли и были ранены десятки человек. Реакцией Б. Клинтона было немедленное подписание крупнейшего за десятилетие контракта на поставку военных вертолетов. Ограничений на их использование не было никаких, сообщили в Пентагоне журналистам. О фактах использования американской военной техники против гражданского населения было известно с самого начала, однако об этом не было ни единого упоминания в США.
В действиях Израиля не было ничего кардинально нового. В период военных действий в Персидском заливе в 1991 году США испытывали такое превосходство, что военное командование применило, по словам журналиста Патрика Слояна, «кардинально новую тактику»: пехота следовала за танками, к передней ’ части которых были приделаны землеройные устройства и отвалы. С их помощью проделывались бреши в позициях иракских войск, а траншеи с иракскими солдатами фактически ровнялись с землей. Противниками США были в основном шиитские и курдские призывники из крестьянского населения, которые, казалось, являлись всего лишь несчастными жертвами режима Саддама Хусейна и которые теперь либо прятались в песчаных дюнах, либо попросту бежали со своих позиций в надежде спастись от неминуемой гибели. Подобные репортажи П. Слояна и многих других вызывали незначительный интерес в США{350}.
Такие силовые акции выходят за рамки обычных военных операций. Когда между противоборствующими сторонами столь сильно различие в военном потенциале, они направлены на прославление собственных преступлений. В качестве примера немусульманской страны, относящейся к «оси зла», можно привести Северную Корею. Эта страна, без сомнения, не сможет забыть «показательный пример воздушного военного превосходства, преподнесенный в назидание коммунистам всего мира и в первую очередь корейским коммунистам». В мае 1953 года, за месяц до объявления перемирия – об этом с энтузиазмом писалось в официальном обзоре ВВС США – в отсутствии других объектов атаки на опустошенной войной территории страны, американские бомбардировщики нанесли удар по жизненно важным гражданским объектам. В результате этих бомбардировок была уничтожена целая система ирригационных дамб, которые «обеспечивали водой 75 процентов всех северокорейских рисовых полей». «Западному человеку трудно понять весь ужас произошедшего, но для азиата уничтожение главного продукта продовольственного потребления означает одно – голод и медленную смерть» – это выдержка из официального доклада о преступлениях, за которые на Нюрнбергском трибунале международные преступники были приговорены к смертной казне{351}. Довольно легко предположить, что руководство Северной Кореи, которое теперь пытается играть со всем миром в игру, «у кого слабее нервы», с использованием ядерного оружия, вряд ли сможет просто забыть об этих преступлениях.
Важно понимать, насколько общепринятыми являются подобные практики и могут ли они иметь повторение в будущем, если только какое-либо сильное государство не воспрепятствует этому. Можно вспомнить ужасную картину города Грозного, лежащего в руинах. Если историческая память позволяет, то можно припомнить также массированные опустошительные бомбардировки США территории Индокитая. Жажда возмездия не знает пределов, когда могущественные государства подвергаются террору, который они обычно сами применяют к своим жертвам. Приведу пример из далекого прошлого, когда 150 лет назад на территории оккупированной Индии в ходе восстания («Индийский мятеж», как окрестили эти события в империи) были убиты граждане Великобритании, реакция ее правительства была беспощадной. Это был пример «одного из наиболее жутких и ужасных проявлений зла, на которое только способен человек», – написал Дж. Неру, согласно британским и индийским источникам, в тюрьме во время Второй мировой войны (это письмо находилось под запретом в период английского господства над Индией). Сегодня в подробных курсах британской истории приводятся сведения о существовавшей «распространенной практике» «беспричинных нападений на сельское население и на невооруженных индийцев, которые могли при этом быть верными слугами нападавшего хозяина». А также сведения о практике жестоких расправ над арестованными «мятежниками», «сжигании целых деревень за то, что они находились в непосредственной близости от предполагаемых мест преступления, совершенных индийцами», – «чудовищные проявления слепого расизма британцев… вызванного желанием мести». В другом случае описывается, как десятки тысяч солдат и крестьянских партизан были повешены, расстреляны, что приводило к резкому снижению численности населения в отдельных регионах. Общее настроение выразил в мае 1857 году Джон Николсон, которого его поклонники и современники называли «героем Дели», «честнейшим человеком» и «настоящим христианином»: «Необходимо издать закон, по которому с убийц женщин и детей сдирали бы кожу живьем, сажали бы их на кол и сжигали прямо в Дели. Возмутительна сама идея казни этих преступников через повешенье». Немало из этих зверств лежит на совести других правоверных христиан, которые, дабы отомстить, совершали немыслимые зверства{352}.
В качестве иллюстрации того, что Вторая мировая война не произвела в этом отношении никакого отрезвляющего воздействия, приведу пример Кении, где в 1950-х годах, в результате подавления последствий вспыхнувших там восстаний, погибло 150 000 человек. Эта кампания, сопровождавшаяся чудовищными репрессиями и террором, как всегда, руководствовалась самыми светлыми мотивами. Генерал-губернатор Великобритании объяснял кенийскому народу в 1946 году, что британцы распоряжаются землями и ресурсами Кении «по праву, которое завоевали их доблестные отцы и деды». Если «большая часть благ этой страны в настоящий момент находится в наших руках», то это связано с тем, что «они принадлежат нам по праву завоевателя», а африканским народам ничего не остается, кроме как научиться жить в мире, «который мы создавали на фоне социальных потрясений конца девятнадцатого и двадцатого веков»{353}.
Сама история день за днем преподносит нам непростые уроки, учитывая, что угрозы современного мира становятся более серьезными по мере увеличения доступа к средствам массового уничтожения.
Израильское военное руководство полагается не только на распространенную военную доктрину, основанную на принципе военного превосходства, но также на собственный опыт. Когда израильское командование в октябре 2000 года отдало приказ о проведении силовой операции с целью «сломить» палестинцев, используя при этом такие меры, как «коллективные казни», оно, вероятно, не предусмотрело, что это может спровоцировать «кровавые акты отмщения»{354}. Такой ответной реакции не последовало, когда израильский премьер-министр И. Раббин во время первой интифады, десять лет назад, направил войска для подавления волнений посредством избиения, пыток и унижения палестинского населения. Тогда, как и множество раз до этого, тактика применения израильтянами вооруженной силы сработала{355}.
В декабре 1982 года, в момент когда вспышки ожесточенного насилия Армии обороны Израиля на оккупированных территориях повергли в ужас даже самых воинственно настроенных израильских политиков, один известный израильский ученый и специалист в военных вопросах предупреждал об одной опасности. Она была связана с тем, что три четверти из миллиона молодых людей, которые отслужили в армии, «живут с мыслью, что задача вооруженных сил состоит не в обороне государства на поле боя против иностранного агрессора, а в систематическом ущемлении прав ни в чем не повинных людей, только по той причине, что они являются „арабушим“ и живут на землях, обещанных Всевышним евреям». Важный в этом отношении принцип был сформулирован Моше Даяном в первые годы после оккупации. Он заявил, что Израиль должен объявить живущим вокруг палестинцам о том, что «между нами не может быть согласия, вам остается либо жить, как скоты, либо покинуть эти земли, а мы будем ждать, пока вы примете решение»{356}. Однако палестинцы оказались «непреклонны» – они мирились с тяготами, но ничего не могли сделать.
Совсем иная ситуация началась после объявления второй интифады. На сей раз приказы израильского руководства жестоко подавлять недовольство палестинских жителей спровоцировали цепь акций террора, обрушившихся на Израиль, который утратил прежнее чувство неуязвимости и безнаказанности. В статье одной из ведущих израильских газет, опубликованной в этот период, был слышен отзвук опасений двадцатилетней давности:
После двух с половиной лет войны с палестинским терроризмом Армия обороны Израиля, которая берется за выполнение приказов, совершенно не обращая внимания на возможные последствия своих действий, обнаружила всю свою закоснелость и черствость. Армия обороны Израиля взрастила поколения солдат на мифе о безукоризненной моральной чистоте рядов вооруженных сил, а командирский состав усваивал представление о солдате, как о нравственно полноценном, мыслящем индивиде, который способен принимать жесткие решения. Если посмотреть на такого солдата с точки зрения соображений гуманности, то рождается жуткий образ: он становится машиной убийства, чья эффективность действий вселяет в сердце ужас{357}.
По мере того как соотношение убитых палестинцев и израильтян менялось с двадцати к одному до трех к одному, позиция США в отношении проведения силовых акций переросла из невнимания и слабой поддержки в гневное осуждение: по отношению к силовым акциям против Израиля. Они действительно были ужасными. Однако избирательность подхода говорит сама за себя, в этой связи не стоит искать истоки насилия в культуре и истории завоевателей.
Глава восьмая. Терроризм и справедливость: повторение прописных истин
Для того чтобы понять смысл любого неоднозначного и малопонятного явления, к которым, несомненно, относится феномен терроризма, пожалуй, лучше всего начать с рассмотрения базовых и общеизвестных понятий, относящихся к объекту наблюдения.
Во-первых, всякое действие оценивается с точки зрения его возможных последствий. Во-вторых, нельзя забывать о принципе универсальности – мы используем по отношению к себе те же критерии оценки, что и к другим людям, если не более жесткие. Эти общедоступные принципы лежат в основе теории справедливой войны, по крайней мере, если к ней относиться серьезно. Когда мы говорим о прописных истинах, возникает справедливый вопрос: насколько широкий круг людей считает их таковыми? В ходе дальнейшего исследования будет наглядно показано, что большинство людей, как мне кажется, категорически их отвергает.
Первый из приведенных здесь фактов требует некоторого пояснения. Конкретные последствия какого-либо действия могут иметь большую значимость, но они сами по себе не являются основанием для оценки его с точки зрения морали. Никто не стал бы хвалить Н. Хрущева за одно то, что ракеты, которые он разместил на Кубе, не спровоцировали войну. И в равной степени вряд ли кому-либо пришло бы в голову осуждать тех, кто в тот момент умножал страх, предупреждая о приближающейся опасности. Одобрительные возгласы в адрес «горячо любимого вождя» Северной Кореи в связи с тем, что он создал ядерное оружие и передал технологии по производству ракет Пакистану, выглядят абсурдно. Также было бы странно осуждать тех, кто выступает с предупреждением о возможных последствиях такого «дружественного шага», лишь потому, что в итоге все обошлось. Поборника государственного насилия, который принимается отстаивать подобные действия, стоило бы воспринимать либо как морального урода, либо как сумасшедшего. Все это выглядит очевидным до тех пор, пока аналогичные критерии не начинают применяться к нам самим. В таком случае безумие может быть представлено как норма и даже приветствоваться, а здравый смысл сурово осуждаться.
Давайте, тем не менее, не станем искажать смысл прописных истин и очевидных фактов. Предлагаю в этой связи рассмотреть некоторые важнейшие примеры, которые показывают, как проявляются эти аксиомы современной жизни.
ТЕРРОР И ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
Рассмотрим события 11 сентября 2001 года. Многие полагают, что эти нападения коренным образом изменили ход мирового развития и открыли новый «век террора» – именно под этим названием вышел научный сборник работ специалистов Йельского университета{358}. Все в один голос констатируют размытость значения термина «террор».
Нас интересует, почему это так. Официальные определения, которые дает государство, совпадают с целым рядом других, удобных для использования в различных целях, формулировок. В уставе армии США содержится следующее определение понятия «терроризм» – «намеренное использование силы для достижения политических, религиозных и идеологических целей посредством запугивания, принуждения и осуществления устрашающих акций». В американском праве имеется более подробное описание, которое, по сути, содержит ту же логику. Во многом сходно определение, которое использует британское правительство: «Терроризм – это применение или угроза применения силовых разрушительных, дестабилизирующих действий, призванных оказывать давление на правительство, запугивать общество с целью достижения политических, религиозных и идеологических целей»{359}. Эти определения кажутся вполне понятными. Они достаточно близки по своему значению к распространенным в употреблении формам и считаются уместными в тех случаях, когда речь идет о террористических действиях официальных врагов.
В своих работах по данной тематике, начиная с 1981 года, когда к власти пришел Р. Рейган и заявил о начале войны с терроризмом как о ключевом направлении внешней политики США, я использовал именно официальные правительственные формулировки базовых терминов. Эти формулировки особенно применимы в нашем исследовании, поскольку они появились вместе с объявлением о начале первой войны с терроризмом. Однако после этого никто не использовал их, со временем они вышли из употребления и не получили никакой достойной замены. Причины этого вполне ясны: официальные определения «терроризма» ничем не отличаются от «контртеррористической деятельности» (иногда она еще называется «конфликтом слабой интенсивности» или «операцией противодействия экстремизму»). Однако, несмотря на то что контртеррористические операции являются ключевым элементом политики США, неверно утверждать, что американская политика сводится к террористической деятельности{360}.
США, конечно же, не единственные, кто действует таким образом. Традиционно различные страны называют свои террористические операции «контртеррористическими мерами», даже если речь идет о массовых убийствах. Это, к примеру, было характерно для нацистов. В странах оккупированной Европы они совершали свои преступления под лозунгами защиты населения и легитимных правительств от фанатиков и террористов, пользующихся поддержкой из-за рубежа. В этом была некоторая правда – даже самые отъявленные пропагандистские лозунги несут в себе долю истины. Действительно, Лондон направлял в Европу фанатиков различного рода, которые участвовали в террористических операциях. Военные США с интересом относились к нацистской модели: американские доктрины противодействия экстремистской деятельности вобрали многое из нацистских справочников и практических руководств, которые, при поддержке офицеров Вермахта, штудировались с большим энтузиазмом{361}.
Часто террор называют оружием слабых. Формально это верно, если террор относить исключительно к их террористической деятельности. Но, откровенно говоря, террор скорее является орудием сильных.
Другая трудность, связанная с использованием официальных формулировок термина «террор», заключается в том, что если следовать их логике, то США можно назвать главным террористическим государством в мире. Это утверждение не вызывает противоречий, по крайней мере среди тех, кто проявляет хоть немного уважения к таким институтам, как Международный суд или Совет Безопасности ООН, не безразличен к мнению научного сообщества, – несомненно, к таким странам относятся Никарагуа и Куба. Однако этого утверждения для нас будет не достаточно. В таком случае мы остаемся без какого-либо связного определения того, чем является феномен «терроризма». Или же нам придется в обход запретов использовать официальные формулировки, которые вышли из употребления из-за непредсказуемых последствий их применения.
Официальные формулировки не раскрывают всей сути явления. В частности, они не проводят различия между «международным терроризмом» и «агрессией» или между «террором» и «вооруженным сопротивлением». Эти вопросы о различиях в понимании и трактовке ключевых терминов стали возникать в интересной обстановке, когда была повторно объявлена война с международным террором, а в американском обществе развернулась широкая дискуссия вокруг этой тематики, которая, судя по заголовкам газет, ведется и по сей день.
Давайте рассмотрим различие между «террором» и «вооруженным сопротивлением». Сразу же возникает вопрос: в каких случаях легитимно использование «права на самоопределение, свободу и независимость, в соответствии с Уставом ООН, людьми, которых этих прав насильственно лишают… в особенности, это имеет отношение к народам, колонизированным, находящимся под властью расистских режимов или в условиях внешней оккупации». Такие действия должны рассматриваться как «террор» или «вооруженное сопротивление»? Процитированные слова относятся к наиболее сильным формам осуждения преступлений, связанных с терроризмом, которые использует Генеральная Ассамблея ООН. В приведенном здесь документе ООН также отмечалось, что «нет никаких обстоятельств, при которых указанным в данной резолюции правам мог бы быть нанесен ущерб». Эта резолюция ООН была принята в декабре 1987 года, именно в тот момент, когда, по официальному мнению, разгул международного терроризма достиг своей высшей точки. Этот момент стоит особенно отметить. При голосовании этой резолюции в ее поддержку было отдано 153 голоса, против – 2 (воздержавшиеся – только Гондурас){362}.
Не трудно догадаться, какие страны проголосовали против. Они объясняли причины своего решения тем, что их не устроили формулировки основных понятий, приведенных в процитированном отрывке из текста резолюции. Фраза «колонизированным, находящимся под властью расистских режимов», как полагали, имела отношение к режиму апартеида в Южной Африке, руководство которой было союзником США и Израиля. Именно поэтому они не могли смириться с сопротивлением, будь оно вооруженным или нет, режиму апартеида, в особенности когда сопротивление возглавлял Нельсон Мандела и его Африканский Национальный Конгресс, который Вашингтон называл в то время не иначе как наиболее одиозной террористической силой. Под другой фразой – «внешняя оккупация» – подразумевалась более чем двадцатилетняя израильская военная оккупация. В данном случае также никакое вооруженное сопротивление было недопустимо.
США и Израиль были единственными странами в мире, которые не желали признавать, что такие действия могут быть квалифицированы как легитимное сопротивление, и считали, что эти действия могут рассматриваться исключительно как террористические. Позиция США и Израиля распространялась не только на оккупированные территории в Палестине. Так, США и Израиль, к примеру, рассматривают «Хизболлу» как одну из главных террористических групп в мире. Но не в связи с самими террористическими актами, которые она организует, а поскольку эта организация была сформирована для сопротивления оккупации в Южном Ливане и значительно преуспела в сдерживании действий завоевателей, пока те на протяжении десятилетий отказывались покинуть оккупированные территории в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. США пошли еще дальше, когда назвали «террористами» непосредственно граждан, оказывающих прямое сопротивление действиям американских властей: к примеру, жителей Южного Вьетнама или, совсем недавно, иракцев{363}.
Американское общество, благодаря применению правительством права двойного вето, мало осведомлено об осуждающей позиции ООН в отношении того, что президент Р. Рейган называл «чудовищными последствиями терроризма». Попытки вникнуть в суть этих проблем станут вторжением на «запретную территорию»: для этого необходимо ознакомиться с исторической хроникой, документальными свидетельствами, диссидентскими критическими источниками.
Несмотря на многие неясности и резкое размежевание взглядов США и Израиля от остального мира, для достижения конкретных целей вполне достаточно официальных американских определений «террора».
Давайте вернемся к распространенному убеждению о том, что события 11 сентября 2001 года ознаменовали резкую смену исторических этапов развития. Это утверждение кажется спорным. Тем не менее, в этот роковой день произошло нечто совершенно новое и до этой поры абсолютно невообразимое. Объектом атаки стала не Куба, Никарагуа, Ливан, Чечня или какая-либо другая ставшая привычной жертва международного терроризма, а государство с колоссальной мощью, определяющее, судьбу мира.
Впервые нападение на богатые и влиятельные страны было осуществлено, как ни прискорбно отмечать, в невиданной до этой поры форме. Наряду с ужасом от масштаба и степени антигуманности этого преступления, с сочувствием к жертвам терактов, за рамками официальной позиции представителей западных стран реакцией на события 11 сентября были высказывания, в которых, в той или иной степени, содержалась следующая мысль: «Испытайте то же, что чувствуем все мы». Особенно это было заметно в Латинской Америке, где многие люди с трудом могли забыть о целой череде насилия и репрессий, прокатившихся по всему региону с начала 1960-х годов, а также о том, кто стоял за всем этим.
Эти события связаны с решением, которое приняла администрация президента Дж. Кеннеди. Суть его сводилась к переформулированию миссии вооруженных сил латиноамериканских стран. Вместо того чтобы «поддерживать обороноспособность стран полушария», они должны были «обеспечивать внутреннюю безопасность в этих странах» в интересах США. В результате США перешли от молчаливого одобрения «жадности и жестокости латиноамериканских военных» к «непосредственному участию» в их преступлениях. В этот период при американской поддержке проводились «методы зондер-команд Генриха Гимлера», по словам Чарльза Мэклинга, который возглавлял все операции США по противодействию экстремистской деятельности и координировал меры по обеспечению национальной безопасности США с 1961-го по 1966 год{364}. Жертвы этих действий примерно также характеризовали их. В качестве очень показательного примера приведу слова пользовавшегося большим уважением председателя колумбийского Постоянного комитета по правам человека Альфредо Васкеса Каризозы. Он сказал, что администрации Кеннеди «потребовалось приложить колоссальные усилия для того, чтобы сделать из частей наших регулярных армий бригады по борьбе с экстремистской деятельностью, внедряя новую стратегию использования батальонов смерти». Тем самым они предвещали создание того, «что впоследствии стало известно в Латинской Америке как Доктрина национальной безопасности… не инструмент защиты от внешнего врага, а средство утверждения безраздельной власти военных элит, наделяя их правом применения силы против любых внутренних врагов… Право воевать и уничтожать работников социальной сферы, членов профсоюзов, мужчин и женщин, которые не проявляли лояльности к правящей группе и которых намеренно называли коммунистическими экстремистами. Попасть в такую категорию мог каждый, включая активистов правозащитной деятельности, к примеру меня самого»{365}.
«Колоссальные трудности», о которых он говорит, совпали по времени с принятием судьбоносных решений 1962 года. В этот год президент Кеннеди направил в Колумбию специальную военную миссию во главе с генералом Уильямом Ярборо. Ярборо порекомендовал здесь «использовать против известных сторонников коммунизма военизированные группы, саботаж и/или террористические методы, поскольку мы располагаем всеми необходимыми средствами для организации такой работы» в стране. «Мы» – поскольку при проведении секретной операции можно быть откровенным{366}. Согласно доктрине противодействия экстремизму, формулировка «известные сторонники коммунизма» может трактоваться как «все, кого мы назовем коммунистическими экстремистами», включая категории гражданского населения, перечисленные Васкесом Карирозой. Этот факт хорошо известен в странах Латинской Америки, в равной степени как и то, что основными жертвами такой политики являются бедные и притесняемые слои населения, которые отваживаются поднимать свои готовы.
Применение положений Доктрины национальной безопасности распространилось на Латинскую Америку в 1980-х годах. Сальвадор стал главным получателем военной помощи США, в то время как государственный террор в этой стране принимал самые чудовищные формы. Когда Конгресс США заблокировал решение о предоставлении прямой военной помощи, апеллируя к правам человека местного населения, как было в случае с Гватемалой, после массированной кампании правительственных репрессий американские ставленники осуществили то, чего добивалась американская администрация.
Те, кто пострадал в результате этой политики, еще долго будут помнить о событиях прошедших лет, в то время как в богатых и влиятельных странах эти преступления, как правило, подвергались «ритуальному замалчиванию» как нежелательные факты. Этому есть множество подтверждений. Так, со страниц многих национальных газет американцев предупреждают об усиливающейся опасности со стороны «Аль-Каиды», поскольку любой американец становится из «надежно охраняемого… легко доступным объектом атаки»{367}. Эта ситуация должна была бы моментально напомнить Вашингтону о том, как он давал указание подконтрольным силам в Никарагуа осуществить нападение «на уязвимые гражданские объекты» страны сразу же после того, как высокопоставленные международные органы власти приказали им прекратить террористическую деятельность.
Насколько нападение на «уязвимые гражданские объекты» является правильным шагом, имеет ли это отношение к терроризму или предстает как деятельность во имя благой цели, зависит от того, кто отдает приказ. Это уже привычная практика, и она не вызывает трудностей при осуществлении, на прописные истины морали никто не обращает внимания, а нежелательные факты скрываются от глаз общественности.
КАК НАУЧИТЬСЯ СКРЫВАТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ?
Один из авторов работ, вошедших в научный сборник Йельского университета, Чарльз Хил, отмечал, что теракт 11 сентября 2001 года ознаменовал начало второго этапа «войны с терроризмом». Первый ее этап был начат администрацией президента Р. Рейгана двадцать лет назад, – поистине редкая констатация реального положения вещей.
Хил триумфально заявляет, что на первом этапе «США одержали победу», однако монстр терроризма был всего лишь ранен, а не уничтожен полностью{368}. Каким образом мы одержали победу, это уже не наше дело: пусть этим занимаются иезуитские священники-интеллектуалы в странах Центральной Америки, Институт изучения вопросов военного сотрудничества стран Западного полушария, комиссии по расследованию, серьезные исследователи, правозащитники и публицисты, а также все дожившие до наших дней жертвы этой войны.
Мы многое узнаем о текущей контртеррористической кампании, если сумеем подробно изучить перипетии первого этапа войны США с терроризмом и то, какое отображение они получали в официальной позиции американского руководства. Один из ведущих специалистов в данной области описывает 1980-е годы как десятилетие «государственного терроризма», «преобладающего государственного участия в террористической деятельности или в ее финансировании, в особенности через Ливию и Иран». По сути, США заняли «„активную“ позицию в отношении использования террористических методов».
Многие ученые занимались изучением способов, которые позволили США «одержать победу в войне с терроризмом». В основном они сводились к проведению специальных операций, неоднократно становившихся причиной осуждения США со стороны Международного суда и Совета Безопасности ООН (исключая те случаи, когда американское руководство пользовалось своим правом вето). Эти операции выступали в качестве модели при принятии американским руководством решения о «поддержке враждебного движения „Талибан“ в духе политики, проводимой ранее американцами в Никарагуа». Известный исследователь данной тематики Давид Рапопорт обнаружил исторические аналогии, которые позволяют судить о характере террористической деятельности Усамы бен Ладена. Так, в Южном Вьетнаме «эффективность террористической деятельности Вьетконга против американского Голиафа с его военной мощью и технической оснащенностью поколебала убежденность в том, что западная военная машина неуязвима»{369}.
Действительно, трудно переоценить степень коварства террористов, которые осуществляют повсеместно свои злодеяния против США.
Следуя привычному стереотипу восприятия, в этих и подобных им исследованиях США предстают как случайная жертва, которой приходится держать круговую оборону от нападок извне. Со стороны вьетнамцев – в Южном Вьетнаме, никарагуанцев – в Никарагуа, ливийцев и иранцев – не важно, что они когда-то сами страдали от действий США, а также прочих антиамериканских сил всего мира. Если кого-либо не устраивает такая трактовка происходящих событий, то их можно запросто причислить к «антиамериканским силам» и впредь не считаться с их мнением.