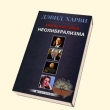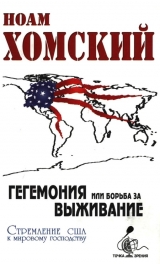
Текст книги "Гегемония, или Борьба за выживание"
Автор книги: Ноам Хомский
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
В таких условиях совсем не просто сохранить политическое влияние. Существует единственное средство: вселить чувство страха в сердца людей. Эта тактика была принята на вооружение при Рейгане и Буше, когда политическое руководство США непрестанно вело ожесточенную борьбу с мировым злом в различных его проявлениях, чтобы посредством страха вызвать у американцев покорность.
На протяжении первой фазы войны с террором американцы подвергались колоссальной опасности. К ноябрю 1981 года ливийские наемные убийцы свободно гуляли по улицам Вашингтона в попытках застрелить президента, после того как тот отважно выдвинул ультиматумы негодяю М. Каддафи. Теперь американское правительство рассматривало Ливию как безопасную грушу для битья и, в связи с этим, проводило ряд силовых операций, приводивших к гибели большого числа ливийцев. Расчет был на ответную агрессивную реакцию Ливии, которую можно было бы обратить в средство запугивания американского общества.
В тот момент, когда американцы смогли с облегчением вздохнуть в связи с тем, что президент Картер чудом избежал встречи с ливийскими наемниками, М. Каддафи уже готовил следующий ужасный план. На сей раз ливийские войска должны были пересечь 960 километров пустыни и осуществить вторжение в Судан, при этом ВВС США и их союзники оказались совершенно беспомощны. По некоторым сведениям, Каддафи также разработал настолько искусный план свержения правительства Судана, что спецслужбы Судана и Египта смогли узнать о его намерениях только после их осуществления. Так сообщили несколько журналистов, которые с огромным трудом получили эту информацию. Последовавшая демонстрация силы США заставила госсекретаря Шульца поспешно объявить, что в результате «быстрой и решительной» реакции Р. Рейгана, который продемонстрировал поистине «ковбойскую сноровку» (это так сильно пленяло сознание многих уважаемых интеллектуалов, в данном случае Джона Пола), Каддафи «был поставлен на место». Этот эпизод вскоре был вычеркнут из упоминаний, поскольку в нем не было больше необходимости{228}.
После того как затихло обсуждение ливийской истории, возникла другая, еще более серьезная ситуация: вспыхнула опасность использования СССР военных баз в Гренаде для бомбардировок США. К счастью, президент молниеносно отреагировал на этот вызов. После отклонения предложений о мирном урегулировании конфликта на условиях США в Гренаде высадилось 6000 американских солдат элитных подразделений, которые сломили сопротивление нескольких десятков слабо вооруженных кубинских строителей среднего возраста, а галантный ковбой из Белого дома назвал американские войска «оплотом национальной безопасности»{229}.
Но угрозы США не были на этом исчерпаны. Вскоре на горизонте забрезжила никарагуанская опасность, где обнаружилось прибежище для террористов и диверсантов всего лишь в двух днях езды от Харлинджена в Техасе, в то время как никарагуанское руководство позволяло себе заявления в духе «Майн Кампфа». Слава богу, главнокомандующий США, как У. Черчилль в его борьбе с нацистами, отказался сдаться и смог отразить нашествие вражеских орд, несмотря на их мощную поддержку со стороны М. Каддафи, который намеревался «стереть Америку с лица Земли»{230}.
В то время как Белый дом пытался консолидировать парламентскую поддержку для принятия решения о проведении военных действий в Никарагуа в 1986 году, США организовывали опасные провокации в заливе Сидры. Они сопровождались бомбардировками ливийских территорий с телевизионным освещением в прямом эфире и убийствами десятков людей без каких-либо видимых причин, и все это делалось для нагнетания ливийской опасности в американском общественном сознании. Пытаясь дать официальные объяснения причин атаки, американское руководство апеллировало к Статье 51 Устава ООН, которая предполагает право члена ООН «на самооборону перед угрозой нападения». Это, по сути, было первое открытое объявление доктрины «превентивной войны» и окончательное, если говорить всерьез, крушение надежд на спокойствие в мире и на главенство закона. Случилось именно так. Аналитик правовой и законодательной рубрики газеты «Нью-Йорк таймс» Энтони Льюис позитивно отмечал стремление администрации Р. Рейгана полагаться в своей деятельности «на норму закона о том, что применение силы против преступников, которые систематически нарушают закон, является оправданной мерой самозащиты». Представьте последствия того, что все будут обладать возможностью применять доктрину Рейгана – Льюиса против всех остальных{231}.
На протяжении десятилетия ничего не менялось. Европейский туристический бизнес нес убытки, так как американцы опасались совершать путешествия в Европу из-за угрозы терактов со стороны арабских фанатиков или других сумасшедших. В самой Америке были пущены в ход другие общественные фобии. Уровень преступности в США не сильно отличается от других развитых стран. Однако боязнь стать жертвой преступления гораздо выше. То же самое можно сказать о наркотиках: то, что воспринимается как проблема в других странах, у нас считается реальной угрозой обществу. Американскому политическому руководству не составляет труда, используя СМИ, играть на страхах американцев. Время от времени проводятся соответствующие кампании, когда это необходимо для интересов внутренней политики. Побег расиста Уилли Нортона накануне президентских выборов 1988 года служит отличной тому иллюстрацией.
Другой иллюстрацией такой политики является объявление в 1989 году нового этапа «войны с наркотиками». Администрация президента выступила с громкими заявлениями о том, что латиноамериканские наркодельцы представляют огромную опасность для американского общества, несмотря на неопровержимые доказательства того, что степень их вины не столь велика. Как поясняет журналист и редактор Холдинг Картер, бывший помощник госсекретаря в администрации Дж. Картера, власти уверены в успехе данной тактики. «Не надо ходить к гадалке, чтобы понять, что американские СМИ готовы выполнить любую просьбу и будут поддакивать любому слову из Белого дома, вне зависимости от того, кто в данный момент является его хозяином, стоит лишь щелкнуть пальцами», – пишет он.
Кампания достигла грандиозного успеха, хотя к борьбе с наркотиками это не имело никакого отношения. Боязнь наркотиков поглотила американское общество. У власти появилась возможность очистить городские улицы от ненужных людей и поместить их в уже строящиеся для этих целей тюрьмы. Теперь можно было перейти к началу операции «Правое дело», доблестному завоеванию Панамы, за которым, помимо всего прочего, стояла причастность Норьеги к наркотрафику. В то же время Вашингтон оказывал сильное давление на власти Таиланда, угрожая им санкциями, если они воспрепятствуют ввозу в страну американской табачной продукции, гораздо более вредного продукта. Но все это делалось в тайне от постороннего внимания.
В случае Панамы также было найдено сногсшибательное правовое обоснование. Посол США в ООН, Томас Пикеринг, заявил в Совете Безопасности, что Статья 51 Устава ООН «предполагает применение вооруженной силы в целях самообороны, для защиты национальных интересов и граждан страны», а также для препятствования «контрабанде наркотиков в США». Это, на самом деле, подразумевало защиту интересов ограниченного круга белых бизнесменов и банкиров, многие из которых сами подозревались в наркотрафике и отмывании денег, чему вскоре было получено подтверждение и о чем неоднократно заявляли многие правительственные органы США{232}.
Повсеместно правовые аргументы основаны на принципе, сформулированном въедающимся израильским государственным деятелем Аббой Эбаном: для «легитимации» каких-либо действий необходимо действовать «методом от противного»{233}.
В дальнейшем политическое руководство четко придерживалось данного сценария действий, поскольку все указанные элементы внутренней политики прежнего образца присутствовали в период предвыборной кампании 2000 года. В 1981 году американское руководство сочетало крупное увеличение оборонных расходов со снижением уровня налогов и рассчитывало при этом, что «истерия по поводу растущего дефицита создаст благоприятные условия для сокращения федеральных расходов [на социальные нужды] и, таким образом, у американской администрации появится возможность приостановить реализацию социально-экономических реформ». Дж. Буш-младший также проводил снижение налогов преимущественно в интересах богатых слоев населения, а «объем федеральных расходов достиг при нем колоссальных темпов роста за последние двадцать лет»{234}, впрочем, большая часть бюджетных расходов пошла на военные нужды и, опосредованно, в научно-технический комплекс.
Дефицит федерального бюджета требует придерживаться «фискальной дисциплины», которая в первую очередь ведет к ограничению финансирования услуг, оказываемых населению. По оценкам экономистов американской администрации, объем непогашенных правительством США платежных обязательств составил 44 триллиона долларов. Их аналитический обзор должен был быть включен в феврале 2003 года в ежегодный отчет о расходовании средств, но это не было сделано. Вероятной причиной стало то, что для покрытия указанного дефицита требовалось резкое увеличение налоговой ставки, а Дж. Буш с трудом пытался провести еще одно налоговое послабление, вновь в интересах обеспеченных слоев американского общества. «Президент Буш делает все, чтобы мы оказались в налоговой ловушке», – отмечали экономисты Лоуренс Котликоф и Джефри Саш, предсказывая грядущий кризис. Среди ожидаемых следствий, утверждали они, представляется «снижение в будущем размеров выплат по программам „Социальная защита“[14]14
«Социальная защита» – одна из основных государственных программ социального страхования США. По ней осуществляются выплаты пенсий по старости (работникам и членам их семей, находящимся на иждивении), инвалидности, утрате кормильца, а также оказывается помощь пенсионерам, нуждающимся в медицинском обслуживании (совместно с программой «Медикэр») и др. Фонды социальной защиты формируются из средств работников и их работодателей. – Прим. перев.
[Закрыть] и „Медикэр“[15]15
«Медикэр» – действующая с 1965 года в США федеральная программа льготного медицинского страхования лиц старше шестидесяти пяти лет, некоторых категорий инвалидов и лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями почек. Программа частично финансируется за счет государственных средств, в частности за счет налога для медицинского обеспечения престарелых, входящего в систему пенсионных налогов, частично – за счет взносов работодателей и работников. – Прим. перев.
[Закрыть]». Руководитель пресс-службы Белого дома Ари Флейшер подтвердил цифру в 44 триллиона долларов и полностью признал правильность составления анализа: «Без сомнения, программы „Социальная защита“ и „Медикэр“ станут непосильной ношей для будущих поколений, если ответственные лица всерьез не займутся реформированием этих программ», – что, впрочем, не означает финансирование их за счет введения прогрессивных ставок налогообложения. Проблема усугубляется серьезным финансовым кризисом во многих штатах и городах{235}.
Редакция респектабельной «Файненшиал таймс» всего лишь «констатирует очевидное», полагает экономист Пол Кругман, когда она заявляет, что «наиболее ортодоксальные члены Республиканской партии» с их властными полномочиями, кажется, хотят угробить финансовую систему страны, «когда в завуалированной форме предлагают различные привлекательные варианты снижения [расходов на социальные программы]». Кругман утверждает, что программы «Медикэйд»[16]16
«Медикэйд» – в США – государственная программа бесплатной или льготной медицинской помощи малоимущим и членам их семей. – Прим. перев.
[Закрыть], «Медикэр» и «Социальная защита» решено ликвидировать, при этом то же самое может произойти и с целым рядом программ, которые действовали ранее и также были направлены на обеспечение социальной защиты населения от губительного воздействия рынка{236}.
Ликвидация социальных программ направлена на выполнение гораздо более широких задач, нежели концентрация финансовых ресурсов и влияния. Открыто звучат заявления о том, что обеспечение социальной защиты, строительство общеобразовательных школ и прочие отклонения от «правильного пути», необходимость придерживаться которого диктуют всему миру американские военные, имеют в своей основе пагубные доктрины. В числе этих доктрин – губительная убежденность американцев в том, что им, как сообществу, необходимо беспокоиться о состоянии здоровья какой-нибудь вдовы на другом конце города или о перспективах на будущее соседского ребенка. Эти пагубные доктрины основаны на принципе сострадания, который, согласно А. Смиту и Д. Юму, является первоосновой человеческой натуры и который присущ всем нам в силу обладания нами разумом. Приватизация имеет совсем другие преимущества. Если бы пенсии рабочих людей, их медицинское обслуживание и другие жизненно важные вопросы зависели от деятельности биржи и законов рынка, то они бы действовали в ущерб собственным интересам. Им пришлось бы выступать против увеличения зарплат, против безопасных условий труда, за ограничение доступа к медицинскому обслуживанию, а также за проведение мер по снижению издержек их покровителя, на которого они полагаются в манере, свойственной феодальным отношениям.
После всплеска популярности президента в связи с событиями 11 сентября опросы общественного мнения показали увеличение недовольства социальной и экономической политикой президентской администрации. Если и была какая-то возможность сохранить политическое влияние, то, безусловно, единственное решение для администрации Буша заключалось бы в рецепте, сформулированном Анатолием Ливиным. Последний полагал, что «классической современной стратегией правого олигархического блока, находящегося в опасности, является трансформация общественного недовольства в национализм»{237}. Эта стратегия присуща нынешней администрации вне зависимости от изменяющихся обстоятельств, поскольку она получила успешную обкатку в период двенадцати предыдущих лет, пока у власти находились политические силы, которые в настоящий момент стоят за Дж. Бушем.
Основные принципы этой стратегии сформулировал Карл Роув, главный политический советник Дж. Буша-младшего: Республиканская партия на выборах в ноябре 2002 года должна выступать под лозунгом «обеспечение национальной безопасности», так как американцы «полагают, что Республиканская партия сможет защитить США». Сходным образом, объясняет он, на президентских выборах 2004 года необходимо формировать имидж Дж. Буша как президента-полководца. Что касается наиболее актуальных вопросов внутренней политики лета 2004 года, то Буш и его Республиканская партия вряд ли могли рассчитывать на популярность в этой связи, отметил главный аналитик по международным вопросам информационного агентства Юнайтед Пресс Интернэшнл. Однако в сентябре 2002 года очень кстати была раскручена «надвигающаяся внешняя угроза» в лице Ирака. Учитывая ее значение для внутренней политики, «администрация президента начала кампанию, которая была направлена на поддержание и укрепление своего влияния. Она была основана на проведении авантюрной международной политики, новой радикальной стратегии превентивных военных действий в сочетании с жаждой развязывания политически выгодной и своевременной конфронтации с Ираком»{238}.
Данная тактика прекрасно сработала в период избирательной кампании на промежуточных выборах в Конгресс. Несмотря на то что электорат «полагал, что Республиканская партия более печется об интересах крупных корпораций, чем о простых американцах», люди полностью доверяли республиканцам в вопросах национальной безопасности{239}.
В сентябре была опубликована Стратегия национальной безопасности. Рукотворные фобии позволили обеспечить общественную поддержку вторжения в Ирак и утвердить новый принцип развязывания военных действий, руководствуясь исключительно собственными интересами. Они также дали администрации США возможность укрепить свое влияние и продолжить осуществление грубой и непопулярной внутренней политики. Так, американское политическое руководство продолжало придерживаться сценария действий, успешно испытанного в период его первого срока у власти, при этом еще более рьяно проводя в жизнь задуманное, с меньшим количеством внешних ограничений и с потенциально огромными рисками для международной безопасности.
ОПРАВДАННЫЕ РИСКИ
США пошли на развязывание войны в Ираке, отдавая себе отчет в том, что это чревато распространением оружия массового поражение и вспышками терроризма. Однако эти возможные тяжкие последствия воспринимались как оправданные риски в свете перспектив установления контроля над Ираком, укоренения принципа превентивных военных действий и повышения управляемости во внутренней политике.
Свидетельства того, насколько тематика обеспечения национальной безопасности приобрела актуальность, появились вскоре после провозглашения грандиозной имперской стратегии 17 сентября 2002 года. Администрация США внезапно публично «заявила об отказе от участия в международной программе подготовки Конвенции по биологическому оружию, направленной против применения бактериологических средств в военных действиях», и порекомендовала всем своим международным партнерам отложить рассмотрение этого вопроса на 4 года{240}. Как уже отмечалось, в середине октября стало известно, что незадолго до этого политика заигрывания с огнем американских властей едва не стоила всему миру развязывания глобального ядерного конфликта. Десять дней спустя, 23 октября, Комитет ООН по разоружению принял две важнейшие резолюции. Первая призывала к ужесточению мер за нарушение конвенций о признании космического пространства безъядерной зоной и, таким образом, была направлена на «предотвращение серьезных угроз международному миру и спокойствию». Вторая резолюция подтверждала положения Женевского протокола 1925 года, «запрещающего применение отравляющих газов и бактериологического оружия». Обе конвенции были единодушно одобрены всеми членами ООН, за исключением двух стран: США и Израиля. Решение США эквивалентно использованию права вето: по сути, двойного вето – запрет освещения данных обстоятельств в СМИ и нежелание признавать исторически закрепленный прецедент. В лояльных администрации президента СМИ не было ни единого упоминания о провале попыток международного сообщества предотвратить опасность для всего человечества.
Скудные материалы о шокирующих откровениях прошлых лет, сделанных на конференции в Гаване в октябре 2002 года, едва ли могут прояснить что-либо по поводу международного терроризма и силовых сменах режимов или по иракскому вопросу, короче, по поводу всего, что вызывало такое сильное беспокойство участников конференции. Еще до отлета в Гавану они наверняка уже успели ознакомиться с содержанием письма, адресованного руководителем ЦРУ Дж. Тенетом председателю Сенатского комитета по разведывательной деятельности – сенатору Бобу Грэхаму. В этом письме сообщалось, что, несмотря на незначительную вероятность проведения Саддамом террористических акций с применением обычных видов вооружения или химического, биологического оружия, возможность именно такого развития событий «резко возрастает» в связи с началом американской операции по вторжению в Ирак. ФБР, вслед за главным лицом, ответственным за национальную безопасность, также высказывало свои опасения, «что военные действия в Ираке увеличивают вероятность осуществления террористических актов на территории США». Ведущий американский журнал, посвященный деятельности спецслужб и военной тематике, совместно с некоторыми разведывательными учреждениями пришел ровно к таким же выводам, добавляя при этом, что американское вторжение может «спровоцировать рост международных антиамериканских и антизападных настроений… не ослабит, а только усилит ожесточенность действий исламских террористов». «Война в Ираке грозит увеличением нестабильности и новыми террористическими угрозами, – предупреждает руководство европейских силовых ведомств правительства своих стран»; при этом будет происходить пополнение рядов «и так неуклонно расширяющегося антиамериканского лагеря» новой молодой порослью{241}.
Одновременно с этим американский специалист по организации неожиданных силовых акций и ядерному шантажу Ричард Бэтс написал о развитии событий в Ираке: «Осознавая неотвратимость поражения, Саддам вполне может нанести свой последний удар – применить [оружие массового поражения] на территории США» – через агентурные сети в Америке. «Вероятность этого не велика, – полагал он, – возможно, она настолько же мала», как вероятность повторения событий 11 сентября{242}. Впрочем, все, кто всерьез задумывается о безопасности и защищенности американцев на территории США и обо всех других людях, которые являются потенциальными объектами террористических атак, не должны попросту сбрасывать со счетов возможность терактов.
Приближенные к администрации президента эксперты разделяют мнение, что интервенция самой мощной военной силы в истории против беззащитного врага может служить поводом для реванша и ответных действий. Многие авторитетные исследователи международных отношений отмечали, что потенциальные жертвы американского политического авантюризма «хорошо знают, что только меры устрашения могут сдержать порыв США», главной из которых является оружие массового поражения (Кеннет Уолц). В этой связи «политика США приводит к повсеместному распространению ядерного оружия». Действия Вашингтона активизируют деятельность террористических групп: «Неудивительно, что… слабые государства и недовольные люди… с озлоблением рассматривают США как главную причину и символ их страданий». Если в таком случае не будут предприняты усилия для того, чтобы облегчить их горестное существование, они начнут предпринимать ответные шаги, используя все доступные им средства, включая террор. В дополнение к этому, по мнению американских разведывательных служб, «усиление экономической стагнации», в основе которой лежит американский подход к распространению принципов глобализации, чревато такими же последствиями{243}.
В этих предупреждениях не было ничего нового. Уже давно стало очевидно, что развитые страны постепенно теряют свою монополию на использование военной силы, сохраняя при этом лишь количественное превосходство в вооружении. Задолго до 11 сентября в ходе специальных исследований было доказано, что «хорошо спланированная операция по ввозу на территорию США контрабанды оружия массового поражения с 90-процентной вероятностью будет успешной». Это является «ахиллесовой пятой Америки», утверждалось в исследовании, вышедшем под тем же названием, где просчитывалось множество возможных вариантов действий террористов. По итогам деятельности рабочей группы «Совета по международным отношениям»[17]17
«Совет по международным отношениям» – независимая, негосударственная организация США, основана в 1921 году в Нью-Йорке. Основным направлением ее деятельности является всестороннее освещение наиболее актуальных вопросов международной политики с привлечением широкого круга участников, от действующих политиков, специализированных исследовательских центров до независимых экспертов и простых граждан, интересующихся тематикой международных отношений. – Прим. перев.
[Закрыть] количество рассматриваемых вариантов действий террористов было расширено и существенно дополнялось их содержание. Опасность террористических атак приобрела реальные очертания после попыток в 1993 году взорвать здание Всемирного торгового центра, что, как сообщали инженеры-строители здания, при более четком планировании операции могло унести жизни десятков тысяч людей{244}.
Ожидалось, что нападение на Ирак могло стать непосредственной причиной стремительного распространения оружия массового поражения. Эксперт по борьбе с терроризмом (относится к «ястребам») Дэниэл Бенджамин отмечал, что вторжение в Ирак могло спровоцировать «самые страшные последствия распространения оружия массового поражения в истории человечества». Саддам Хусейн хоть и проявил себя как жестокий тиран, но он, однако же, был совсем не глуп. Если Ирак обладал химическим и биологическим оружием, то его хранение подлежало контролю и «обеспечивалось надежной системой командования». Оно ни при каких условиях не могло быть передано Усаме бен Ладену, который представлял угрозу не только для всего мира, но и для самого Саддама Хусейна. Тем не менее, под воздействием внешней агрессии Ирак постиг бы глубочайший социальный кризис, а вместе с ним, вероятно, была бы ликвидирована система централизованного контроля над оружием массового поражения. Оно, в таком случае, вполне могло попасть на огромный «рынок нетрадиционных видов оружия», что предвещало бы «катастрофический поворот событий» по целому ряду аспектов. Послевоенные исследования доказали справедливость опасений Бенджамина, реальные подтверждения которых мы все имели бы возможность лицезреть в случае разграбления иракских полигонов с ядерным оружием{245}.
Критические оценки специалистов и правящей элиты содержали множество важных аспектов. Во-первых, они отражали опасения американского истеблишмента в отношении существования так называемой «сверхдержавы-изгоя», которую весь остальной мир рассматривает как основной источник угрозы международной безопасности и «главный источник внешней опасности для своих стран». Во-вторых, эти оценки отражали необычайно широкий круг мнений и взглядов: приведенные выше высказывания выражают позицию разведывательных служб многих стран, одного ведущего международного военного журнала, двух главных американских журналов по внешней политике, основными сюжетами которых в 2003 году были именно эти темы; а также Американской академии гуманитарных и точных наук, которая опубликовала специальный бюллетень, посвященный этому кругу вопросов; ряда наиболее авторитетных экспертов по вопросам международных отношений, терроризма, стратегического анализа и даже мнения «давосских специалистов», которые задают курс мировой экономики. Кто бы что ни думал об их оценках, трудно найти исторические аналогии столь единодушного критического демарша в отношении готовящейся военной операции. В равной степени абсолютно беспрецедентен всплеск общественных протестов против войны, которая еще не была официально объявлена.
В-третьих, несмотря на то что эта критика вызрела в недрах правящей элиты и экспертного сообщества, она осталась без внимания. Американская администрация не пыталась что-либо противопоставить этим критическим выступлениям и на самом деле, казалось, не замечает их, что, впрочем, было вполне объяснимо. С пропагандистской точки зрения самое сильное в истории государство не должно оправдываться или давать четкие объяснения своим решениям: достаточным основанием является декларирование своих добрых намерений. В таком же духе американские власти уведомили ООН, что она может «оказаться полезной», если подтвердит и скрепит надлежащим образом правильность решений США, в противном случае она неизбежно понесет санкции. Таким образом, США уведомляли весь мир, что власть гегемона освобождает их от необходимости давать кому-либо отчет о каких-либо своих решениях, например о применении ими силы. Признавать, не говоря уже о том, чтобы пытаться опровергнуть, «критические визги» (заимствуя насмешливое выражение МакДжорджа Банди) означает подрывать авторитет власти. Те, кто выступал с критикой США, правы в том, что державная политика ведет к саморазрушению, но политическое руководство обычно обращает на это мало внимания.
В данном случае американская администрация и без предупреждений авторитетных экспертов осознавала, что планируемые военные действия в Ираке, вероятно, увеличат опасность распространения оружия массового поражения и риски проведения терактов против США и их союзников. Но, очевидно, она придавала большее значение потенциальным выгодам от проведения силовой операции. Более того, несмотря на то что стратеги Буша, несомненно, считают неприемлемым распространение оружия массового поражения и увеличение террористической активности, они знают, что эти тенденции можно использовать для достижения собственных целей, как во внешней, так и во внутренней политике. Даже страх и ужас, которые США повсеместно наводят, вполне понятны: они не стремятся понравиться, а хотят, чтобы им подчинялись, и лучше, если это подчинение будет скреплено страхом, что только «укрепит их авторитет».
Несомненным упрощением фактов кажутся слова главного корреспондента и аналитика на Ближнем Востоке Юсефа Ибрагима, когда он сводит весь смысл потенциальных выгод от американского вторжения в Ирак к «укреплению президентской популярности» в краткосрочной перспективе и «превращению „миролюбивого“ Ирака в частную американскую нефтяную вышку»{246}. Однако есть важные основания полагать, что он мыслил в правильном направлении. Поддержание политического влияния и увеличение контроля США над основными мировыми энергоносителями характеризуют две главные цели, о которых американцы достаточно открыто заявляли. Это институционализация радикальной перестройки американского общества с пересмотром основных результатов прогрессивных реформ XX века и утверждение грандиозной имперской стратегии бессменного мирового превосходства США. На фоне таких задач любые риски могут показаться малозначительными.
ЭКСТРЕМИСТЫ В БЛИЖАЙШЕМ ОКРУЖЕНИИ АМЕРИКАНСКОГО РУКОВОДСТВА
Правящую элиту США и экспертное сообщество, которые выступали с критикой политики Белого дома, больше всего занимали вопросы, ставшие предметом жаркой дискуссии в Совете Безопасности ООН. Международные наблюдатели в Ираке безуспешно пытались ответить на эти вопросы: обоснованность иракской угрозы, наличие оружия массового поражения в Ираке, а также соответствие политики США нормам международного права. Никто, к примеру, не вдавался в то, как будут претворяться в жизнь планы по «демократизации» и «либерализации» страны и как будут реализовываться другие важные задачи, которые выходят за рамки вопросов безопасности США и их союзников. Последствия военных действий для жителей Ирака мало кого интересовали, кроме разве что «экстремистов в окружении американского руководства», используя термин МакДжорджа Банди, который так называл тех, кто при оценке вьетнамской войны призывал выйти за рамки категорий военного успеха и цены побед. По мере того как Вашингтон твердо продвигался к началу военной операции в Ираке, «экстремисты» выступали с резкой критикой политического курса и, в отличие от многих других американских политиков того времени, не руководствовались сугубо эгоистическими мотивами.
Международные благотворительные общества и медицинские организации предупреждали, что война в Ираке может стать причиной серьезной гуманитарной катастрофы. По прошествии десяти лет с момента введения разрушительных санкций против Ирака его жители находились на грани выживания. В Швейцарии состоялась международная встреча, на которой прошло обсуждение альтернативных вариантов развития иракских событий. США единственные отказались на ней присутствовать. Участники встречи, среди которых были четыре постоянных члена Совета Безопасности ООН, «выступили с предупреждением о масштабе гуманитарных угроз в связи с началом военных действий в Ираке». В прошлом помощник министра обороны США, Кеннет Бэйкон, теперь ставший главой Международной организации помощи беженцам со штаб-квартирой в Вашингтоне, прогнозировал, что «война парализует иракскую систему здравоохранения и станет причиной появления огромной волны беженцев». В то же время со стороны международных благотворительных организаций все чаще раздавалась критика в адрес американских программ восстановления Ирака после окончания военных действий. Основными пунктами их обвинений были «отсутствие четкой координации предполагаемых мер, крайне недостаточное финансирование и неэффективность военного руководства». Сотрудники ООН с досадой констатировали, что «в [Вашингтоне] намеренно игнорируют наши предостережения о вероятных последствиях планируемой военной операции»{247}.