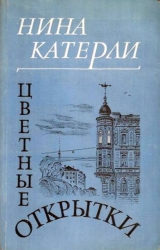
Текст книги "Цветные открытки"
Автор книги: Нина Катерли
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
А успеть на все просмотры, вернисажи, фестивали… Это в студенческие годы они с Ингой бегали с одной выставки на другую, а теперь: «Вы просто с ума сошли, Сева, – такое пропустить!! Да много ли вообще настоящего, подлинного, чтобы так пробрасываться»?
Наверное, они были правы, черт их знает. Однако угнаться за ними Всеволод Евгеньевич не пытался, только в консерватории бывал регулярно. Зато продолжал играть в теннис, благо при институте имелся корт, а уж загородные прогулки – святое дело! И тут завидовали ему: «Всегда в форме, отличный цвет лица, никакого лишнего жира! Воздух, природа – это же спасение. Вы просто молодец! Но – время, время, время! Главный сейчас дефицит. Господи, да где вы его берете?! В Тарусу – на week end? Немыслимо! Я два года мечтаю, все никак, все никак…»
Профессор Лосев в светских беседах за столом участвовал мало – смотрел, дружелюбно улыбался, но помалкивал. А иногда уходил в кресло и надолго застывал там перед телевизором. Дорофеевским вылазкам на природу он не завидовал – сам ездил за город по выходным, но, в отличие от Всеволода Евгеньевича, не гулять, а целенаправленно: на рыбалку или за грибами. Ездил на электричке, с рюкзаком. Светлана Андреевна часто жаловалась: «Пропадает по двое суток, один! Сходи тут с ума из-за него, не мальчик ведь!»
Однажды Дорофеев привел к Лосевым сына, приехавшего в Москву на каникулы. Антон всех покорил – совершенно прелестный мальчик, милый, воспитанный.
– Ой, да у такого папы – естественно – и… Антон, вы не слушайте! – он же у вас просто красавец. Гены, гены..
Возвращаясь в тот вечер домой, Всеволод Евгеньевич спросил:
– Ну, как?
Антон задумался, рассматривая старинный особнячок, мимо которого они проходили, потом повернулся к отцу и твердо сказал, что в гостях ему не поправилось.
– Почему? Тебе что, скучно было?
Антон неопределенно пожал плечами.
– Интересные же люди, интеллигентные, – недоумевал Дорофеев.
– Осведомленные, – поправил Антон. – Интеллигентность – это… по-моему, что-то другое. Нет, я не обо всех, сами Лосевы мне как раз понравились. Особенно – она.
– Светлана? Но она же… Странно… она же – никто, так, просто жена и все.
– Ну и что? – Антон нахмурился. – Она добрая. Ведь Лосев жутко старый, лет семьдесят, наверное! А все еще какой боевой. И довольный… Это все она. Нет, тут я с тобой не согласен. А вот гости… Они… знаешь кто? Они – светские дамочки! Все. И мужчины, и женщины.
– Кто-кто?!
– Дамочки! «Выставки-концерты, киноабонементы!» Чирик-чирик. Сенсации разные. Кто на ком женился. «В высших сферах», конечно. Кто развелся и… куда. И всё – из первых рук. А эта их болтовня о литературе и искусстве – слушать же тошно! Пустота. И дилетантизм.
– Что значит – дилетантизм? По-твоему, об искусстве говорить дозволено только искусствоведам и студентам-филологам?
– Искусство принадлежит народу, – почему-то грустно сказал Антон. – Ты лучше послушай, как они говорят! Сплошные перечисления, кто куда успел смотаться. Посетить. Посетители!
– Ну, ты у нас прямо… экстремист какой-то!
– Смешно ведь! Думаешь, я первый раз в жизни таких вижу? Только и знают, что ориентироваться: как бы маху не дать, угадать, что сегодня надо хвалить, а что ругать… Жалко их, – неожиданно закончил Антон.
– Ну-ну… – Даже вывернув мозги, Дорофеев не мог себе представить, за что бы можно было пожалеть его оживленных, уверенных в себе, элегантных знакомых. О чем он и сказал сыну, добавив, что Антон придира и чудовищный максималист. Очевидно же, что помимо светских интересов у лосевских гостей, у каждого, имеется свое дело, профессия, где он никакой не дилетант. Но вовсе не обязательно разглагольствовать за общим столом о своих служебных проблемах.
– Представь: я начал бы вдруг докладывать про устойчивость горячей плазмы в магнитном поле.
– Да я не об этом, – терпеливо сказал Антон, – может, оно у них и есть, это самое… дело. А ты про плазму, кстати, очень даже интересно рассказываешь. Только… – он усмехнулся. – Комплексы у них, неужели не видишь? Они этой своей болтовней – хоть сегодня, про гобелены, ну, про выставку! – они все время как будто за все это прячутся, что-то хотят в себе прикрыть… какие-то пустоты…
Вот тебе и на! Потащил сына в гости похвастаться: смотри, мол, какие у отца блестящие интеллектуалы-знакомые! А тот… Как говорил покойный Индюк: «унистожил и превратил ув бехство». А ведь и ты сам, Всеволод, друг наш, Евгеньевич, наверняка сегодня выглядел в его глазах болван болваном. Особенно когда пытался, дурак, подладиться под разговор насчет гобеленов, будь они трижды неладны! Главное, и на выставке-то не был, и не собирался, вообще видал все эти гобелены в гробу, а туда же, раскудахтался: «Ах, выставка! А я, представьте, никак не могу выбраться! Такая жалость! Ах! До какого же числа она открыта? Ах, до пятого? Обя-за-тель-но пойду!» И вообще… что, если без дураков, интересного было сегодня сказано за столом? Ландау такие разговоры называл шумом. И верно – шум…
– Они потому, наверное, так любят сбиваться в компании, – задумчиво произнес Антон, – что наедине с собой им страшно, пропадут, как в лесу.
– Все время только с самим собой, тут, знаешь, любой… пропадет, – глядя себе под ноги, заметил Дорофеев.
– Это ты пропадешь? Не верю. Поедешь в свой лес и успокоишься. Помню, как ты позапрошлым летом показывал мне «царскую тропу»! Точно это твоя личная драгоценность и ты мне ее даришь.
Ага. А ты еще все разводил философские разговоры, а что вокруг, тебе было до фонаря.
Не волнуйся, все я тогда видел. А главное – тебя. А вот тебе люди, по-моему, не очень интересны, правда? – неожиданно спросил он.
– Это почему?
– Не знаю, так показалось. Тебе, наверное, какие-нибудь твои эти… кварки куда интересней.
– Да, интересней! Если на то пошло, интересней! – Дорофеев вдруг почувствовал, что злится. – Надежней, если на то пошло! А люди… только не надо предъявлять к ним немыслимых требований! С ними на самом деле все очень просто – они одинаковы. Да, да! Есть несколько типов, и любого человека можно отнести к одному из них. А уж тогда очень легко представить себе, как он будет себя вести в той или иной ситуации.
– А по-моему, ты не прав, – негромко, но твердо сказал Антон. – Не одинаковые, и… Вообще – интересней людей, наверное, ничего и нет! И важнее их отношений между собой – ничего! Вот вы там понаделали своих бомб…
– Кто это – «вы»?
– …а будет война или не будет, зависит все равно ведь не от бомб, а – сумеют люди между собой договориться или нет. Не абстрактное человечество, прогрессивное там или какое, а в каждом случае – живые, реальные люди. И от того, какие они, какой у них характер, здоровье, настроение – вот от этого все и зависит. Не от науки и техники. И не обязательно война. Вообще – всё!
Дорофеев мог бы, конечно, поспорить с сыном, по спорить вдруг расхотелось. Вспыхнувшее было раздражение ушло, и вместо него, как обычно, пришли удовольствие и гордость: вот он какой, мой Антон. Пускай в его построениях много детского, бог с ним. Главное, парень думает, самостоятельно, серьезно думает.
Он потрепал Антона по плечу, и тот сразу откликнулся:
– Ты только не пойми меня так, что я тебя хочу обидеть! Или твоих знакомых. Салоны, в конце концов, существовали всегда. И многие в них бывали. И ничего, терпели. Пушкин, между прочим…
Ночью, когда Антон уснул, Дорофеев долго еще думал об этом разговоре. На душе у него, как всегда, когда он общался с сыном, было радостно. И голова работала ясно, точно Антон ввел туда какой-то катализатор, оживив начавший уже уставать и лениться мыслительный аппарат. «Старость, – рассуждал Дорофеев, – начинается не тогда, когда не можешь думать, а когда думать (да и чувствовать!) становится лень, вот и начинаешь для экономии сил пользоваться блоками, готовыми решениями. А собственную глупость, равнодушие и всеядность (а иногда и трусость) объявляешь высшей мудростью. А насчет салонов он, конечно, прав. Они существовали всегда, но всегда и… раздражали. Но там ведь и завсегдатаи были другие – бездельники, как правило. А эти? Среди лосевских гостей тунеядцев как будто не водится. Может, просто у них профессиональный интерес не главный, не совпадает с жизненным? Как два вектора, различные по величине и направлению. Чем больше между ними «ножницы», тем больше внутри этих «ножниц» пустоты. «Всяк сверчок знай свой шесток»… Не нашли своего шестка, не сумели. Или нашли, да не могут примириться, уж больно неказистый, непрестижный оказался шесток, вот и мечутся, доказывают себе и окружающим, что для них главное не их ремесло, а, допустим, Искусство и Литература.
Ему совсем расхотелось спать, он на цыпочках вышел в кухню, поставил на огонь чайник, распахнул форточку. За окном падал снег, спокойный и чистый. И в кухне сразу запахло снегом. Вот тебе и феномен – вода запаха не имеет, а снег имеет: кто-то – Бунин, что ли? – даже писал, будто это запах яблок. В чем же дело, Всеволод Евгеньевич, ученое вы светило? А все-таки вы счастливец, хоть и невежда в части гобеленов. Скоро, между прочим, станете профессором. Кстати, благодаря все тому же дедуле Лосеву, поставляющему вам аспирантов. Нет, вы счастливчик, везучий, как пьяный черт, тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! А с сыном как повезло? Тьфу, тьфу.
Утром, едва успев продрать глаза, Дорофеев изложил Антону свои соображения. Сын слушал очень внимательно, но презрения к наглым сверчкам, не желающим довольствоваться отведенными шестками, не разделил.
– Очень многие не виноваты, что так получилось, – сказал он, – это тебе подфартило – выбрал себе физику и стал физиком, а другой, может, всю жизнь мечтает быть, допустим, послом… а приходится работать начальником отдела снабжения! И совсем не потому, что таланта не хватило.
– Талант всегда пробьется, – начал Дорофеев, но по лицу сына тотчас понял, что понес пошлятину. Хотел поправиться, замолчал, а потом как-то не вышло продолжить разговор – торопились с лыжами в Сокольники.
Вечером Антон уехал в Ленинград.
…А Всеволод Евгеньевич, действительно, той же весной получил профессора…
О том, как ему повезло с сыном, он думал сейчас, шагая по оплывающей от зноя Петроградской стороне. Что бы там ни сообщила Инга, одно было ясно: ничего такого, что заставило бы его покраснеть за Антона, случиться не может.
А может, дело в какой-нибудь потенциальной разлучнице-невестке? Для Инги женитьба сына, естественно, кошмар и крах. Во-первых, достойной кандидатуры для нашего принца не существует в природе, во-вторых… Если у Антона будет своя семья, Инге нечем станет жить.
Он решил пройти еще остановку до Сытного рынка. И купить Инге цветов.
IIIИнга ждала Дорофеева на лестнице: высмотрела в окно. Она еще больше похудела, глаза беспокойные и несчастные. Едва успев поздороваться, зашептала, оглядываясь на дверь:
– При маме – ни о чем серьезном. К ней скоро придет ученица, тогда…
– Но он… здоров?
– В этом смысле все слава богу, нет, тут другое… – и уже громко: – Какие чудные ромашки! Спасибо, милый. Мои любимые! И черешня, бог мой! Мама! Мама!.. Не слышит.
– До сих пор дает уроки? Ей же… постой, семьдесят четыре?
– Три четверти века, Сева, в феврале отпраздновали юбилей.
(А он-то забыл, начисто забыл, скотина…)
– Ты проходи. И перестань так волноваться, у нас все как было. Видишь, даже обои. Как при тебе.
– Всеволод!.. Боже! Сколько лет… Очень, оч-чень рада, дорогой мой. Черешня? Мне?! Прелесть! Чрезвычайно тронута – знаете, не избалована излишним вниманием, с тех пор как мы… впрочем, что говорить! Инга, в чем дело, что случилось? Почему ты держишь гостя в передней? А вы повзрослели, возмужали, но прекрас-сно выглядите, настоящий мужчина!
Элла Маркизовна стала еще более величественной. В отличие от Инги она пополнела, но держалась все так же прямо и осанисто.
– Прошу, прошу в комнаты, – продолжала она. – Инга, обрати внимание, милая, что значит, когда человек смотрит за собой и не опускается. Впрочем, стоит ли удивляться, в нашем роду все были такие, как Всеволод! Я сегодня же позвоню Софье Ильиничне…
– Мама!
Элла Маркизовна медленно, как большой теплоход, развернулась и поплыла в столовую. Дорофеев с Ингой пошли следом.
– Софья Ильинична год назад умерла, – усталым голосом сказала Инга, – но мама почему-то все время… вот так… По-моему, она делает это намеренно.
Не оглядываясь, Элла Маркизовна откашлялась и произнесла металлически:
– Я. Сегодня же! Позвоню! Софье Ильиничне! И скажу, что наш Всеволод пре-кра-а-сно выглядит! А вы что думали?
Под незапамятным абажуром со стеклянными висюльками, по преданию украшавшим еще столовую в знаменитом «поместье», был сервирован праздничный стол. Горло Дорофеева сжалось, когда он увидел знакомый «метрополевский» крендель.
– Ну-с, Всеволод, располагайтесь, наш славный, здесь вы дома. Здесь вы свой. Более, чем кто-либо, да. Инга, что же ты? Налей наконец человеку чаю! Что же вы, Всеволод? Я жду. Рассказывайте про ваше житье-бытье.
– Тебе, как всегда, покрепче, Сева?
Он кивнул. Заварка, как всегда, была холодной и бледной, и от этого Дорофеев почему-то раскис окончательно.
– Так что же рассказывать? – он с усилием улыбнулся. – Я человек, как вы знаете, консервативный. Все тот же сухарь. Работаю… Старею вот..
– Не надо кокетничать, Сева, – мягко перебила Инга, опередив Эллу Маркизовну, которая уже начала протестующе поднимать брови. – Мама правильно заметила, ты не изменился… – она смотрела на ромашки, стоящие в хрустальной вазе рядом с кренделем.
– Мы здесь все следим за вашими огромными успехами, – промолвила Элла Маркизовна. – Наслышаны: вы теперь уважаемый профессор. Да! Весьма похвально. Весьма! Кузен Софьи Ильиничны… – тут она быстренько взглянула на дочь, но та как ни в чем не бывало помешивала ложечкой в чашке. – Да, так о чем я? Память, память… Бог мой, Всеволод, может быть вам горячо? Налейте в блюдечко, не чинитесь. Вы не в гостях. И это – не преж-ни-е времена… – она опять посмотрела на Ингу, на этот раз с угрозой. – Да! Он не в гостях! Время, время… О, Zeit! Die Zeit heilt alle Wunden![4]4
О, время! Время исцеляет все раны! (нем.).
[Закрыть] Сколько лет…
– Сева, расскажи, как на работе? – вмешалась Инга. – Антон говорил, ты теперь завотделом? А наука?
– А куда денешься? – Дорофеев развел руками. – Заматерел, власти захотелось. А наука… Пытаюсь… И то, и то.
– Да! Кузен Софьи Ильиничны нынешней зимой ездил в Цюрихь и привез ей чудную шаль. Брюссельское кружево! – не выдержала Элла Маркизовна.
– Сейчас вот с начальством воюю, – продолжал Дорофеев, сочувственно покивав теше. – Новый замдиректора. Откуда-то из «верхов». Ну и как обычно – новая метла… Наводит свои министерские порядки. Главные претензии, представь, ко мне.
– К тебе?! В научном плане?
– Нет, у него другое: «Почему ваших теоретиков никогда нет в институте? Что за привилегированный класс? А если и соизволят появиться, все равно, как ни зайдешь, сидят, развалившись, без дела, чешут языками. И дымят в помещении!»
– А ты?
– Отбиваюсь: мол, в этом чесании, как ни странно, главная работа и есть. Генерирование – может, слыхали? – идей. У нас, дескать, как у муравейника, коллективный мозг. А для одиноких раздумий в тиши кабинета как раз и существуют те самые свободные дни, которые ваше превосходительство так возмущают.
– Странные люди порой встречаются на этом свете, – заключила Элла Маркизовна и взяла большой кусок кренделя. – Вы ничего не едите, Всеволод. Так не следует. Инга, позволь, ты ведешь себя некорректно. Как это говорят в народе? Птицу баснями не кормят. Худые песни соловью!
– Я ем. Спасибо, Элла Маркизовна. Все очень вкусно. А как ваши дела? Как здоровье? – Дорофеев повернулся к ней.
Элла Маркизовна горько пожала плечами:
– Мое? Здоровье?! За-ме-ча-тель-но! Ведь правда, Инга? Но ничего, недолго уж… – последнее сказано было не без мстительности. Инга сидела молча, с напряженным лицом.
– Ну… – Элла Маркизовна отставила недопитую чашку и поднялась. – Благодарю всех. Не стану мешать. Нет, нет! У меня там крайне важное дело. Крайне важное! Да.
Высоко держа голову, она удалилась. Инга смотрела в стол.
– Вот так-то, Сева, – сказала она наконец, усмехнувшись половиной рта. – Как теперь выражаются: таким путем. А с подчиненными у тебя хорошие отношения? – она повысила голос, глазами показав не неплотно прикрытую дверь в комнату матери. И уже шепотом – Ты пока расскажи еще, к маме сейчас ученица придет.
И Всеволод добросовестно, даже с удовольствием рассказал, что сперва с отделом ему приходилось туго: в Ленинграде, в секторе, все были свои, один организм, друг друга – с полуслова, и вообще в секторе десять душ, а тут сорок с лишним, сейчас уже к пятидесяти подходит. И возраст самый разнообразный: от двадцати до пенсионного, у всех свои характеры, амбиции, – словом, не просто.
– …Но теперь уже ничего. Я даже кое-какие великие открытия сделал, – похвастался он, – вроде бы очевидные вещи, велосипед, а вот, поди ж ты! Когда делаешь что-то вместе, ни за что нельзя людям врать. Ни с какой целью. Никому! Гениально? Далее: только тогда можно требовать, чтобы подчиненные честно делали, что положено, когда уверен, что сумеешь выполнить то, что им за это обещал. Гарантия прав, так сказать. Каково?
– Действительно, открытие..
– Смейся, смейся. А я это правило для себя, можно сказать, выстрадал. И не думай, что очень просто – всегда выполнять, иногда очень даже трудно, просто смертельно, к тому же часто не от тебя зависит. А вот мой, например, предшественник – неплохой, между прочим, парень, и ученый дай бог, и абсолютный недурак, – так у него другой был принцип: намеренно закрывать глаза на разные нарушения. Намеренно! Закрывал. Но… до поры до времени. Чтобы люди постоянно чувствовали себя виноватыми. Такими, знаешь, воришками, которых вот-вот поймают и уличат.
– И уличал?
– А зачем? Ведь вот в чем фокус: когда все время боишься, что поймают, тут уж не до собственных прав, тут любое стерпишь, лишь бы не взяли за шкирку. А не то: «Как? Недоволен? Кто? Ты?! Зарплату, говоришь? Премию за твою работу другому дали? Да ну? Незаконно?! Ох, уморил! Законник…» И покраснеешь, и глаза в пол. Крыть-то нечем: на прошлой неделе в институте ни разу не появился, врал, что сидел в библиотеке, а сам летал в Кишинев – ребенка к бабке отвозил. И все это знали!
– И что же, сидит, помалкивает? – заинтересовалась Инга.
– А то! Куда ж ему, аферисту, деваться! Все рыло в… этом самом. Молчит. Но уж отвернешься – своего не упустит. Так вот, это я, кажется, в своем отделе вывел..
– Слушай, Сева! Ты Лосева часто видишь?
– А что?
– Видишь?
– Вижу.
– Ты торопишься? – вдруг испугалась Инга и опять зашептала: – Я же о главном и не начинала, а это очень, очень серьезно и важно, поверь! Крайне. Во-первых… Господи, да что ж это ученица так опаздывает?
– Ты не беспокойся, мне спешить некуда. А Лосев… Вижу его, вижу, куда он, шлюпик, денется.
– Вы поссорились?
– Ссориться с ним еще?! – Всеволод насупился. – Свинью он мне подложил.
– Лосев – тебе?!
– Лосев. Мне. Он, видишь ли, хочет, чтобы я дал хороший отзыв на плохую диссертацию. Всего-навсего. Но – не просто плохую, а наглую, возмутительную. Супердрянь.
– Господи, зачем ему это?
– Его аспирантка. К тому же… черт его знает! У нас говорят то и се. Божатся, доподлинно, дескать, известно.
– Сева, помилуй! Лосеву же семьдесят лет.
– Седина в бороду… а может, врут. Но факт налицо – умри, а выдай положительный отзыв! Если, конечно, помнишь добро.
– А ты пробовал с ним поговорить? По-хорошему?
– Пробовал. Слушать не желает, уперся как бык. Да еще грозится: вашему, мол, аспиранту у меня через два месяца защищать. Вот так.
– Тогда… Он ведь для тебя очень много сделал, Сева. А в науке и без этой… особы полно проходимцев. Ну, будет еще одна…
– В физике?!
– И в ней, Севочка, не надо делать большие глаза, – засмеялась Инга, но тотчас посерьезнела и стала смотреть на дверь. – Слушай, по-моему, мама ушла.
Она поднялась из-за стола и пошла к двери. Там раздался шорох, створки распахнулись, и на пороге воздвигнулась Элла Маркизовна.
– Не знаете ли, который час? – озабоченно спросила она. – Моя ученица несомненно попала под авто. Пардон, я, кажется, не вовремя.
Но тут наконец позвонили. Элла Маркизовна проследовала в переднюю, оттуда тут же послышался говор. Говорили по-немецки, Элла Маркизовна уверенно и оживленно, собеседница сбивчиво, с длинными паузами и меканьем.
– Все. – Инга села. – Извини, Сева, ты потерял столько времени. Ты не нервничай, но с Антоном… нехорошо.
– Что? Что именно?
– Сева, это кошмар. Я не хотела по телефону, не хотела тебя пугать, но… понимаешь, он все последнее время, ну, перед тем как уехать в Архангельск… он был буквально сам не свой. Я его таким никогда не видела! Это не передать… И… Сева! Такой ужас! Он начал пить!
– Как – пить?! Не может этого… Постой, ты не волнуйся, скажи спокойно. В каком смысле – пить?
– Трижды от него пахло вином! Даже мама заметила. Даже мама! А один раз, совсем незадолго до отъезда… Нет! Не могу! – Инга быстро вытерла глаза.
Дорофеев молча смотрел на нее.
– Он… ты себе не представляешь, что мы пережили! Он пропал! Ушел днем и пропал.
– Не пришел ночевать?
– Вернулся только на следующий день, к вечеру. Я весь город обзвонила, обегала… И в милицию, и в… в «скорую»…
Инга плакала, судорожно сжав кулаки. Дорофеев схватил чашку, налил воды и подал ей. Руки и у него дрожали.
– Прости. Нервы – никуда, – Инга жадно сделала большой глоток. – В общем, явился вечером, бледный, в чужом плаще…
– Где был?
– Не говорит. Я спрашивала, сказал: «Не имеет значения». Прощения просил, что заставил волноваться, а где был – ни слова. И что случилось – ни слова. Лег спать… У тебя сигареты нет?
– Бросил, – виновато признался Дорофеев.
– А в прошлый вторник, – продолжала Инга, перейдя на шепот, – я встретила в булочной Олю Комиссарову. Ты помнишь Олю?
…Олю он помнил – училась с Антоном в одном классе, маленькая, крепенькая, похожая одновременно на воробья и на зайца – два передних зуба смешно торчали вперед. На Антона Оля смотрела с обожанием, Инга всегда мечтала, чтобы сын на ней женился: «Очень славная девочка, какая-то ясная, светлая. И воспитана прекрасно! Отец врач, доцент, мать преподает философию в каком-то вузе..» Но Антону Оля не нравилась.
– Нет, девчонка она хорошая, – как-то с важным видом заявил он отцу, – но как женщина абсолютно не в моем вкусе.
– А какие в твоем? – строго спросил Дорофеев.
Это был их первый с сыном «мужской разговор», Антон в то лето поступил на первый курс и приехал в Москву, где они с отцом целую неделю «жили красивой жизнью». В этот день как раз пообедали в «Софии», потом зашли в кафе-мороженое и теперь не спеша брели по улице Горького.
– А вот, вроде этой! – Антон глазами показал на идущую навстречу длинноногую девицу с распущенными светлыми волосами. Девица была загорелая, в белых джинсах и ярко-синей, облегающей футболке с большим круглым вырезом.
– Ничего, – одобрил Дорофеев, – правда, немного вульгарна.
– Современна! – поправил сын…
– …Так ты помнишь Олю? – переспросила Инга, прерывая воспоминания Дорофеева.
– А? Да, да, конечно!
– Так вот, представь, Оля мне сказала, что он… Сева!.. Он ушел из университета!
– То есть… Куда?
– Господи, да никуда! Ушел и все! Сева, опомнись! Я же тебе говорю – он забрал документы! Перед тем как уехать на Север. Ты понимаешь или нет? Его осенью – в армию, а он… он… Оля сказала, он уже туда ходил, к ним, в военкомат. Он – во флот, на три года… просил… А нам – ничего, ни слова… Я же мать, Сева… Как это? Сева?!
Инга махнула рукой и закрыла лицо ладонями. Из-за стены пулеметной очередью неслись тевтонские фразы.
– Бред какой-то! – сказал ошеломленный Дорофеев. Он все смотрел на Ингу и почему-то думал не о сыне, а о том, как ей удается плакать так, что не слышно совсем ни единого звука. Это казалось странным, неестественным. И тревожило. Поэтому, когда Инга вдруг всхлипнула, он почувствовал облегчение, вместе с которым вернулась способность соображать.
– Это она все, – зашептала Инга. – Наташа эта! Из-за нее…
– Какая Наташа?
– Он разве тебе не писал? Хотя, понимаю, гордиться тут нечем. Безнравственная, злая. А манеры… По ту сторону добра и зла! И он… он с ней… из-за нее… – Инга опустила руки, покрасневшее лицо ее было помятым, мокрым, губы вспухли. – Представь, он оставался у нее ночевать!
– Ну и что? Взрослый же парень! А вот… Черт знает что, в голове не укладывается! Он же – на четвертый курс! Безумие какое-то…
– Да слушай! Я ведь говорю: это она! Я уверена. – Инга опять зашептала: – Понимаешь, он последние дни все звонил ей по телефону, дверь прикрывал. А войдешь, сразу замолчит.
– А ты, – осторожно начал Дорофеев, – ты ему все говорила? Он знает, как ты относишься к… как ее? К Наташе?
– Разумеется! – Инга вскинула подбородок. – Да. Лгать и кривить душой я не умею, не в моих правилах! Тебе это известно. Все высказала! И как называется особа, которая оставляет молодого человека на ночь. Она просто хочет женить его на себе!.. А ты… ты что думаешь, он в армию – назло мне?! Чтобы отомстить?
Дорофеев пожал плечами.
«Не назло, – тоскливо думал он. – Просто – от вас с матушкой».
– Надо что-то делать, Сева. Немедленно! – заявила Инга, решительно вытерев слезы. – Этого нельзя допустить! Бросить учебу, идти в армию, куда тебя никто не звал… Дикий нонсенс! Ну, какой из Тоши солдат? Бог мой! Был бы простой, сильный парень, какой-нибудь слесарь… колхозник, наконец. Он же драться никогда не умел! Нет, Сева, ты должен пойти и сказать…
– Куда? Куда пойти?
– К ректору. И к ним, в военкомат. Пусть они ему откажут! В конце концов, тебе обязаны пойти навстречу, не спорь, я знаю.
– В военкомат не пойду. Это дурь.
Лучше было не смотреть на нее, и, повернувшись к окну, нарочито размеренным тоном Дорофеев продолжил:
– Прежде всего надо выяснить, в чем дело. Почему Антон так решил. Я с ним поговорю, как только он вернется.
– А ведь это ты виноват… – вдруг тихо сказала Инга. – Ты всегда воспитывал из него максималиста. И идеалиста! Ему трудно жить, Сева. Я уже не знаю, что и думать. И я не удивлюсь, если окажется, например, что он разочаровался в филологии и решил все разом бросить, а потом начать с нуля. Ты же вбил ему в голову, будто работа – сплошное удовольствие и полеты вдохновения. А для большинства она, к сожалению, так… необходимое зло.
«Только не хватало, чтобы мой сын отдал жизнь необходимому злу», – хмуро подумал Дорофеев, вытирая со лба пот.
– Надо все выяснить, – повторил он.
– Конечно! Я совершенно согласна. Это ведь вопрос Жизни и смерти. Ты правильно решил: тебе необходимо Сегодня же переговорить с ней. Я все обдумала: во-первых, ей известны причины, во-вторых, переубедив ее…
– Кого? Что я такое решил?
– Да Наташу же! Невыносимо! Я тебе объясняю: она наверняка в курсе дела.
– Это неудобно, бестактно. Выпытывать за спиной у Антона… Нет! Это предательство.
– А не удержать мальчишку, который готов броситься в пропасть, не предательство? Сева, я не узнаю тебя! Это долг отца! Я редко прошу у тебя помощи, но теперь… Я умоляю!
Инга поднялась со стула, и на мгновение Дорофееву показалось, что сейчас она грохнется перед ним на колени.
– Стой! – он вскочил на ноги. – Надо же обдумать! А если… Она ведь может и не согласиться. Скорее всего…
– Она согласна, Сева, согласна! Знаешь, я ведь сперва думала поговорить сама, но потом решила: не стоит. Я могу не сдержаться, сказать лишнее. Испортить. Я ведь дипломат никакой. А ты… Словом, сегодня утром я ей позвонила. Она будет ждать тебя в пять часов у входа в Летний сад. Ты понял? Ровно в пять. Со стороны Инженерного замка.
Надолго замолчали.
– Хорошо, – наконец согласился Дорофеев. – А как я ее узнаю?
– Она тебя сама узнает, видела фотографии. Ох, огромное тебе спасибо, Севочка. Даже легче стало. Я бы без тебя просто умерла! Ты после встречи с ней – сразу ко мне, хорошо? Или нет! Лучше – на улице. Или я приду на вокзал, ты – «Стрелой»?..
– Девятый вагон. Но учти, из этого разговора может ничего не получиться…
– Секретное совещание на высшем уровне завершено? – раздался насмешливый голос. – Или, может быть, я здесь по-прежнему лишняя? Нет, нет, Всеволод, не для вас, дитя мое! Для нее, для родной дочери! – в дверях опять стояла Элла Маркизовна. – Ах, нет? Спасибо, дочь. Всеволод, вы у нас не были целую вечность. Разумеется, это не ваша вина. Я знаю – чья… Пойдемте, я хочу показать вам апартаменты, мы же отделали мою спальню и кабинет Антона. По моей, как вы догадываетесь, инициативе. Инге, увы, никогда ни до чего нет дела. Вся в облаках, вся в облаках…
Стены в комнате Эллы Маркизовны, действительно, были оклеены новыми обоями, белыми с голубыми медальонами, зато беспорядок сохранился вполне привычный: раскиданные книги, пыльные стекла, на подоконнике – всеми забытый стакан с недопитым чаем, над диваном, именуемым, помнится, кушеткой (или козеткой?) – портрет Ингиного отца, известного всему прогрессивному человечеству чучельника. Рядом приколот кнопкой детский рисунок Антона, выгоревший, с обмахрившимися краями. Все как было. Нет! Левее и несколько выше что-то новое. Целый иконостас. Шесть больших окантованных фотографий. На первой слева онемевший от изумления Дорофеев увидел себя самого. Он стоял, по-видимому, на кафедре, не то на трибуне, в объектив попали его грудь, плечи и, к сожалению, лицо с возмутительно разинутым ртом. Фотография была недавней – этот костюм в полоску приобретен год или полтора назад.
– На данном фото, – экскурсоводчески объявила Элла Маркизовна, – вы, Всеволод, запечатлены во время выступления на всесоюзной научной конференции. Здесь вы делаете пленарный доклад о достижениях нашей науки. Я очень, оч-чень хотела быть там и послушать, но… некоторым… было угодно лишить меня радости. Да. Обратите внимание – на этом кадре вы особенно похожи на молодого Маяковского. Одно лицо!
На Маяковского Дорофеев не был похож никогда, тем более на молодого. Но теперь это не играло роли, он уже забыл про собственный портрет – и зря, потому что сейчас «одно лицо» у него было именно с этим портретом: застывшие глаза, приоткрытый рот, тупое, обалделое выражение. Но рассматривал он сейчас другие пять фотографий, на которых узнал (не сразу) своего покойного двоюродного брата Игоря: в фас, в профиль, вполоборота, – склонившегося над письменным столом, во весь рост, улыбающегося, с букетом цветов перед занавесом и, наконец, рядом с каким-то автомобилем, в ватнике, мятой шляпе и с ружьем за плечами.
– Эта фотография… – Элла Маркизовна помешкала, горестно глядя на Игоря с ружьем, – была сделана в тот роковой день, когда Игорь Павлович уезжал на злополучную охоту, откуда ему не суждено было вернуться. Откуда он шагнул в вечность… в бессмертие…







