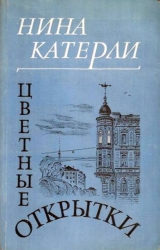
Текст книги "Цветные открытки"
Автор книги: Нина Катерли
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Бледный, весь какой-то жеваный, он стоял около пианино, брал с него одну за другой фарфоровые статуэтки, вертел в руках и, хмыкнув, водружал на место. Мурик посматривал на него с беспокойством и наконец не вытерпел:
– Ты бы там поосторожней, что ли, это же антиквариат, по сто лет вещам.
Лушин медленно, точно с трудом, повернулся к нему всем корпусом, долго смотрел, но не сказал ни слова. Пошел к столу, тяжело сел, придвинул к себе бутылку и рюмку.
Марк все бегал взад-вперед с посудой, Дорофеев с Алферовым взялись помогать, поднялся и Мурик – ходил за ними с пустыми руками и нудил: жаловался на композиторов – задавили, автор текста для них никто, ноль без палочки. Даже на концертах сплошь и рядом: песня, допустим, Блантера. И все. Точно и слова его. Конечно, если ты Евтушенко… Только, между прочим, на стихи самого гениального поэта часто песни написать нельзя, своя специфика. Не зря же говорят: из песни слова не выкинешь. Слова!
– Уж ты-то помолчал бы, – вдруг недоброжелательно сказал Лушин, наполняя рюмку. – Тоже еще поэт-лирик. Державин! Константин Симонов! Слышал я твои «траля-ля» да «а-а-а», смеху подобно! За что только деньги платят!
Он быстро выпил и налил себе еще.
Мурик пожал плечами:
– Что тебе объяснять? Технарь он технарь и есть. А ты еще комплексант, и всегда им был.
– Да кончайте вы базар, ей-богу! – попросил Соль. – Ругаться сюда пришли? Или что?
– М-между п-прочим… – уже с откровенной злобой начал Лушин и встал. Лицо его совсем побледнело, на лбу и переносице выступил пот. – Между прочим, ты, Мурин! Заруби на своем носу: без технарей ни штанов твоих… бархатных, ни «Жигулей», ни жратвы – ничего! А уж без пачкотни вашей… х-ха… Все вы тут… – он оттолкнул стул и, пошатываясь, побрел к двери. Проходя мимо пианино, протянул руку и смахнул на пол фарфоровую балерину. Дорофеев дернулся. Марк удержал его за руку. Через секунду в передней хлопнула дверь.
Все молчали.
– Ну и гнида, – произнес наконец Мурик. – Завистливая мразь. Типичный «маленький человек».
– Надо было вмазать. По сопатке, – мечтательно сказал Дорофеев.
– Тебе бы только – в морду, – подал голос Алферов. – Он, между прочим, совсем не глупый мужик. Только психопат, потому и слушать противно.
Марк, покряхтывая, собирал с полу останки столетней балерины.
– Вообще-то, от хорошей жизни так себя не ведут, – заявил он, выпрямляясь. – И про технаря – бестактность. А уж про «маленького человека»…
– Ах ты, батюшки! – Мурик всплеснул короткими руками. – Пожалел! Защитник! Смягчающие обстоятельства ищет. Да он, этот Вадька, всю дорогу был подонком. Исподтишник! Забыл, как Севке за его подоконник тройку в четверти влепили? По поведению. А он молчал, гад подколодный.
– Ладно, побазарили и будя. Чайник, небось, вскипел. Пошли на кухню, тяпнем по стакану! – распорядился Соль.
Торт, в самом деле, оказался грандиозный – в полстола, весь в кремовых розах и завитушках, а поперек надпись: «ПОЗДРАВЛЯЮ!»
– Жалко резать, имеет художественное значение, – сказал Дорофеев, – мы же тут и четверти не одолеем, а вещь испортим.
– Однова живем, робятушки! – Марк решительно взял нож и располосовал торт.
Все уже разговаривали всерьез, без всяких «ишо» и «чаво», негромкими, спокойными голосами: нормальная беседа немолодых, усталых мужчин.
«Все же сорок… почти сорок лет знакомства – не баран чихнул, – размягченно думал Дорофеев, – из жизни не выкинешь. Вот существовали где-то, каждый сам по себе, а, пожалуйста, встретились – и как родные».
– Это сколько же мы знакомы? – спросил он, перебив Володьку, который объяснял Мурику, почему отказался заведовать отделением.
– Тридцать восемь лет, – сказал Соль. – Нашу школу открыли в сорок четвертом, до того там – помнишь? – госпиталь был.
Володька между тем со страстью поносил каких-то прачек, которые не желают работать полный рабочий день:
– Ведь положено – до пяти, а эти… ну хоть их убей – ровно в два всё уже бросили и по домам… намылились.
– Да тебе-то что до прачек? – удивился Дорофеев. – Ты кто, завхоз?
Володька кинул на него хмурый взгляд:
– А то, что чистого белья для больных… того, не допросишься.
– А ты родственников подключи! – посоветовал Мурик. – У них ведь жены есть, пускай потрудятся, принесут.
– Жены? Да нет. У наших больных с женами как-то… Не густо. Еще когда первый раз попал, тогда ничего, ходят, а так… если хроник или там… – он вдруг замолчал. Все ждали.
– Нету у них жен! Бросают. Старухи у нас посетители… в основном, – нехотя продолжал Володька. – Матери, тетки… Нет! Администрирование – не мое дело! То гляди, как бы персонал из передачи апельсины не… того… то… другую бы выгнал к чертям собачьим, так работать некому! И они это понимают. Вот ведь: полагается лекарство больному дать и проследить, чтобы тут же, при тебе, проглотил. Сестрам лень. Сунут каждому таблетку в руку – иди гуляй. А те ее, таблетку, в унитаз. Они же у нас такие, пациенты… Все уверены, что здоровы, как эти… а мы их, дескать, травим. Лекарствами. Недавно было дело: у одного мужика – бессонница. Возились с ним… аж с пупа сорвались, ну все перепробовали, назначили гипноз. Акт отчаяния. Пока чухались, ему уже свои помогли – собрали со всего отделения эти… таблетки – и ему. Спи спокойно, дорогой товарищ..
– Помер?! – хором воскликнули все.
– Откачали, слава богу. Но с трудом – на отделении-то у нас семьдесят душ. Главное, жалко, – хороший мужик, инопланетянин. С Сириуса… Да..
– Так после этого тебя и… – догадался Марк.
– Да никто меня не трогал, вот еще… – Володька раздраженно махнул рукой. – Выговор влепили, это уж… свято дело. Да что мне выговор ихний! У меня за двадцать пять лет беспорочной службы этих… выговорешников штук десять, а то и двадцать. И благодарностей соответственно. Надоело! Я, видите ли, по специальности врач, мне лечить охота, а не с прачками… того… собачиться. И главное, был бы толк, а то…
«Мне бы его заботы, – с неожиданным раздражением подумал вдруг Дорофеев. – Сколько можно все об одном и том же? Вот недостаток таких посиделок – нету тем для интересных разговоров. Нету! Надо идти, а то завтра пропадешь с больной головой».
Володька точно понял:
– Полчетвертого, между прочим. У вас, бездельников, завтра воскресенье, а мне к девяти – в клинику. И в прошлую ночь – того…
На углу Зелениной поймали такси, посадили Мурика, и он укатил к себе на Гражданку. Перед тем для чего-то длинно объяснял, что хотел поехать к Солю на своей машине, но тогда нельзя было бы пить. На прощание протянул Дорофееву визитную карточку, тот дал ему свою и получил обещание: как только Мурик будет в Москве, непременно позвонит Всеволоду, позовет на концерт, где будут исполняться его песни.
– Потом можно будет где-нибудь посидеть, в ЦДЛ или еще где, – томно сказал Мурик.
Марк с Дорофеевым проводили Володьку до дому, тот отправился спать, а они решили пройтись еще.
Ночь уже сделалась утром, небо начало голубеть. По другой стороне улицы, мимо сада, шипя, прошла поливальная машина, и сразу остро запахло цветущей липой и шиповником.
– Раньше там, – Дорофеев посмотрел на сад, – другая, по-моему, ограда была. Нет? Такая черная, с пиками? И еще фонтан, что-то я его не вижу.
– Засыпали, – сказал Соль, – черт их знает, зачем засыпали, хороший был фонтан, я в него как-то раз свалился. Я в этом садике до войны с дедом гулял. Сверзился в фонтан, вымок весь, а дед меня еще и выдрал! – он радостно заулыбался и стал очень похож на Марка из прежней, школьной жизни.
– Я тоже тут бывал. С нянькой. Может, доводилось встречаться в песочнице?
– Все возможно… Только я здесь – редко, раз в месяц. Когда к деду в гости приезжали. А так мы жили на Московском, то бишь тогда – на Международном, само собой. У «Электросилы». А уж потом в наш дом снаряд – бац, а мы – к деду.
– Ты – всю блокаду?..
– Ага… А вот, знаешь, интересно: сколько всего было, ну… жуткого – дедушка умирал, сестра… И обстрелы. И голод – засыпаешь, кушать хочется, проснулся – то же самое, и во сне – еда. Сколько раз мне снилось: беру пирожное, подношу ко рту – и, как назло, сразу просыпаюсь! Ну вот… Я что хочу сказать? Почему-то как самое страшное запомнилось не это, не голод, не бомбежки, а как в самом еще начале над Международным фриц летал. И вот нарисовал, гад, на небе здоровенную такую свастику. Она, зараза, потом долго висела, и ничего не сделаешь, такое бессилие!
– А мы были в эвакуации, – почему-то виновато признался Дорофеев, – в Горьком. Потом в мае сорок четвертого отец прислал вызов, вернулись. Двадцать девятого мая, как сейчас помню.
Он в самом деле до мелочей помнил, как они с матерью возвращались домой. Ехали шикарно, в мягком вагоне – горьковский радиокомитет расстарался. Целыми днями Всеволод торчал в коридоре, высунув голову в открытое окно. Мать ругалась – влетит в глаз уголь, ослепнешь. Поезд еле тащился, подолгу стоял. И чем ближе к Ленинграду, тем чаще попадались ворон к и, деревья со срезанными верхушками, окопы, разбитые вокзалы.
Встретил их отец, и Всеволод был поражен. Он, по правде говоря, встречи немного побаивался, знал, что отец потерял ногу, инвалид, а инвалидов он достаточно навидался в Горьком, в эвакуации. А еще хорошо помнил безногого дядю Толю, вернувшегося год назад к их соседке, тете Тасе. У дяди Толи вместо ноги была культя, а от колена – деревяшка, толстая, сужающаяся книзу. Вот на ней дядя Толя и скакал, опираясь на костыль и оглашая двор руганью и угрозами сегодня же убить эту суку Таську.
У отца никакой культи и деревяшки не оказалось. Очень худой, но улыбающийся, одетый в довоенный костюм, он, хромая, шел по платформе им навстречу. Потом мать объяснила – протез.
С вокзала ехали на «виллисе», мать – рядом с шофером, Всеволод с отцом на заднем сиденье. В маленькие мутные окошки разглядеть ничего было нельзя, так что город Всеволод увидел только выйдя из машины около своего дома. Увидел и опять удивился, думал – крутом развалины, надолбы, осколки бомб и снарядов, а все как до войны, только окна в домах забиты фанерой. Мать постояла на тротуаре, посмотрела по сторонам, потом вдруг быстро опустилась на колени и поцеловала каменную ступеньку перед парадным.
Дорофеев вспомнил это сейчас, когда, дойдя до угла, они с Марком повернули направо, и он увидел его – свой старый дом на углу Ропшинской.
Дом, видно, только-только кончили красить, на широком асфальтовом тротуаре штабелем были сложены щиты «лесов», невысохшая дверь влажно блестела. Осторожно открыв ее, Дорофеев шагнул в подъезд. Марк деликатно остался ждать на улице.
Лампочка на лестнице, как всегда, не горела, пыльный свет падал от окна на площадку между первым и вторым этажами. Пахло масляной краской и сырой штукатуркой, и это сразу напомнило конец каникул и школу, куда явился на медосмотр.
По этой лестнице Дорофеев мог подняться в полной темноте, мог – с завязанными глазами. Мог, не глядя, нащупать кнопку звонка квартиры, возле которой сейчас стоял. На эту кнопку он в былые времена не раз нажимал из чистого хулиганства – чтобы тотчас пулей взлететь на третий этаж и слушать оттуда, как лает криволапая дворняга Тайна и ругается, распахнув дверь, ее горластая хозяйка, низенькая, но очень свирепая старушка. У Тайны был хвост кренделем и гулкий бас, так что, не видя ее, можно было подумать, что лает здоровенный волкодав.
В трех шагах от двери в эту квартиру имелись две коварные ступеньки, с которых, если не знать, в темноте можно здорово навернуться, за ступеньками – площадка, еще пять шагов, и вот она – лестница, перила с железными завитками и деревянными… как они называются? Поручни? Словом, то, по чему скользишь рукой, сбегая вниз, по чему можно съехать на животе, наплевав на зловещие рассказы взрослых про хулиганов, нарочно вставляющих в перила лезвия бритв, так что один мальчик… а другой мальчик – тот вообще, ужас, ужас! – упал в пролет с четвертого этажа и сломал позвоночник.
Дорофеевы жили на пятом, последнем этаже, а между четвертым и третьим в решетке перил с самой войны оставался пролом, кое-как заделанный толстой проволокой. Двадцать семь лет назад Всеволод, перешедший на четвертый курс университета и только что вернувшийся со студенческой стройки в пустую квартиру (мать с отцом были на Кавказе, а соседка отдыхала, кажется, в санатории, в Зеленогорске), встретил, спускаясь по лестнице, около этого самого пролома почтальоншу, которая вручила ему телеграмму-«молнию». В телеграмме, посланной из Сухуми и подписанной неизвестной фамилией Ковальчук, сообщалось, что его родители, Дорофеевы Татьяна Константиновна и Евгении Михайлович, погибли два дня назад в автомобильной катастрофе…
…Дорофеев не стал подниматься но лестнице. Постояв минуту у двери, за которой когда-то грозно лаял беспородный страж – Тайна, он медленно повернулся и вышел на улицу, где ему показалось очень светло. Марк Соль терпеливо ждал на другой стороне у газетного щита и радостно сообщил ему, что вчера на Гражданку заходили два лося.
– Как бы эти кровожадные звери не забодали там нашего Мурика! – Соль ткнул пальцем в газетный лист.
– Давай дойдем до школы, – предложил Дорофеев.
Марк кивнул, они свернули налево, прошли квартал, и тут из подворотни им навстречу вывалилась компания – трое парней лет по двадцать. Галдели они так, точно их было по крайней мере десятеро. Справа, широко шагая, шел мордастый тип с какими-то растопыренными, кривоватыми ногами и плечами борца. Что есть силы он дергал струны гитары, вызывая этим совершенно омерзительное дребезжание, которое сопровождал беспорядочными гнусавыми выкриками. Рядом с ним выступал довольно стройный молодой человек, одетый в футболку с надписью «GUNS DON'T DIE PEOPLE DO», то бишь «умирают не ружья, а люди». Голова его была обрита наголо, под носом небольшие темные усики, выражение лица агрессивное… ну и соответственно несколько блатное. Третий, длинный, весь какой-то расслабленный, узкоплечий, еле держался на ногах, все гнулся в разные стороны, как вареная макаронина. Глаза его были до того пустыми, что казались сквозными отверстиями. Рот длинного был широко распахнут, и оттуда несся бессмысленный, некрасивый рев.
– Вот они, твои дикие звери, любуйся, – вполголоса сказал Дорофеев.
Марк ухмыльнулся. И стриженый с усиками тотчас шагнул к нему, держа руки в карманах.
– А ну, дед! Утри шнобель и захлопни пасть – чесноком воняет. Ну! С-сука!
– Ладно, ребята… – миролюбиво начал Дорофеев, оттесняя Соля, но тот, кретин несчастный, задрал башку и назидательным тоном на всю улицу провозгласил:
– Не смешно, и, как гласит литература, крикливым павианам место в зоопарке.
Блатной не спеша вынул руку из кармана и вдруг легко, ладонью снизу, пихнул Марка в подбородок. Тот отлетел и грохнулся на тротуар.
Делать было нечего: Дорофеев схватил блатного за руки у плеч, рванул на себя, а ребром подошвы как следует врезал по лодыжке.
Студенческие занятия борьбой, видно, не забылись – блатной боком рухнул на мостовую, лязгнув рожей об асфальт, и тотчас к Дорофееву качнулся долговязый.
Дорофеев шагнул навстречу. Давно забытое чувство яростного азарта охватило его. Не упуская из поля зрения мордастого с гитарой (тот пригнулся, сунув руку в карман), он поймал длинного двумя руками за запястье, резко развернул, оказавшись за его спиной, и толкнул вперед, на мордастого. И угадал: в ту же секунду кулак дружка с хрустом врезался длинному в лицо. Тот крякнул, начал оседать, Дорофеев выпустил его, и он кулем повалился на землю. Из носа, заливая рубашку, хлестала кровь.
Мордастый секунду постоял, ошалело глядя на приятеля, потом вдруг метнулся в сторону и, не оглядываясь, побежал прочь. Дорофеев повернулся к блатному. Тут все было в порядке – парень лежал вниз лицом, руки его были аккуратно завернуты за спину, верхом на нем сидел Марк. Длинный тем временем приподнялся на локте и теперь пытался встать на четвереньки.
– Зубки целы? – заботливо спросил его Дорофеев, потирая собственное плечо. В ответ хлынул поток разнообразных слов, среди которых цензурными были только «падла» и «кастет».
– Во-он что!.. Он тебя кастетом? Ай-ай. Я бы на твоем месте сообщил куда следует. Маркуша, вставай, они больше не будут. Правда, джентльмены?
«Джентльмены» вяло матерились.
Через десять минут Марк с Дорофеевым были уже у Володькиного дома. Шли проходными дворами.
– Плечо болит, не иначе вывихнул, – пожаловался Дорофеев. – Стар я, видно, руками махать.
– Противно, – медленно произнес Марк. Вид у него был неважный – колени в какой-то грязи, пуговицы на рубашке оборваны.
– А ты у нас вполне. Супермен. И не подумаешь, что профессор, – с завистью сказал он, поглядев на Дорофеева снизу вверх. – Ну, бывай, старуха! Звони.
Они простились, и Марк, прихрамывая, побрел по пустой улице. Дорофеев смотрел ему вслед, пока тот не завернул за угол. Все же свинство, надо бы проводить, но уж очень гудели ноги, да и выспаться не мешало – завтра полно дел, надо, чтоб была свежая голова.
Проснулся Всеволод Евгеньевич довольно поздно. Ныло плечо.
«Растренировался, герой полудохлый», – потянувшись, подумал он. В самом деле, когда дрался в последний раз? Незадолго до переезда в Москву, значит, больше четырех лет назад. Да и не драка это была, а так… Влип тогда из-за Ляли, затеяла кокетничать с каким-то балбесом на платформе в Пушкине, тот пристал, ну и… Чуть оба в милицию не загремели. И дома неприятность – как же, отец семейства явился после лыжной прогулки с подбитым глазом. Наврал, что наткнулся на палку. Инга сделала вид, что поверила… Противно вспомнить… А вот сын, тот никогда не дерется. И в детстве не умел. И не хотел. Когда Антон был маленьким, Дорофеев не раз пытался научит!», показать основные приемы – надо же уметь хотя бы постоять за себя. Сын упрямо тряс головой: «Обойдусь». И верно – до сих пор обходится. Удивительный парень – в военные игрушки не играл никогда. Сколько покупали разных там танков, пушек, автоматов – все валялось в пыли на шкафу: «не интересно». А солдатиков, тех наряжал в какие-то платьица, мантии, – это была королевская свита.
А вот у Дорофеева в детстве без драк не обходилось. Первый раз по-настоящему он подрался в Горьком, в эвакуации, в день приезда. Вернее, дракой это назвать нельзя, – просто его побили. Мать еще распаковывала вещи, а он вышел во двор. Маменькин сынок, «Гога», – челочка, брюки-гольф с манжетами под коленкой, туфли на ремешках. И тотчас его окружили трое пацанов. Эти были, как положено, в клешах, замурзанные, у самого старшего, лет десяти, в зубах самокрутка. Не сказав ни слова, они, деловито сопя, принялись делать Всеволоду «Пятый угол» – толкать, что есть силы, от одного к другому, как футбольный мяч. Командовал большой, с самокруткой, по фамилии Кухарский (впрочем, фамилию его Всеволод узнал много позже).
– Лягва, держи! – крикнул он и первым пихнул Дорофеева в спину.
Тот пошатнулся, но на ногах устоял и, тотчас больно получив кулаком в бок от большеротого Лягвы, полетел дальше, навстречу третьему, совсем маленькому. Маленький толкнул его обеими руками прямо в живот. Ничего не видя перед собой сквозь слезы, заливавшие лицо, Дорофеев упал прямо на Кухарского и вдруг почувствовал, как по его лицу медленно проехалась липкая пятерня.
– Дай ему, Кухарь, дай! – азартно верещал Лягва.
Дома Всеволода никогда не били. Ставили в угол, оставляли без сладкого. Но бить, да еще по лицу!.. Он вдруг заревел в голос, бросился на Кухаря и мертвой хваткой вцепился тому в рубашку на груди. Они покатились по земле, и очень скоро Всеволод оказался лежащим на спине, а Кухарь сидел на нем, молотя по чему попало. Но Дорофеев уже не чувствовал боли.
Потом-то он знал в себе это качество – в ярости не чувствовать боли, знал и пользовался им во время решающих драк, но тогда не думал вообще ни о чем, поймал, изловчившись, бьющую его руку и вцепился зубами в мизинец.
Кухарь завыл как резаный, задергался и кулаком свободной руки ударил Дорофеева по голове, но тот, зажмурившись, только крепче сжал зубы. На помощь вопящему вожаку, опомнившись, кинулись Лягва и маленький, теперь Дорофеева дубасили уже трое, он слышал, как трещит рубашка, глухо ощущал удары, но, не разжимая зубов, яростно отбивался руками и ногами.
Их разняли какие-то большие ребята, просто раскидали в разные стороны, как щенят. Севка явился домой весь в ссадинах, с разбитым носом, в порванной рубашке. Мать села на табуретку и заплакала. Но спрашивать ни о чем не стала, повела на кухню к рукомойнику.
Кухарь с того дня к Дорофееву больше не лез, и вообще во дворе его не трогали, быстро разнесся слух, что «Севка из Ленинграда – психованный».
Много лет спустя, взрослым, вспоминая свои детские драки, Дорофеев не раз удивлялся, до чего же все у всех одинаково! Особенно у людей одного поколения. Точно про такие вот драки чистенького приезжего мальчика с местной шпаной он читал едва не в каждой книге про войну, где герой был его ровесником. И непременно с одной стороны короткие штаны и челочка, а с другой – «брюки клеш и чуб, а то и просто стрижка наголо, «под ноль». И кончались эти истории с драками обычно так: городской мальчик, сперва заробев, в конце концов стервенел и доказывал в честном бою свое право на «место в стае», делался среди аборигенов своим. Аборигены же, в свою очередь, оказывались, как правило, вовсе не шпаной, а нормальными, даже хорошими ребятами.
Так было в литературе, и не случись всего этого с самим Дорофеевым, он, пожалуй, решил бы, что эти «военные» драки – просто «бродячий» сюжет: не хватает у авторов фантазии выдумать что-нибудь пооригинальнее, вот они и повторяют все одно и то же. Но так было – никуда не денешься – и в его собственной жизни, и в жизни многих его сверстников, тех, кому пришлось побывать в эвакуации.
Дракой с Кухарем дело не кончилось. Когда через неделю Дорофеев пошел в школу, ему снова пришлось утверждаться с помощью кулаков.
В школе «стыкались» регулярно и без особенной злости, просто чтобы определить, кто главный. Дорофеев пришел в конце сентября, места уже были распределены, и на самом верху стоял Генка Ковин, маленький, верткий и жилистый. За ним, с небольшим отрывом, шел уже знакомый Дорофееву Лягва. Третьим был Витька Мазунин по прозвищу Мазунчик. С самой первой встречи он невесть за что возненавидел Дорофеева, но драки почему-то не начинал. Дорофеев же хорошо запомнил бой с Кухарским, драк остерегался, и это было ошибкой: не прошло и недели, как в классе его стали считать самым слабым, трусливым и жалким. Словом, последним человеком. Его дразнили и пинали все кому не лень, даже Воробьев, щуплый, маленький Воробей – на физкультуре он всегда стоял последним в шеренге.
Однажды, когда зареванный Дорофеев пытался отмыть в раковине рукав куртки, который Мазунчик только что облил чернилами, к нему подошел Ковин.
– Чего сопли распустил? – деловито осведомился он.
– Н-ничего… – сквозь слезы выдавил Дорофеев.
– А ничего, так и нечего! Смотреть противно. Дал бы ты Мазунчику в рыло! Он же трус, хоть и здоровый. Его все боятся, вот он и нахальный. Меня же не трогает. Пусть бы полез! – воинственно сказал Генка и длинно сплюнул на пол. – Ты ему еще так дашь, гадом буду! Он большой, а все равно трухлявый. А ты коренастый! У тебя плечи – во, – и руками он показал, какие у Севки невероятные плечи.
Может быть, Всеволод еще не скоро решился бы подраться с Мазунчиком, но на следующий же день перед первым уроком тот, проходя между партами, плюнул ему в тетрадь, испортив домашнее задание. Сердце Дорофеева заколотилось, он покраснел, вскочил и быстро, со всхлипом, сказал:
– Стыкнемся?
Мазунчик аж рот раскрыл. В классе стало тихо. А Дорофеев, чувствуя непривычную легкость, повторил:
– Ну, стыкнемся?
Для драк в школе существовал особый кодекс. Школа – не двор, где Кухарь с дружками могли втроем дубасить одного. В школе «стыкались» только один на один, лежачего и ниже пояса не били, драка продолжалась или до первой крови или до победы, то есть пока кто-то из противников не попросит пощады. В здании школы «стыкаться» по-серьезному было невозможно, для этого использовали дальний угол двора за сараем.
В тот день после уроков к сараю явился весь класс. Солидно расселись на бревнах, кое-кто даже залез на крышу. «Стыкаться» было решено до победы.
Саму драку Дорофеев не запомнил. Помнил только, что боли не было, было слепое бешенство, вместе с которым ударами выплескивалось все: злоба на Кухаря, обида на класс и ненависть к Мазунчику. И Мазунчик сдался, сдался! Попросил пощады по всем правилам, а до того пытался хитрить – валился на землю, а бить лежачего нельзя, так что Дорофеев сам поднимал его и лупил снова.
– Я ж говорил, ты коренастый, – уважительно сказал Ковин после драки.
Больше Мазунчик не приставал. Вел себя так, точно Дорофеева не существует.
Потом Всеволоду пришлось, как положено, «стыкнуться» с Лягвой и еще несколькими желающими – для восстановления рассыпавшегося ранжира. Каждый день он приходил из школы в синяках, со сбитыми в кровь костяшками пальцев, и вскоре за ним прочно утвердилось второе место на иерархической лестнице – после Ковина. И вот к концу полугодия Дорофеев был уже одним из самых уважаемых людей в классе. К этому времени он уже имел прозвище Крузо. Образовалось это прозвище так.
Однажды свидетельницей одной из драк оказалась молодая учительница Мария Анатольевна. Дерущихся она разогнала, а Дорофеева укорила:
– Нельзя быть таким бешеным, ты же человек, а не… зубробизон.
Севку с того дня так и прозвали, сперва Зубробизоном, потом почему-то Зуб-Робинзоном, а потом уж и вовсе Робинзоном Крузо. Крузо так Крузо, с этой кличкой он и дожил до отъезда из Горького.
С Ковиным они подружились. Дорофеев пересел к нему на последнюю парту и давал списывать арифметику. Арифметика шла у Всеволода легко, а вот писал он неграмотно, делая непонятные, дикие ошибки: «гудок гудует», «адрис». Это осталось на всю жизнь.
Когда наступила весна и на Волге начался ледоход, Генка научил его кататься на льдинах. Однажды, стоя рядом на большой надежной льдине, быстро, как пароход, движущейся вдоль берега, они увидели рядом, меньше чем в метре, ледяной атолл – прозрачный, голубой бублик, сверкающий на солнце, как леденец.
– Крузо, гляди! – крикнул Генка, и не успел Дорофеев слова сказать, оттолкнулся и перемахнул на «бублик». Но тотчас поскользнулся, сел и, вопя, задом съехал в воду. Удивительное дело, плавать Генка, выросший на Волге, не умел, колотил ногами, а руками хватался за край льдины, но пальцы срывались, а лед крошился. Дорофеев протянул руку и моментально оказался в воде. Теперь они уже барахтались вдвоем. Дорофеев кое-как держался: прошлым летом на даче в Токсово отец научил его плавать «по-собачьи». Продолжалось все это не больше минуты, в конце концов Всеволоду каким-то чудом удалось вползти животом на льдину, да еще втянуть Генку, схватившего его за ноги.
В тот же день Генка торжественно заявил, что теперь они с Крузом друзья на всю жизнь. До гроба. И стали они друзьями на всю жизнь, до мая сорок четвертого года, когда Дорофеев уехал с матерью в Ленинград.
Сейчас, лежа на диване в пустой алферовской квартире, вслушиваясь в уличный шум, доносящийся из открытых окон, Дорофеев вдруг подумал: а ведь такого друга, как Генка, у него потом, пожалуй, никогда больше и не было.
…А Генки не стало еще в сорок пятом году: той зимой от горьковской соседки тети Таси пришло вдруг письмо, где среди сообщений про разные новости была короткая фраза: «А у Ковиных беда: Генка помер». И больше ни слова.
Всеволод сразу решил тогда, что Генка, ясное дело, погиб в драке – заступался за кого-нибудь и был убит хулиганами. Что случилось на самом деле, он так и не узнал, тетя Тася больше не писала, даже на письмо его матери не ответила. В последние годы Дорофеев несколько раз решал, что во время следующего отпуска обязательно заедет в Горький, походит по старым местам, найдет кого-нибудь из знакомых. И непременно узнает все про Генку. Решал… а потом находилась причина отложить поездку еще на год.
…Да, такого друга, как Генка, больше не было, это точно. Конечно, Володька… Но он – совсем другой, да и теперь это, в общем, тоже прошлое. Встретились, а о чем говорить? О прачках?
А в Москве, где прожито целых четыре года? Есть там друзья? Приятели – да, масса симпатичных, милых… вполне взаимозаменяемых людей. И только… А может, в этом возрасте закадычных друзей и не бывает, вместо них – семья?
Тут Дорофеев решил, что, пожалуй, пора вставать и звонить Инге. Подвигал рукой, плечом – больно, но ничего, не смертельно. Интересно, как там Соль?
Никаких дел, кроме разговора с бывшей женой, он на сегодня не намечал. Хорошо бы еще оставшиеся часы побродить по городу, а к шести, к Володькиному приходу, вернуться.
Инга сняла трубку сразу и нервно заявила, что ждет его звонка со вчерашнего дня: «Ты же обещал, что приедешь в субботу. Почему звонишь только сейчас? Где ты остановился?»
Ничего не стоило соврать: мол, задержался, только что с поезда, живу в гостинице, телефона здесь нет. Но унизительность лжи Дорофеев постиг раз и навсегда, еще со времени злополучного романа с Лялей. Поэтому, предвидя последствия, он все-таки сказал, что приехал вчера «Стрелой», но был занят – юбилей друга детства.
Это был правильный ход. К таким понятиям, как «друг детства», «мужская дружба», «личная свобода» и прочее в том же духе, Инга всегда считала себя обязанной относиться с уважением и, как могла, это подчеркивала. Но сегодня «друг детства» вошел в антагонистическое противоречие с «интересами Ребенка», поэтому, хоть и смягчившись, она четко сказала, что все же следовало выбрать вчера время, хотя бы час, для предварительной с ней встречи. А теперь он может не успеть организовать один… важный разговор с… одним человеком.
– С каким человеком?
– Это – когда увидимся. Но крайне необходимо. Для Антона. Приезжай немедленно.
– Буду в двенадцать, – сказал Дорофеев и сразу положил трубку.







