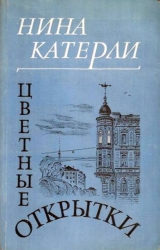
Текст книги "Цветные открытки"
Автор книги: Нина Катерли
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Голос Эллы Маркизовны дрогнул, потрясенный Дорофеев перевел глаза с Игоря на нее и увидел, как из-под оправы очков по морщинистой щеке медленно ползет небольшая плоская слеза. Он посмотрел на Ингу, та стояла потупясь.
Фантастика! Всеволод Евгеньевич голову мог дать на отсечение – с Игорем ни Инга, ни тем более теща знакомы практически не были. Видали один раз, Инга от силы – два. Да и какое могло быть знакомство, если и сам-то Дорофеев отношений с ним почти не поддерживал. Так уж сложилась у обоих жизнь, к тому же Игорь был на десять лет старше – в то время рубеж непреодолимый. Правда, как раз последний год Дорофеев довольно часто вспоминал двоюродного брата: во многих театрах вдруг пошли его пьесы, про которые говорили, что пока, мол, жив был автор, их никто не брал. Всеволод Евгеньевич постоянно натыкался на афиши, где крупными буквами значилось: ИГОРЬ ДОРОФЕЕВ. Спектакли имели успех, так что, когда Всеволод Евгеньевич собрался пойти посмотреть, билеты пришлось доставать через лосевского знакомого. А совсем недавно вышел сборник рассказов Игоря, Дорофеев читал рецензию в «Литературке», донельзя хвалебную, где мелькали «незаурядное дарование» и «тонкий психологизм». Там же было сказано, что готовится к печати исторический роман. Возвращаясь со спектакля, который ему понравился, Всеволод Евгеньевич думал, что вот жил, оказывается, рядом талантливый, бесспорно умный человек, очень, как сейчас выяснилось, во многом близкий. И глупо: могли дружить, встречаться… Не получилось. И уже не получится.
Но здесь-то все это откуда? Вон и афиша в простенке между окнами. А Элла Маркизовна между тем показывала снимок, где Игорь сидит за столом, и поясняла, что там запечатлен торжественный момент окончания какого-то «Ледяного озера».
– Чего?
– «Ледяное озеро» – вставная новелла в романе, – слегка смущаясь, проговорила Инга. – Название подсказала Тамара, так Маша говорит, а Тамара молчит. Вот, не можем решить вопрос, как назвать роман в целом. Игорь ведь не успел придумать. Я предлагаю просто «Сорок лет».
– Плоско, – пренебрежительно отмахнулась Элла Маркизовна. – И не тебе, Инга, решать такие вопросы. Не тебе! – Она всем корпусом повернулась к Дорофееву. – Видите ли, Всеволод, Тамара колеблется, и она права! Как говорят: благородство заставляет! Название произведения во многом определяет его судьбу. Игорь Павлович любил повторять: «Озаглавить вещь – все равно что дать имя ребенку. От этого зависит его биография». Представьте – девочку зовут Фекла или… Елизавета. Есть разница? – Элла Маркизовна расхохоталась. – Да. Редкий дар. И прозорливость, ведь это по его подсказке Антона назвали в честь великого Чехова. И, пожалуйста, мальчик стал литератором.
…Это был уже полный сумасшедший дом! Всю жизнь было известно, что Антон носит имя деда, отца Инги. И что еще за Тамара? Впрочем, так, кажется, звали жену Игоря… А Маша? Черт с ней, с Машей… Главное, при чем здесь Элла Маркизовна? Инга?
Видимо, все эти соображения отразились на лице Дорофеева, потому что Инга вдруг сказала:
– Не падай в обморок. Сева, мир довольно тесен.
– Какие обмороки, Инга? Помилуй! – тут же возмутилась Элла Маркизовна. – Почему мы со Всеволодом не можем поговорить о наших родных? О наших великих родных! Оч-чень, оч-чень странно… Тебе это, возможно, не понять, но мы, близкие, законно гордимся успехами Игоря Павловича. Нельзя быть Иванами, не помнящими… м-м… отца, Игорь первый большой писатель в нашем роду, Всеволод – первый большой ученый. Еще когда мы жили в поместье, моя мама любила повторять… – и Элла Маркизовна закатила фразу по-эстонски.
Инга с Дорофеевым терпеливо ждали.
– То-то и оно! – торжествуя, закончила теща.
– Понимаешь, Сева, – сказала Инга, – так уж получилось. В общем, этой весной мы с мамой поехали гулять. На кладбище.
– Куда?!
– В «Некрополь». К Тургеневу! – залихватски выкрикнула Элла Маркизовна, почему-то развеселившись. – И, конечно, к Писареву!
– Да, на могилу Тургенева, – подтвердила Инга, – И вообще походить. Там же «Литераторские мостки», ты знаешь. Ну вот, видим памятник: Дорофеев Игорь Павлович. А рядом – женщина убирает могилу.
– Чуде-е-сный памятник! Я сразу подошла, – вклинилась Элла Маркизовна. – Надо же было выяснить, кто эта женщина. Ведь мы, как-никак, Дорофеевы, ближайшие родственники покойного…
– Она сказалась очень милым человеком, Тамара, – Инга довольно бесцеремонно перебила мать, – мы представилась, и она… знаешь, она была очень рада. Видимо, тоже… одинокий человек. И так трогательно относится к памяти мужа! Это ведь во многом ее заслуга – постановки, книжка. Ты-то, кстати, прочитал?
Дорофеев признался, что видел только рецензию. Непонятно почему, ему было неловко, даже стыдно чего-то. Чего?
– Мы достанем для вас книжку, я поговорю с Тамарой. Мне она не откажет, – величественно пообещала Элла Маркизовна. – На днях я буду у нее, необходимо обсудить подготовку к юбилею. Вам, Всеволод, я непременно, не-пре-мен-но вышлю приглашение. Шестидесятилетие Игоря Павловича! Это будет в декабре, и мы, самые близкие, решили добиться издания сборника воспоминаний. Под редакцией Тамары. Любочка сказала Марусе, что напишет о детских годах. Я пишу о начале карьеры драматурга…
Конец света! У Дорофеева уже сил не было спрашивать, что за Любочка, он беспомощно оглянулся на Ингу, и та, слегка порозовев, принялась объяснять, что они с матерью восстановили в памяти тот эпизод, – помнишь? – как Игорь зашел к ним с репетиции. Он еще тогда так забавно рассказывал, как один актер бегал по сцене, точно слепой крот, все натыкался на декорации.
Какие рассказы? Какие артисты?! Игорь тогда просидел у них не больше двадцати минут! Юбилей человека, который не узнал бы их на улице. Посторонняя Любочка, потусторонняя Маша, мемуары…
Дверь в комнату сына была открытой. Заглянув туда, Дорофеев увидел аккуратные ряды книг на полках, прибранный письменный стол, диван, закрытый старым паласом. На этом диване когда-то спали они с Ингой, а Антон – через стенку, в столовой. Теперь, в столовой, по-видимому, спит Инга.
В отличие от двух других комнат, в комнате сына был порядок, какой-то очень знакомый порядок. И Дорофеев вдруг понял: вещи здесь расставлены так же, как у него самого в Москве.
– Сева, который час? – спросила Инга, значительно на него посмотрев. – Я боюсь, тебе не удастся выполнить все, что ты собирался.
– Инга! Бог мой! Манеры! – заклокотала Элла Маркизовна. – Человек пришел в собственный дом, а ему пытаются указать на дверь! Всеволод – кузен нашего Игоря, пойми!..
Дорофеев не мог больше здесь оставаться – среди этих стен, вещей, портретов. Не мог смотреть на лица этих двух женщин.
Он быстро простился и ушел.
Дорофеев ожидал увидеть шикарную блондинку, что-нибудь ультрасовременное, а подошла девчонка как девчонка – гладко причесанная на прямой пробор, в джинсиках и белой рубашке с закатанными рукавами. На девицу, некогда показанную Антоном на улице Горького, эта походила разве что высоким ростом, да и сложена была безупречно, а так… Но вот она сдержанно, без улыбки поздоровалась, вот повернула голову, и Дорофеев увидел косу, длинную, ниже пояса, увидел профиль и внезапно обрадовался: а ведь красавица! Нормальная красавица, и поразительно, что прохожие, дураки, не сворачивают шеи, чтобы посмотреть на нее. Никакой косметики, ничего броского, яркого, вызывающего, зато – высокий чистый лоб, и женственность, и эта коса… А губы… Дорофеев поспешно отвел взгляд и вдруг почувствовал, что плохо выбрит, устал и вспотел, да и рубашка… Надо было надеть другую, американскую, с крокодилом, вышитым над карманом! И штаны вельветовые зачем-то оставил в Москве!..
Наташа молчала. На лице ее было терпеливо-вопросительное выражение. До чего хороша, черт возьми! Молодец сын. А Инга, теперь ясно, просто ревнует.
С подчеркнутым уважением, даже слегка старомодно Всеволод Евгеньевич взял Наташу под локоть и предложил пойти куда-нибудь посидеть. Ну, там в ресторан, в кафе, куда угодно.
– А хотите, в «Приморский»? Это на Петроградской стороне, бывший ресторан Чванова. Не бог весть что, но кухня там недурна, а народу в пределах разумного…
– Не стоит, – сказала Наташа, отстраняясь. И тихим, глуховатым голосом пояснила, что ресторанов не любит вообще, да и времени нет.
– Не стоит, – повторила она и полезла в сумку. Достала пачку «Мальборо» и не спеша закурила.
– Ну, как вам будет угодно, – мягко согласился Дорофеев. – Как угодно, я и сам-то… Где же поговорим?
– Здесь.
«В чрезмерной любезности нашу барышню, пожалуй, не упрекнешь, – подумал Всеволод Евгеньевич, упорно улыбаясь, – тут Инга все-таки права».
Они медленно шли по дорожке вдоль пруда. Наташа молча курила, Дорофеев, сбитый с толку ее тоном, мялся, не решаясь начать разговор. Наконец она затянулась, выпустила дым и, глядя перед собой, ровным голосом сообщила, что догадывается, вернее, знает, зачем Всеволоду Евгеньевичу понадобилось ее видеть, да, знает, и должна сразу предупредить, помогать ему не будет. Не хочет.
– А если бы и очень захотела, и то не смогла бы. Антон не тот человек, на кого можно влиять. Если решил, выполнит. Он человек слова, – почему-то с торжеством заключила она.
– Что же это он такое грандиозное решил, наш железный человек слова? – начал было Дорофеев, но, взглянув на нее, осекся.
– Наташа, – сказал он, впредь решив игнорировать и эти поднятые брови, и другие… «знаки внимания», непонятные и обидные. – Наташа, поймите, я от вас ничего не хочу, никакой помощи. Мне нужно знать, что случилось, больше ничего. Если это, конечно, не секрет.
– Почему секрет? – она пожала плечами. – Просто Антон не хотел, чтобы знали дома. Пока не хотел, чтоб не волновать раньше времени…
«…и чтоб не вмешивались, не рыдали, не побежали к ректору», – мысленно докончил Дорофеев.
– Ясно. А в чем дело? Почему он решил уйти?
– Ну, это долго объяснять. И, наверное… бесполезно… – хмуро сказала она. – Понял, что так будет лучше.
– А что это значит «лучше»?
– Лучше – это лучше. А хуже – это хуже.
Дорофеев с большим трудом подавил в себе желание поставить красавицу на место и прекратить разговор.
– Но, может быть, вы попробуете мне все же объяснить, чем ему вдруг не угодил университет?
– Университет?! При чем тут… Просто – вообще… Надоело.
– Что надоело?
– Что надоело? – Она резко остановилась и вскинула голову. – А в мальчиках ходить до ста лет надоело!..
И… вот: объяснять спой каждый шаг. Как сейчас! Почему-то, почему – это, зачем – так… За него же все заранее решили и распланировали. Как же! Диплом с отличием, аспирантура, защита… невеста… из «нашего» круга, желательно дочь светила, племянница этого… самого. Ну, и поехало: дом, работа, санатории, дом, работа, крематорий…
Ага. Ну, слава богу, теперь все ясно. И враждебный тон… Сразу смягчившись, Дорофеев миролюбиво сказал:
– Ну, эти ужасные проблемы можно было, я думаю, решить и мирным путем. За столом переговоров.
Наташа глянула на него с состраданием. И нарочито терпеливым голосом тихо произнесла:
– Вот он и решил.
…Следовало понимать: «Решил сам, без вас, а вы опять лезете». Дорофеев сдержал улыбку.
– Ну, ладно, ладно. Надо быть терпимей к нам, старикам. Что с нас взять? Удивляюсь, раньше Антон умел понимать окружающих. Честно – не ожидал! Все-таки вы, молодые, жестокие ребята.
– Жестокие? – Наташа упорно смотрела прямо перед собой, но Дорофеев видел, что щека ее, шея и мочка уха становятся красными. – Жестокие… А почему, собственно, взрослый, умный человек не может сам решить, как ему поступить? Где тут жестокость, Всеволод Евгеньевич? Имеет он право хоть три года пожить не по-вашему, а по-своему? Где хочет и как хочет?
– Вы думаете, армия – это «по-своему»? Милая девочка, там дисциплина, там как раз меньше всего спрашивают, кто чего хочет.
– Это… Это все беспредметно. Мне больше нечего вам сказать, – отрезала она, полезла в сумку, достала какой-то листок и подала Дорофееву. – Вот. Тут адрес Антона, это под Архангельском.
– Благодарю! – с раздражением произнес тот. – Несерьезно это все. Какой-то несусветный инфантилизм.
…Может, и не стоило этого говорить, да что теперь! Разговор все равно не получился… А красотка занята только одним – как бы самоутвердиться.
– Да. Инфантилизм! – теперь уже назло ей повторил он. И жестко добавил: – Детский трусливый эгоцентризм. Бежать от мамы… в солдаты. Возможно, ему от службы в армии будет только польза. Но все эти тайны… Смешно.
– Да что… Да как же вам… – голос Наташи дрожал, губы сжались и побелели. – А если – не от мамы? Если – не только… Вот именно, что – польза! Да в армии, по крайней мере, без вранья! Там – люди, просто – люди, а не… не светила, преуспевающие дельцы! Чиновники от науки! У которых на всё – двойной стандарт! Ладно. Я пойду. Извините.
Она шагнула в сторону, но Дорофеев поймал ее за руку, удержал.
– Нет уж, теперь подождите! Договаривайте, раз начали. Насчет дельцов – это что, Антон так считает?
Наташа вырвала руку, но все же остановилась.
– Нет! – почти выкрикнула она, глядя на Дорофеева в упор. – Это я так считаю. Я! Вам легче? Отлегло? А Антон… Он к вам так относился, а оказалось… вы оказались…
– Черт побери! Да кем это я оказался?
– А то, что ему звонила ваша эта… знакомая. Альбина Алексеевна.
– Антону? Зачем?!
– Вы же там красовались по телевизору насчет высших материй. «Совесть ученого»! Ну, она и увидела. Позвонила, попросила встретиться.
– Так…
– Мы с ним ходили. Вдвоем! Вот уж гадость. Антон был… ну просто убит, я видела. Хоть ей он, конечно, сказал: все она врет!
…Затем Дорофеев узнал все по порядку: как он соблазнил несчастную Лялю, как мерзко обманывал с ней мать Антона, клятвенно обещал непременно жениться, но приказал, чтобы Ляля сперва избавилась от будущего ребенка. Она поверила, сделала смертельно опасную операцию, а Дорофеев подло сбежал, бросив ее больную, без средств к существованию. А потом, когда она, себя не помня, чуть не попала под суд и обратилась к нему за советом – только ведь за советом! – стал трусливо прятаться. В результате она осталась без работы, рухнувшая личная жизнь тоже не складывается. И не сложится! И естественно: несчастная женщина никому уже не верит, всех считает подлецами! А тот, кто в этом виноват, благоденствует, трусливый сладострастник. Выходит, подлость и ложь могут пойти на пользу? Да? Правда? От них люди процветают и выступают по телевизору.
Она, Ляля, уж этого так не оставит, будьте спокойны: напишет на студию!
– Антон на нее наорал, вообще… да что там! А потом куда-то ушел, и два дня его не было, – Наташа отвернулась.
Дорофеев молчал. Все это было чудовищно. Как в горячке. Нет, как в скверном романе.
– Поразительно… – сказал он наконец, заставил себя сказать. – Неужели Антон все-таки поверил? Что там есть – хоть какая-то! – правда!
– А там неправда?
Он не ответил.
– Как бы там ни было, вы погубили человеческую жизнь! – горячо сказала Наташа. – Вы ведь обещали жениться? Или нет? И… чтоб ребенка… убить?
– Да поймите вы! Ведь вранье же все! Все кверх ногами! Это произошло при чрезвычайных обстоятельствах, и я не обязан никому ничего объяснять. Но… иначе было нельзя… а, главное, в таких отношениях всегда своя этика, особая… – Он не ей отвечал – сыну.
– Нету такой этики, чтобы врать и предавать!
Дорофееву часто снился один и тот же сон: он догоняет поезд, догнал, вцепился в поручни, а подтянуться не может, нет сил. Сейчас он чувствовал такое же бессилие. И безнадежность. Все, что произносит Наташа, – не правда, не настоящая правда, кажимость. На самом деле все куда сложнее и… гораздо проще. Но ее он в этом убедить не сможет, да что ее… Поймет ли сын? Для того чтобы понять все правильно, им надо прожить на свете еще по крайней мере лет двадцать. И стать… А кем стать? Хуже, что ли, циничнее? Или, может, все-таки шире, умнее и терпимее? Без сегодняшнего экстремизма? А взамен… Да. Вот она где тебя настигла, Всеволод Евгеньевич, эта пресловутая проблема «отцов и детей», эта в зубах навязшая некоммуникабельность! И тут не шутки, не «ужасный» конфликт с родителями, можно или нельзя слушать джаз, носить или не носить узкие брюки и галстук с обезьяной, как это было в твоей юности. Здесь без дураков: в их глазах ты, Дорофеев, мелкая сволочь, которая даже советовать не имеет права. И поди опровергни! Ничего не докажешь, хоть удавись! А они будут совершать свои идиотские поступки.
…Она что-то еще говорила, гневное и справедливое.
– Ну, хорошо, – устало сказал он, – я мерзавец… Но все-таки почему – именно в армию? Дома плохо, нельзя жить. Я – тоже… Предположим. Но почему не в другой университет, в другой город? В Тарту? В Москву, наконец? Вместе с вами. Почему в армию?
– Я уже объясняла – почему, – прищурясь, процедила Наташа. – А еще… Антон – ваш сын. Ваш! Хоть и в тысячу раз честнее и лучше! А все равно – ваш. Мать ему жалко, других… тоже жалко. А выбрать… Вы всю жизнь от всего в свою науку прячетесь, а он – вот…
Она вдруг сморщилась и, резко повернувшись, пошла по дорожке прочь.
Стоя на площадке лицом к заднему стеклу, Дорофеев напряженно смотрел, как отодвигаются, одновременно смыкаясь, становясь открыточными, Марсово поле в кустах сирени, памятник Суворову на цветочном коврике, а на заднем плане громада Инженерного замка и буколические кроны старых деревьев в Михайловском саду.
Трамвай взбирался на горб моста, и, глядя на эту сотни раз виденную картину, Дорофеев изо всех сил безнадежно пытался вызвать в себе привычное ощущение покоя и гармонии. Вместо них были только давящее бессилие и полная неспособность хоть что-нибудь почувствовать, точно то место в душе, которым чувствуют, плотно забито сырыми осиновыми чурками. Кое-где они безнадежно и дымно тлеют, чадят, но нет силы, которая заставила бы их полыхнуть.
К тому же навалилась головная боль, ломило висок, и за ухом, и дальше к затылку. И никаких желаний. Одно, впрочем, имелось – остаться одному в пустой квартире, лечь и закрыть глаза. И чтобы прохладно. И темно. И тихо.
Пока что было нечем дышать, свет, этот сумасшедший свет резал глаза, а голову рвал назойливый голос остроносого старикашки в выцветшей добела гимнастерке с кальсонными пуговицами. Старик сел в вагон на той же остановке, что и Дорофеев, и с тех пор болтал, не закрывая рта. Два его спутника, немолодые мужики с застывшими сизыми лицами, хмуро смотрели в окно, не обращая на хрычишку никакого внимания. Ехали все трое явно с рыбалки, удили, небось, где-нибудь тут же неподалеку, на набережной, каждый имел в руке полиэтиленовый мешок с рыбьей мелочью. У суетливого деда (это Всеволод Евгеньевич еще на остановке заметил) улов был куда больше, чем у приятелей, тем не менее они его явно презирали, а старик вел себя заискивающе, изгилялся: травил одну за другой какие-то байки и сам же первый хохотал, повизгивая и запрокидывая голову.
В данный момент он с азартом докладывал, как ходил, гад, на охоту, и в лесу, мол, он никого не боится, ни, гад, рыси, ни там волков, ни хоть медведя. А вот только, конечно, лося.
– Убьет, гад, не посмотрит! – захлебываясь от восторга, кричал старик на весь вагон.
Слушатели железно молчали, а Дорофеев корежился, чувствуя, как в виске что-то тоненько дрожит и дергается, точно в больном зубе.
– Гон у их! Гуляют, значить. Двое передерутся из-за бабы, из-за лосихи, ну? – Старикашка вдруг закрутил головой, да так, что, казалось, шея вот-вот вывинтится из просторного ворота гимнастерки. – Они это, гад, подерутся, один другому навтыкает, а с ей, значить, в кусты. Любовь крутить. А этот остался, злой, как все равно Гитлер. А как же? Морду, гад, начистили, бабу увели, а у его – шишка! Он на всех, зверюга, и кидается, злость, гад, сорвать…
У мечети старик с приятелями вышли, и только тут Всеволод Евгеньевич вдруг понял: а ведь дедуля-то лицом, как две капли воды, – профессор Лосев.
Голова заболела еще сильней и мучительнее, но трамвай уже двигался мимо знакомого садика с чахлой клумбой вместо фонтана. Дорофеев вышел из вагона, почему-то испытав облегчение, будто все его неприятности остались в трамвае, навсегда уехавшем в сторону Елагина острова.
До Володькиного дома он дошел довольно бодро, а вот по лестнице плелся, как инвалид. Не мудрено – такие дела и быка уложат наповал, плюс к тому пыльный, огромный, раскаленный день. Теперь – скорей лечь, опомниться, потом принять душ, выпить хорошего чаю, а там уж – надеть свежую рубашку и на поезд. А к поезду… господи! – к поезду явится Инга…
Едва он вошел в квартиру, как зазвонил телефон. Наверняка – она, свербит у нее. Ничего, потерпит еще, пострадает, сил же нет никаких! Не спеша он снял туфли, носки и, с удовольствием ступая босыми ногами по прохладному линолеуму, побрел в комнату, к дивану. Телефон замолчал. Но только Дорофеев лег, вытянул ноги и закрыл глаза, завизжал снова. Ну, спорить готов, Инга! Опять набросилась головная боль, – в комнате было жарко, с улицы несло какой-то химией. Люто посмотрев на захлебывающийся аппарат, Дорофеев встал и решительно двинулся в ванную.
Пока он отходил под ледяным душем, телефон закатывал истерику еще раза три. Как следует замерзнув, он вытерся, надел чистое белье, сунул ноги в громадные Володькины тапки и тщательно расчесал на пробор мокрые волосы. Не помогло, голова продолжала болеть, в теле разваливалась тошнотворная слабость.
Только Дорофеев вышел из ванной, как телефон взвился опять. На этот раз он зарядил надолго, на измор брал, и во избежание родимчика у аппарата Дорофеев решил поднять трубку.
– Явился?! – сразу заорал Алферов. – А я уже десятый раз… Я тут это, задержался в этой… в общем, скоро буду. Ты пока возьми… там кастрюля, в холодильнике. И картошка…
Дорофеев вяло сказал, что не голоден. Володька помолчал, а секунду спустя спросил уже другим, деловым тоном:
– Случилось что?
– Ничего. Устал.
– Ага. Ладно, еду. Ты отдыхай.
Почуял что-то, бегемот несчастный, будет теперь приставать! Впрочем, не ври, Дорофеев, уж кто-кто, а Володька человек тактичный, просто тебе сегодня зачем-то надо, чтобы все вокруг были сволочи.
Он лег опять. Заснуть не удавалось. Самое правильное – все здешние дела временно отодвинуть; завтра работа, институт… Ронжина – это ведь все осталось, никуда не делось. И не денется.
Однако думать об институте и Ронжиной он не смог, прежнее возмущение и ярость как-то слиняли, непоправимый вред, который нанесет науке ее успешная защита, не казался таким уже непоправимым, Лосев просто жалкий старик, и пусть бы они там сами разбирались со своими делами… Вообще-то, у каждого в жизни была, хоть раз да была, какая-нибудь не очень красивая история, и вовсе не обязательно сразу считать себя из-за нее уголовником… А ведь не было никакого ребенка, все вранье! Пошлая история, банальная до отчаяния. А вообще-то, Всеволод, пора завязывать с надеждами, будто ты особенный, не такой, как другие, те, с кем постоянно случаются подобные житейские пошлости. Полюбуйся, так же, как все жалкие «другие», ты, не подумав, в двадцать лет женился, так же, как они, тянул семейную лямку, спал с нелюбимой женой, ссорился с тещей, – «бог мой», с тещей! – бегал «палево», потом… потом постыдно засыпался, остался один. Аж в Москву сбежал!.. Ну, что скажешь теперь? Съел? Придется смириться: никакой ты не особенный, «особенных» вообще нет в природе, бытовые вульгарные ситуации, которых ты всегда надеялся избежать, на самом деле и есть жизнь. И никуда ты от этого не денешься. И никто не денется! Даже… максималист Антон, бегущий в армию спасаться. У ВСЕХ ВСЕ одинаково, подколодная красавица права: «Дом – работа – санаторий…»
И все-таки, удивительное дело, в конце концов Дорофеев ухитрился заснуть и спал глубоко и спокойно. Растолкал его Володька, бубнивший, что хватит, раздрыхся, как этот… барсук, поезд уйдет, и стынет все.
Открыв глаза, Всеволод Евгеньевич обнаружил, что укутан пледом, из кухни доносится запах чего-то в высшей степени жареного, а на часах – почти десять. Это значит, теперь уже скоро на вокзал. Выйти надо пораньше, там Инга… Сразу захотелось вернуться обратно в сон, но Володька, гремя посудой, дико трубил на кухне, как голодный слои, – звал ужинать.
Вдали грозно брезжила недавняя головная боль, какая, к черту, еда! Но Алферов, упрямо сопя, навалил целую тарелку картошки, засыпал укропом, положил здоровенный кусок жареного мяса, пододвинул салат. И пива налил. Ну, какой идиот сможет есть в такую жару? Однако Дорофеев незаметно для себя умял все, что было в тарелке.
Володька ни о чем не спрашивал, шумно жевал и Дорофееву все подкладывал – то огурец, то редиску. Всеволод Евгеньевич вдруг почувствовал – отпускает.
Хороший он все-таки мужик, Алферыч, легкий. И свой. Все вроде понимает, а в душу не лезет, – отличное, что ни говори, качество! И редкое! Другие желают добра, сделают хорошее, от всей души и совершенно бескорыстно. Только глядишь: уже и плату подавай, не материальную, боже сохрани! А вот кое о чем поразузнать, дать кое-какие советы… за которыми не обращался. Ведь добра, черт возьми, желают! И имеют на то полное право, кого хочешь спроси!
А Володька, неясно к чему, вдруг пошел излагать очередную завиральную теорию. Он, видите ли, пришел к выводу, что большая часть психических расстройств – от недостатка любви.
– Понимаешь, это ведь давно известно, – возбужденно гудел он, – новорожденные дети: если они… того, без матери, без родных, если их кормят, пеленают, но не… это… не ласкают, на руки там не берут, они чахнут. И – вплоть до того… умирают. А сейчас привязанность, она же этот… дефицит. На земле в целом. Нет, я серьезно! Разучились. Любить не умеют, не знают – как. Нет культуры этого дела… Ты не… ты брось! Я – в широком смысле. Утеряло человечество это чувство, а если кто умеет, то на него уже глядят как на помешанного или… или хитреца: ишь, спектакли играет – Великая Любовь, чего ему, интересно, на самом-то деле надо? Да. А любовь, между прочим, не только младенцу нужна…
– Век больших скоростей, некогда всем, – Дорофеев сказал первое, что пришло в голову, разнеженно думая, что есть в Володьке еще одна симпатичная, хоть и провинциальная черта – простодушие. Даже наивность.
Володька, запыхтев, возразил, что про эти скорости ему уже противно слушать.
– Пошлость, в зубах навязло. К тому же брехня: оттого что на какой-нибудь Кавказ можно долететь за три часа, а не тащиться… всю жизнь в кибитке, свободного времени не убавилось, а прибавилось, и нечего врать… Информации у нас от этого переизбыток, это да, – подумав, добавил он. – А человек не резиновый, есть определенный максимум, который его башке возможно переработать. Ну, значит, и выходит: событий больше, стало быть, сила воздействия их на человека – меньше. Понятно, нет? Чтобы общий результат не превышал, иначе пробки полетят, а то и весь мотор…
– Про мотор понял, – сказал Дорофеев, – мощность равна силе тока на напряжение. Если мощность – константа, а напряжение растет, значит, сила тока падает. Так, что ли?
– Ага! – обрадовался Алферов. – Ага. Больше внешних впечатлений, меньше сила их… ну, воздействия. Чувства, короче говоря, слабее. А чтоб отказаться от лишней этой… информации, – куда там! Жадность одолевает. Вот и получается: вместо нормальных чувств – дребедень и собачья суета, туда смотаться, там устроиться, это поглядеть… А любить?.. Нет, не умеем! А знаешь еще, почему? Этому ведь тоже надо учить, само не возьмется. …Ты – ладно, Севка. Не дрейфь, прорвемся! – Володька вдруг потянулся и здоровенной своей лапищей осторожно тронул Дорофеева за плечо.
Тот только вздохнул.
– Ну, так вот. Про что я? Ага, про эту самую… Про любовь, значит, – теперь Алферов говорил подчеркнуто бодро. – Человеку, уж это я точно знаю, любить жизненно необходимо. И его чтоб – тоже. Это как еда, понял? Или там… как дышать. Надо. А ведь сколько одиноких! А в семьях? Если просто мирное сосуществование, так это уже считается… там… счастье в личной жизни. А от такого свинячьего счастья развивается… вроде душевной чахотки. Или тоже – дружба. Сейчас принято с нужными все людьми. Это ж подумать, человек себя сам – сам! – принуждает общаться с тем, кто ему на самом-то деле до фени. А то и просто с души воротит! Ну, не повод для стресса? Жуть! Думаешь, сочиняю все? Я же с ними, с пациентами, целые дни только и делаю, что того… беседую за жизнь. Наслушался. И нагляделся! Да что… Возьми хоть древних: про любовь к ближнему еще когда поняли! И это ведь не правило… там… хорошего тона за столом, – это рецепт! Веками проверенное дело. «Как самого себя», заметь! Это же способ быть счастливым! И здоровым. Чувствуешь? Ну… а не научишься, вот и будешь… куковать. Пока не сопьешься, как… хвост собачий!
– Обнадежил, – мрачно сказал Дорофеев. – Утешил. Ты мне лучше другое скажи, наставник христианского учения. Вот, что человеку делать, если он, предположим, узнал, что на всем нашем замечательном шарике нету никого, кто его, подлеца, любит, ценит и… так далее? Просто так любит, жалеет, а не то чтоб сразу судить, пересчитывать плюсы-минусы? Белый – люблю, а черный – фига.
– Ничего ты не знаешь, – тотчас перебил Володька. – Мы же их не понимаем. Вот ведь парадокс: почему-то всегда легче понять тех, кто старше, хотя такими, как они, мы никогда не были. А двадцатилетними, тринадцатилетними, трехгодовалыми, там, наоборот, были. А они для нас – темный лес. И мы их не понимаем.
Дорофеев поднял голову и с удивлением посмотрел на Володьку. Выражение лица у того было незнакомое, сосредоточенно-твердое, и говорил он не как всегда – без обычных своих заиканий и меканий, четко и внятно.
«Так он, наверно, со своими больными…» – подумал Дорофеев.
– Должно же было что-то там остаться, в памяти, верно? – продолжал Володька. – Ну… не внешнее, а чувства, мысли? Это ведь нам, петухам надутым, сейчас кажется, что у детей не бывает мыслей. Бывают! Еще какие. И у нас были, но мы их не помним. Не помним, хоть удавись! Точно кто резинкой стер. И нам искренне, ото всей души кажется: всегда мы были такими, как сейчас. Ну, конечно, поглупее, понаивнее, а в общем…
– Ну, это уж ты хватил – «не помним»! – возразил Дорофеев, пытаясь понять, случайно Алферов так ловко свернул на детей или знает что-то.
– Вот скажи: ты помнишь Витьку Голикова? – наседал Володька. – Он кончал, когда мы были в восьмом. Ага, помнишь. А Сергея Ряшина?.. Ясно. А Звонарева? Ну, а теперь назови хоть парочку из класса, который шел за нами?
– Погоди… Вроде… Ну, этот, футболист, как его?
– То-то! Не знаешь! Тут как в очереди: видишь только тех, кто перед тобой. Ими интересуешься, а им на тебя чихать. Все это, черт побери, естественно, человек – такая животная, хочет двигаться, меняться, и, чем моложе, тем больше хочет. Разве уж совсем старики…







