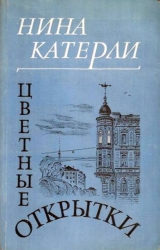
Текст книги "Цветные открытки"
Автор книги: Нина Катерли
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Ляля слушала, склонив голову, улыбалась («Да? Правда?»). Все было прекрасно. И совершенно отсутствовала необходимость выяснять анкетные данные. Главное-то он знал: перед ним молодая, красивая женщина, которой он явно нравится. Иначе зачем она так смотрит, зачем заинтересованно спрашивает, главное, зачем приехала сюда под дождем?
Через неделю они опять встретились в парке, и Дорофеев попросил ее телефон. Она дала, служебный. Но предупредила: говорить только деловым тоном и коротко, телефон параллельный, директор в любую минуту может переключить на себя. Да, да, она секретарь директора завода. А что? Вы чем-то недовольны, сэр? Полагаете, что в обязанности секретаря входят еще какие-то… особые услуги? Нет? Ну и молодец. А я вот, честно говоря, и сама так раньше думала. Когда устраивалась, все хотела на него скорее поглядеть – хоть бы не очень страшный, раз уж такая судьба…
– Не страшный? – хрипло спросил Дорофеев.
– В порядке. Сорок два года, вполне современный мужчина. Джентльмен. Представьте, до сих пор играет в футбол. В заводской команде, нападающий или какой-то полузащитник, что ли. Так что все тип-топ. Но… обожает жену и ни на кого не смотрит. Представляете?
– Обидно?
– Было. Чего врать-то? – Ляля засмеялась и стряхнула пепел с сигареты в снег, они сидели в парке на скамейке. – А теперь рада. Потому что морально нечистоплотно крутить романы там, где работаешь. Знаете, как говорят, – нельзя… это самое… там, где ешь. – Последнее она произнесла очень серьезно, видимо, услышала где-то и считала исключительно умной мыслью.
Вскоре они с Дорофеевым стали встречаться каждый день. После работы он, выскочив из проходной по звонку, хватал первое же такси и мчался за Лялей, к заводу. Раза два-три водил ее в ресторан, отдавая себе полный отчет в том, что будет, если встретится кто-нибудь из знакомых. А чаще они просто гуляли, Дорофеев облюбовал для этих прогулок Каменный остров и разработал такой маршрут, по которому можно было пройти и ни с кем не столкнуться, было безлюдно и снежно, фонари попадались редко, и однажды выяснилось, что он совсем не умеет целоваться.
К себе Ляля не приглашала – одна комната, мама и сын. Зовут Костя, пять лет.
Дорофеев не чувствовал ни малейших угрызений. То, что происходило, Инги совершенно не касалось. Ляля занимала ту часть его души и мыслей, которые Инге и так не принадлежали. «В какой-то степени, – думал Дорофеев, – с появлением Ляли стало даже лучше: у меня теперь всегда хорошее настроение, а это на пользу всей семье».
И верно: дома установилась вполне сносная погода. Дорофеев стал ручным и покладистым, сам предлагал посильную помощь по хозяйству, шутил с тещей, показывал Антону приемы самбо. Тот, правда, относился к этому без всякого энтузиазма, но вежливо смотрел и падал. Выражение лица его было всегда доброжелательным, но слегка ироническим, так что иногда Дорофееву начинало казаться – сын все про него понимает. Но он отмахивался от этих мыслей: «Совсем сбрендил. Что может понимать пятнадцатилетний напал?»
Домой после встреч с Лялей Всеволод Евгеньевич возвращался не позднее, чем раньше (когда торчал в институте до ночи), так что и тут – никакого ущерба семье. Только однажды Инга пожаловалась: «Звонила тебе вчера после шести, телефон как мертвый». Дорофеев напрягся, но она тут же сама и объяснила: «Наверное, девицы на коммутаторе стали раньше уходить домой».
В ответ Дорофеев только неопределенно хмыкнул, что отнюдь не являлось враньем. Вообще, врать ему пока не приходилось ни разу – последнее время Инга перестала задавать те вопросы. А не рассказывать о чем-то – не значит врать, правда?
Однако вскоре пришлось, когда к Ляле в Пушкине прицепился пьяный. Может, и не прицепился бы, по у Ляли была привычка кокетничать со всеми подряд, иногда Всеволоду казалось, это делается специально для него, чтобы понял, каким успехом она пользуется. Пьяному в Пушкине он надавал по шеям, но и сам кое-что получил и вернулся с лыжной прогулки в полупотребном виде. А от вынужденного вранья (нечаянно ткнул палкой в лицо) несколько дней держалось гнусное ощущение, почти физическое, что-то вроде того, как если бы ел холодный бараний суп и жиром залепило весь рог. Дома его в эти дни все «бесило, особенно Инга, – все, что она говорила, звучало издевательским ханжеством, и Дорофеев сказал ей об этом, на мгновение испытав мстительное удовлетворение, на смену которому тут же пришло трезвое сознание, что ведет он себя как последняя сволочь. Он дал себе слово больше не врать… Без крайней, наипоследней нужды.
Встречи с Лялей на Каменном острове, объятия на лавочках и в парадных – все это было очень романтично и отдавало юностью. Все это было прекрасно.
– Прекрасно, необходимо, но… недостаточно, – как-то со вздохом сказал Дорофеев.
Ляля пожала плечами:
– Этот вопрос выше моей зарплаты. Что я могу сделать, Лодик, скажи? Привести тебя к нам и выставить маму с Костей? Мол, иди гуляй, мамуля, ко мне любовник пришел! Красиво, правда?
Дорофеев позвонил Володьке, стал что-то мямлить, и тот мгновенно понял:
– Ключ, что ли, дать? Рад душой, но это… к жене сестра приехала. А вот после Нового года мы, наоборот, к ней едем в Минск. Так что стисни зубы и терпи. Нагуливай этот… аппетит.
Дорофеев стал терпеть, благо до Нового года оставалось несколько дней. И вдруг – не было ни гроша… Элла Маркизовна приподнято сообщила, что Софья Ильинична нашла в Комарово «две чудные комнаты, светлые, изолированные, с теплыми удобствами. И в двух шагах – можете себе представить? – Дом творчества писателей! Что может быть лучше?! (Кроме, разумеется, водной прогулки!) На каникулы едем туда с Антоном и Ингой, у нее две недели отпуска за прошлый год…»
– Я не в восторге от того, что Антон будет общаться с этим странным мальчиком, – сказала Инга, имея в виду бракованного внука Софьи Ильиничны, – ну да что поделаешь. Ты тоже мог бы поехать, Сева, – добавила она великодушно, – до города электричкой всего час, а ты ведь так любишь природу.
Но тут, слава богу, вмешалась теща:
– Там недостаточно места. Четверым будет не повернуться. Другое дело – выходные дни. Это, конечно, не индивидуальные выезды, что поделаешь! На, так сказать, природу! Но иногда, в крайнем случае, изредка можно уделить внимание и Ребенку…
Первого января днем Дорофеев отвез семью на такси в Комарово, помог разобрать вещи, наносил воды из колодца (водопроводной, считала Элла Маркизовна, можно пользоваться только для умывания, стирки и мытья посуды) и в тот же вечер вернулся в город. Дома он был в девять, по дороге купил шампанского, полусухого, такого же, как они с Лялей пили в Пушкине, в первый раз.
К одиннадцати часам он успел навести в квартире приблизительный порядок, а в четверть двенадцатого пришла Ляля.
– Сказала маме, что директор заставил дежурить. До утра. На всякий случай оставила твой телефон.
Последнее Дорофееву не очень понравилось, но он промолчал, а через минуту и вообще не помнил про телефон, Лялину маму, Ингу, которой вполне могло ведь взбрести в голову взять да и приехать среди ночи – забыла лекарство, которое «маме необходимо, крайне! необходимо». А-а, наплевать…
…Ляля приходила каждый вечер и оставалась до двенадцати. Потом Дорофеев отвозил ее домой на такси.
Раньше она была молчаливой, и Всеволода Евгеньевича это вполне устраивало. Теперь появилось что-то повое. Начала с важным видом рассуждать о жизни, рассказывать про каких-то своих подруг: «Анюта не права. Павлик к ней идеально относится, но если не следить за собой, никакой мужчина не вытерпит…» Слава богу, Дорофеев способен был слушать и не слышать. Имел большой опыт.
Кроме того, стала каждый день звонить ему в институт, а когда в субботу днем (Ляля как раз опять ночевала у него) Дорофеев засобирался на дачу, надулась и расплакалась. Он был поражен. В чем дело? Ведь и так задержался, обещал своим быть в пятницу вечером, Инга, того гляди, примчится выяснять, кто умер? Кое-как он успокоил Лялю, для чего пришлось опоздать еще на час и заслуженно узнать от Инги, что, во-первых, заставляя других ждать и волноваться, человек проявляет крайнюю степень эгоизма, поскольку ворует не только (и не столько!) время и нервные клетки, но просто-напросто их жизнь, ибо «наше время, Сева, это ведь и есть наша жизнь, не правда ли?» Крыть туг было нечем, и Дорофеев обозлился. В особенности когда узнал, что, во-вторых, Антон накануне полтора часа прождал его на платформе, встречая каждый поезд, сегодня ходил тоже, а сейчас отправился с внуком Софьи Ильиничны на залив. «Когда вернется?» – «Не знаю, не знаю. Мальчик, по-моему, на тебя крайне обижен!»
В понедельник после работы Дорофеев заехал за Лялей и повез ее прямо к себе. Никаких объяснений и обид. Ляля держалась как всегда, только уже перед уходом вскользь заметила, что вообще-то при положении Всеволода и его заработках он мог бы иметь и более ухоженный дом. Дорофеев этого разговора не поддержал, да и вообще беседы с Лялей теперь его мало занимали.
В первый же день, когда вернулась семья и все благостно сидели за чаем, обсуждая проект Всеволода Евгеньевича – во время весенних каникул сына поехать вместе с ним в Москву, – вдруг зазвонил телефон. Подошла Инга, три раза сказала «алло» и, пожав плечами, положила трубку.
После одиннадцати вечера звонок раздался опять. На этот раз трубку взял сам Всеволод Евгеньевич. И услышал далекий Лялин голос:
– Лодик, я из автомата, – сообщила она.
– Да? – нейтральным тоном произнес Дорофеев. Инга подняла глаза от книги.
– Как дела? – Ляля, похоже, собралась вести с ним светскую беседу.
– Нормально. Спасибо.
– А я соскучилась! Лодик! Алло, ты слышишь? Лодик?
Это было, разумеется, очень трогательно… но шея Инги начала уже краснеть, глаза расширились, и Дорофеев, довольно холодно повторив «спасибо», нажал на рычаг.
– Владимир звонил, – он повернулся к жене.
– Правда? – она подняла брови. – Ты же сам, кажется, говорил, что он уехал в Минск.
– Теперь приехал, – Дорофеев проклинал себя за глупость: в принципе ей ничего не стоило завтра же позвонить Володьке и проверить.
– Из автомата. У него телефон испорчен, – зачем-то соврал он, чувствуя отвращение и к Ляле, и к Инге, а главное, к самому себе.
На следующий день Ляля заявила, что не могла не позвонить!
– Мне было больно, понимаешь? Больно!.. Ты там… в кругу семьи, с ней… обо мне и думать забыл, а я тут… – и заплакала прямо посреди улицы, промокая глаза носовым платком.
– Лялечка! – четко сказал Дорофеев, оглядевшись, не идет ли кто из знакомых. – Ну что же делать? Ты ведь знала, что я женат.
– Это несправедливо! – рыдала Ляля. – Я бы ничего не говорила, если б ты ее любил! Но я ведь вижу…
– Я люблю сына. И хватит. Вообще – что это с тобой? Всегда была такая спокойная..
– Да? Правда?.. «Всегда» – это когда?! Когда мы не были близки? Как ты не понимаешь! Для женщины это имеет громадное значение. Для мужчины главное – работа, а для женщины – любовь! Я теперь принадлежу тебе, и больше для меня ничего не существует. Ничего! И никто! Даже Костик! Конечно, я понимаю, у меня нет никаких прав, но понимать головой – это одно. Сердцу не прикажешь!
– Перестань, – сказал Дорофеев хмурясь, – я… мы что-нибудь придумаем. Я попробую снять комнату.
– Ага! – Ляля всхлипнула. – Мы там будем встречаться, а потом ты будешь бежать к ней. А выходные? А праздники? Думаешь, так приятно – все время одной? Вот и Анюта говорит…
– Вот что, Ляля, – перебил ее Дорофеев, – мнение твоей Анюты меня не интересует. Это раз. А во-вторых, – продолжал он, холодея от того, что говорит голосом Инги, – меня крайне не устраивают твои звонки ко мне домой. Пожалуйста, больше этого не делай.
– Боишься? Ее?! – Ляля побледнела и закусила губу.
– Не боюсь, а не хочу расстраивать. Она ни в чем не виновата.
– А я, значит, виновата?! Меня можно не уважать, плевать!
На них уже оборачивались прохожие.
– Прекрати, – прошипел Дорофеев. – Это, это… сцена из плохой мелодрамы.
Ляля театрально ахнула, всплеснула руками и бегом кинулась к остановке автобуса. Дорофеев шагнул было следом, но раздумал: все к лучшему.
Вечером были многозначительные звонки с молчанием. Подходила Инга, подходил Антон, Элла Маркизовна дважды обращалась к тупице-звонящему с призывом нажать какую-то кнопку. Наконец, очень неохотно, трубку снял Всеволод Евгеньевич – ни звука.
– Кому-то неймется, – натужно весело сказала Инга.
– А меж тем кузен Софьи Ильиничны, – задумчиво произнесла Элла Маркизовна. – уехал в Ляйпцихь…
– «На Дуврской дороге…» – начал было Антон печальным голосом, но передумал, подошел к бабке и погладил ее по волосам.
Придя наутро к себе в институт, Дорофеев тотчас позвонил Ляле, та холодно сказала, что говорить не может – телефон нужен Сергею Андреевичу, пусть Всеволод позвонит через час.
Позвонить через час он не смог, был занят, а потом, честно говоря, вообще забыл – закрутился. Вспомнил только за десять минут до конца рабочего дня.
– А я сижу и жду, – тихо сказала Ляля. – Даже в обед не выходила. Вот.
Дорофеев устал, хотелось домой, тем не менее ом предложил сейчас же заехать, отвезти ее в ресторан и накормить.
– Не могу есть… – еще тише сказала она. – А куда мы пойдем?
– Ну… можно в парк Победы. Или хочешь – в «Приморский»? Мы там были уже, на Большом.
– В «Садко» ты мне не предлагаешь, – тотчас печально констатировала она, – в «Кавказский» тоже. Я понимаю, вдруг кто увидит, а ты не хочешь травмировать родную супругу. Ты очень благородный человек, Лодик… не то что… эти, из мелодрамы. Знаешь, лучше я пойду домой. Аппетита все равно никакого нет, даже тошнит, и вообще я решила пока с тобой не встречаться. Мне тут… Короче, надо подождать, убедиться… Может, нам будет лучше друг без дружки? Я сегодня оформила отпуск, поеду в Лугу, в пансионат. Буду там кататься на лыжах и ходить на танцы.
Неделю назад Ляля сказала, что мечтает махнуть этим летом вместе на Черное мере. В Гагры. Дорофеев сгоряча пообещал и сейчас почувствовал облегчение, даже благодарность.
– Смотри, вот возьму и нагряну к тебе в Лугу безо всякого предупреждения, – весело объявил он, – расшугаю к чертям всех твоих кавалеров.
Но пошла работа по новой теме, опять пропадал в институте, да, и дома ночами сидел за столом.
А примерно через полторы недели его внезапно вызвали с совещания к телефону. Срочно! Звонят из дому! Кажется, там что-то случилось!
Вспотевшей рукой Дорофеев схватил трубку, прижал к уху и услышал Ингин голос. Она говорила медленно, с какой-то торжественной скорбью – так обычно читают некрологи.
– Прошу немедленно приехать. Домой. Немедленно. Пока сын в школе.
– Что?! Что случилось?! – закричал Дорофеев, но услышал гудки.
Ему дали казенную машину, и по дороге он успел перебрать в уме все возможные варианты несчастий: плохо с тещей, или нет – сама Инга неожиданно узнала, что больна, и чем-то страшным. А может, Антон натворил что-нибудь в классе? Ерунду, но для них это катастрофа времен и народов. Но уж очень трагический тон… А вдруг… вдруг сын… Нет, она же сказала, он в школе. А так сообщают, если… Точно! Элла Маркизовна! Вчера жаловалась, что голова как камень…
Он бегом поднялся по лестнице. Инга встретила его в дверях бледная, прямая, со стиснутыми губами. Сзади возвышалась такая же прямая фигура абсолютно живой, видимо, сравнительно здоровой Эллы Маркизовны. Не было только сына.
– Антон?! – выдохнул Дорофеев, забыв обо всем на «свете. В ответ Инга молча протянула ему вскрытый конверт, адресованный Дорофеевым. Не ему, не Инге, не Антону, а именно Дорофеевым. Всем. Ничего не понимая, Всеволод Евгеньевич вынул из конверта письмо. Там было что-то в таком роде:
«Дорогой мой человек! Пишу тебе, потому что не могу больше ждать, считать часы и минуты и все надеяться, что ты приедешь. Прошла неделя, семь дней, сто шестьдесят восемь часов. Я не в силах ждать больше! Я хочу, чтобы ты знал, как я все время думаю о тебе и переживаю. Ведь мы так плохо расстались, Лодик! Я понимаю: ты разнервничался, что я звоню тебе домой, но я не могла иначе, пойми. Я, идиотка, решила уехать и тем наказать тебя! А наказала только себя! Потому что ты мне, Лодик, очень и очень дорог, я люблю тебя. Как Мужчина мне, кроме тебя, никто не нужен. Не скрою: я здесь многим нравлюсь, но для меня никто не существует, знай! Я все время только и вспоминаю, как мы были вместе, и от этого не могу спать…» – похолодев, Дорофеев пробегал глазами строчку за строчкой. Было в письме что-то нестерпимо знакомое, и он вдруг понял – что: оно напоминало Ингино письмо перед их женитьбой. Почти слово в слово: – «Лодик, мне ничего от тебя не нужно, но я хочу родить и рожу от тебя малыша…» – Будь оно все проклято! – «…Мы подходим друг к другу во всех отношениях, ты – мой и только мой, а там тебя не любят, ты приносишь себя в жертву… ее я видела, специально съездила в Технологический институт и мне показали. Жена такого Ученого могла бы следить за собой и получше! Кстати, в человеке все должно прекрасно. Хотя ты, наверное, это и без меня понимаешь, иначе не стал бы встречаться с другой женщиной.» – Дорофеев даже зубами заскрипел. – «Ты живешь рядом с ней, а принадлежишь только мне, нет, нам. В общем, я, конечно, желаю тебе счастья». И конец письма: «И еще я желаю тебе быть смелым, Лодик. И честным – разрубить этот узел! А не хватит смелости, что ж. Я и такого все равно буду любить тебя и принадлежать только тебе, иначе я не могу. Крепко обнимаю и целую тысячу тысяч раз!!
Твоя Альбина».
Альбина? Какая еще Альбина? Не мне! Ошибка… Нет… Нет, не ошибка. Ляля – это Альбина, Альбина Алексеевна…
– Мне стыдно, что я прочла письмо, адресованное, видимо, чужому человеку, – сказала Инга все тем же траурным голосом. – Вернее, до конца я его, разумеется, не читала, только от «дорогого моего человека» до… до… как там? «Лодик», кажется? Кто это – Лодик? Я теряюсь в догадках.
И опять Дорофеев испытал острейшее чувство унижения. И отвращения ко всему и всем. Он ясно видел: сейчас можно сказать, что все это ошибка или дурацкий розыгрыш, упереться, изобразить обиду – мол, откуда ему знать про каких-то Лодиков. Короче, можно снова соврать. Инга, скорее всего, сделает вид, что поверила. И будет худой мир, про который почему-то принято думать, будто он лучше «доброй ссоры». Будет этот самый мир, и прежняя жизнь пойдет дальше. Построенная на вранье! Пошлость какая! И… Ляля-то какова?.. Да что Ляля? Не в ней же дело. Весь этот «роман» – не причина, а следствие. Пошлость! Надо кончать, и здесь, и там.
И Всеволод ушел.
Сборы заняли всего минут пять, в течение которых Инга молчала, он тоже. Понимал, что надо хоть что-то сказать, – и не мог. Самое удивительное, что даже Элла Маркизовна не вымолвила ни слова, только когда, застегнув портфель, Всеволод двинулся к дверям, вдруг растерянно воскликнула:
– Но куда же он? Бог мой! Не надо!
Последнее, что слышал Дорофеев, было:
– Мама, прекрати истерику, это чужой человек.
Первую неделю он прожил у Володьки Алферова.
Тот сперва помалкивал, а потом, запыхтев, принялся убеждать Всеволода помириться с Ингой. Даже предлагал себя в качестве парламентера, а что… влип, так ты сам, извини, этот… чудак. Блудишь, так не попадайся, а не умеешь – не берись. В конце концов, у вас – сын.
– Не лезь, – оборвал его Дорофеев. – Ничего не понимаешь и не лезь! Сыну такая семья тоже ни к чему. Лучше жить с отцом врозь, чем постоянная фальшь и притворство… И для Инги так лучше, ей я давно не нужен, у нее – Антон.
Ну, ну… давай, выдумывай, – пробубнил Володька, но больше этого вопроса не касался.
Вскоре Дорофеев перебрался в пустую квартиру сослуживца, уехавшего в заграничную командировку, а в сентябре снял комнату в Лахте и стал готовиться к зимовке: купил дрова, заменил треснувшее стекло в окне.
Первая же встреча с Лялей кончилась уродливой сценой, рыданиями и упреками. И угрозами. Ляля была вне себя: «Да, письмо на домашний адрес послала нарочно! И. «Дорофеевым» написала нарочно! Нарочно! Нарочно! Чтобы разрубить этот узел! Раз ты настолько безволен, не мог набраться храбрости сказать супруге, что любишь другую! У меня, если хочешь знать, ребенок будет! И я его оставлю, оставлю! Хотя бы и тебе назло!»
Про ребенка она, конечно, врала. Дорофеев слушал визгливый голос, смотрел в маленькие круглые глаза и диву давался: куда девалась молчаливая гордая красавица, Царевна-Лебедь? Сейчас перед ним была злобная, глупая гусыня.
Через неделю они встретились опять – Ляля потребовала, хочет показать какую-то справку из женской консультации. Справку, само собой, «забыла дома», а Дорофеев в этот вечер сделал то, о чем впоследствии старался не вспоминать: вместо того чтобы, как было твердо решено накануне, сказать Ляле, что эта встреча – последняя, он, смертельно устав от ее слез и жалоб на тошноту, дал ей понять – дескать в неопределенном будущем они, возможно, и поженятся – почему бы и нет? – а вот о ребенке сейчас не может быть и речи.
– Мы будем вместе? Да, Лодик? Скажи! Правда? Ты обещаешь? – мгновенно оживилась Ляля, забыв, как секунду назад истерически рыдала.
Поглядывая на ее сразу похорошевшее, веселое лицо, измотанный Дорофеев вяло думал: «Комедия! От начала и до конца, будь оно все проклято. Завтра же скажу ей, что…»
– Так это точно? Ты, правда, обещаешь, Лодик? – теребила его Ляля. – Я не спрашиваю – когда, но в принципе?
– Я ведь сказал «возможно». В смысле – «не исключено», – ответил Дорофеев, мысленно назвав себя идиотом. – Рано пока об этом, рано, неужели не понимаешь?
– Понимаю, отчего же нет? – промурлыкала Ляля, по-хозяйски беря его под руку. – Я все сделаю, Лодик, завтра же пойду в консультацию, возьму направление. Ребенок нам, и верно, пока ни к чему, сначала надо…
Всеволод хотел было напомнить, что в консультации Ляля вроде была сегодня, да не стал – пускай себе… Рыдания прекратились, и то хлеб. Актриса… Мерзость, которой она тут занимается, имеет точное название: шантаж. В конце концов, даже если бы все оказалось правдой… маловероятно, но – допустим, то и тогда никто не имеет права так себя вести. Взрослые люди, знали, на что шли! И знали, что за все надо платить. Кстати, он, Дорофеев, уже успел расплатиться, по самой высокой цене: потерей сына! И собственной ложью, от которой хочется сдохнуть. Опять соврал. Противно. Противно, несмотря на то, что это была как бы ложь во спасение, просто чтобы прекратить истерику посреди улицы. Володька вон тоже соглашается со своими психами, когда те утверждают, будто они Штирлицы.
Ляля между тем совершенно успокоилась, напудрила нос, поправила волосы и всю дорогу до дома громко смеялась и кокетничала. Дорофеев смотрел на нее, и она ему не нравилась, однако, прощаясь, обещал в один из ближайших дней позвонить – надо же наконец обсудить все серьезно. На обратном пути он хмуро думал, что непременно встретится с ней завтра и скажет… Что скажет? В общем… объяснит.
Но именно завтра подвернулась срочная поездка в Новосибирск. За два часа оформив командировку, Дорофеев улетел. Вернулся он через неделю и сразу узнал, что первые три дня его отсутствия какая-то женщина буквально обрывала телефон.
– Представляете – по пять раз на дню: «Где Всеволод Евгеньевич? Когда вернется?» – посмеиваясь, докладывала лаборантка Юля. – «Если будет звонить, передайте, что его разыскивает Альбина Алексеевна, вы не забудете? Да? Правда? Запишите, пожалуйста!» До того настырная гражданка, ну – ужас! А потом вдруг перестала звонить, как отрезало.
Юля очень похоже передразнила Лялю, но Дорофеев даже не улыбнулся, кивнул и озабоченно направился в свой кабинет. Ляле он в этот день решил не звонить, – надо же как-то подготовиться, собраться с силами. Но ни завтра, ни послезавтра так и не смог заставить себя набрать ее номер. А от нее, слава богу, не было ни слуху, ни духу.
Постепенно Дорофеев пришел к выводу, что Ляля все поняла сама и, наверное, уже успокоилась. Вот, кстати, лучшее подтверждение тому, что все она тогда выдумала!
Но в самом конце сентября, когда он перестал уже вздрагивать от телефонных звонков, в трубке вдруг послышался Лялин голос. Трагическим тоном она принялась плести несусветную историю про ужасные – просто кошмарные! – неприятности на работе.
– В общем, мне необходимо с тобой встретиться, мне ничего такого не нужно, не думай, только – совет, это не телефонный разговор, там есть один подсудимый момент, дело очень серьезное, поверь..
Сперва ребенок! Теперь суд!..
Дорофеев весьма сухо ответил, что сегодня вечером, увы, опять уезжает. В длительную командировку, а ей целесообразнее всего обратиться в юридическую консультацию, он же, Всеволод, к сожалению, физик, а не адвокат. И до свидания.
– Подлец. Какой ты подлец… – надрывным полушепотом сказала Ляля. И больше не звонила ни разу.
…С тех пор Всеволод Евгеньевич считал, что совершенно не разбирается в людях – выдумывает их, наделяет чертами, которых нет. Только в работе все ясно и чисто, без обмана! А люди – мало того, что постоянно делают пакости сами, так еще норовят втянуть и перепачкать других. Вот извольте: уже «подлец»… Нет, наука, только наука, где единственный критерий – истина, независимо от того, нравится она кому-то или нёт. Наука… И еще – природа, мудрая, бескорыстная и прекрасная!
И в характере Инги он тоже, как выяснилось, не разобрался. После ухода из дому все-таки ждал звонков, объяснений, подробного разбора: во-первых, что всегда был плохим мужем и эгоистом, во-вторых, отвратительным отцом, которому теперь незачем встречаться с сыном, Для мальчика это крайне, да, крайне! вредно. И ошибся: Инга не только сама не пыталась выяснять отношения, но и попытку Всеволода Евгеньевича пресекла, даже ушла, когда он явился за вещами. А Антона отпускала к отцу беспрепятственно и неукоснительно. Сам Антон по поводу того, что произошло, ни разу не сказал ни слова.
В конце сентября в «верхах» совершенно неожиданно было принято решение о передаче тематики дорофеевского сектора головному московскому институту. Всеволоду Евгеньевичу как руководителю работы и еще двум его сотрудникам предложили перевод. Дорофеев счел своим долгом обсудить это с Ингой, но та от встречи опять отказалась. А по телефону заявила:
– Поступай как знаешь. Как лучше тебе.
И он дал согласие.
Антон приезжал каждые каникулы, а в промежутках писал. Примерно через год смягчилась и Инга; в последнее время даже довольно часто звонила посоветоваться насчет сына. Позапрошлой зимой увиделись – он приехал в Ленинград на конференцию, а Инга, не предупредив, пришла послушать его доклад. Встретившись после заседания, оба вдруг обрадовались, даже обнялись по-родственному.
– Ты замечательно выглядишь, от поклонниц, наверное, отбою нет, – добродушно сказала Инга, и Дорофеев усмехнулся: накануне как раз получил афронт от красивой женщины, на которую обрушил все свое проверенное обаяние.
Сама Инга здорово постарела, еще больше похудела и носила очки с толстыми стеклами, отчего сразу стала похожа на мать.
– Как Элла Маркизовна? – почему-то с большим интересом спросил Дорофеев.
Инга только рукой махнула:
– Все воспитывает нас с Антоном. Только… она уже совсем-совсем как ребенок.
А с Антоном были постоянные волнения и страсти. Особенно когда он выбирал вуз – решил поступать на филфак, а Инга с матерью, к удивлению Дорофеева, восстали. «Ты должен идти по стопам отца!» Антон, как всегда спокойно, объяснил, что физика – прекрасная наука, но он хочет заниматься литературой, так как ему интересны не элементарные частицы, а живые люди.
Всеволод Евгеньевич, знавший обо всех этих перипетиях от сына, сразу принял его сторону: такие вещи человек должен решать самостоятельно, тут ошибиться – страшное дело! А в том, что Антон давно и серьезно все обдумал, сомнений не было никаких.
Вообще, чем старше становился Антон, тем больше он нравился отцу. Хотя во многом был непонятен. Но, может так и должно быть – разные поколения? Главное, что они совпадали в таких главных понятиях, как «хорошо» – «плохо».
Первое время после переезда в Москву Дорофеев часто бывал в доме профессора Лосева, которому был обязан и своим переводом, и получением новой должности заведующего отделом (на сей раз от повышения отказываться не стал, это давало большую свободу действий, а работы с людьми он не боялся, привык и научился кое-чему за время управления сектором).
Лосев был женат на Светлане Андреевне, бывшей своей аспирантке, все еще красивой женщине двадцатью годами его моложе. Науку она давно оставила, делала от случая к случаю рефераты для разных журналов, а больше занималась делами мужа. Дорофееву нравилось приходить к Лосевым, у них был «открытый дом», куда можно в любое время явиться без звонка и застать за столом постоянную компанию людей, с которыми легко и, в общем, довольно интересно. Тут всё всегда знали; самые свежие новости из любых областей – от политики до балета, хотя ни дипломатов, ни балерин среди лосевских друзей вроде бы не было. Чем занимается каждый из них, Дорофеев понятия не имел, как-то не принято было здесь говорить о работе. И, подумав, он решил: это прекрасно! В дом зовут не «нужников», не престижных гостей, а тех, кого любят; правда, и физиков у Лосевых он почти не встречал, зато там иногда появлялся один пожилой писатель, друг покойного отца Светланы Андреевны, одинокий человек, любивший повторять, что ходит сюда «отогреть свои стариковские кости». Здесь же Дорофеев впервые встретил своего земляка, энергичного ленинградца Игоря Михайловича Синяева, глядя на которого можно было сразу сказать: карьерист, чего Синяев, кстати, нисколько не скрывал, и в его простодушном цинизме было какое-то даже обаяние. Этот Синяев был единственным, кто говорил в доме у Лосевых о служебных делах.
– У меня план-график. Сейчас я – зам, так? А лет эдак через пять, вот увидите, подсижу генерального директора. У него как раз пенсионный возраст. Но это программа-минимум..
– А максимум? – спрашивала Светлана Андреевна, улыбаясь, – Синяеву улыбались все дамы подряд без различия возраста и семейного положения.
– Замминистра! – заявлял тот. – Я же ведь пройдоха. Не верите? Да и связи имею! – и хохотал, окончательно обезоруживая слушателей.
У Лосевых вкусно кормили за изысканно сервированным столом. Иногда Светлана Андреевна с гордостью сообщала:
– Прошу обратить внимание на новые вилки. Купила вчера в старьевке. Видите – ручки? Настоящая кость. Конец века!
От вилок эпохи загнивания капитализма плавно переходили к искусству. И тут Дорофеев нередко попадал пальцем в небо: похвалит с энтузиазмом новый роман, а в ответ неловкая пауза. И выясняется: все этот роман прочли давным-давно, еще в рукописи. «А в журнале он, говорят, неузнаваем. Но, между прочим, и в рукописи был далеко не «ах», а концовка – это уж вообще…»







