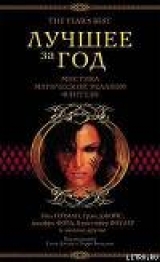
Текст книги "Лучшее за год. Мистика, магический реализм, фэнтези (2003)"
Автор книги: Нил Гейман
Соавторы: Грэм Джойс,Робин Мак-Кинли,Джеффри Форд,Дж. Рэмсей Кэмпбелл,Чайна Мьевиль,Бентли Литтл,Томас Майкл Диш,Келли Линк,Кристофер Фаулер,Элизабет Хэнд
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 55 страниц)
Элизабет Хэнд
Генри Даджep наизнанку
Пер. И.Богданова
Элизабет Хэнд – автор шести романов, в том числе «Walking the Moon», «Winterlong», «Glimmering», «Mortal Love», и множества рассказов. Произведения Хэнд завоевывали многочисленные награды, среди которых Всемирная премия фэнтези, премия «Небьюла», литературная премия имени Джеймса Типтри Младшего.
Критические статьи и эссе Элизабет Хэнд регулярно появляются в The Washington Post Book World, Village Voice и Fantasy and Science Fiction. Всю жизнь писательница интересовалась необычным и фантастическим в искусстве. Жизнь и творчество Генри Дарджера сквозь призму острого, сочувственно/о и проницательного эссе Хэнд предстают нерешенной загадкой, которую нельзя просто описать или проигнорировать.
Впервые сокращенная версия этого эссе была опубликована в Fantasy and Science Fiction.
Вначале этого года жители Нью-Йорка выстраивались в очередь, чтобы увидеть живые, большого формата образы мира, столь не похожего на наш, населенного доверчивым, как дитя, народом, что ведет грандиозную битву с чудовищными силами зла. Драконы, демонические существа, тщательно детализированные пейзажи, добросовестно воспроизведенные сцены боевых действий и возмущения разрушительных сил природы – все это плод воображения благочестивого католика, родившегося в 1892 году, того, чье творчество отразило как увлечение автора христианскими мифами, так и дурное влияние войн и технологий двадцатого столетия.
Что это – первая часть «Властелина Колец» Питера Джексона? Нет. Это картины Генри Дарджера, так называемого «постороннего художника», колоссальное наследие которого – все то, что им нарисовано и написано, – посмертно закрепило за ним известность как одной из любопытнейших фигур минувшего столетия. Со времени обнаружения в квартире Дарджера в 1972 году за несколько месяцев до его смерти огромного клада картин-коллажей, художественных текстов и автобиографического материала, интерес к его творчеству только возрастает. Более того, теперь, после почти ста лет безуспешных попыток, благодаря Дарджеру возникла возможность перевода дощечек с древнекритским линейным письмом. Но если творчество Дарджера уже досконально исследовано, то работа другого выдающегося художника, Дж. Р. Р. Толкина, по-прежнему страдает от невнимания, а нередко и от высокомерного презрения критики, несмотря на коммерческий успех – даже как раз «благодаря» ему.
А Толкин и Дарджер – современники, они родились в разные месяцы 1892 года и умерли примерно в одно и то же время – Дарджер в конце 1972 года, а Толкин в сентябре 1973 года. И хотя они жили и умерли, можно сказать, в совершенно разных мирах (Толкин большую часть жизни прожил в Англии, Дарджер – в Чикаго), а во взрослый период они могли бы показаться едва ли не антиподами, ранние их годы отличаются жуткой, внушающей едва ли не суеверный страх симметрией. На обоих глубокое впечатление произвели потери в раннем детстве. Мать Дарджера умерла за несколько недель до четвертого дня его рождения; отец Толкина умер спустя несколько месяцев после того, как будущему писателю исполнилось четыре. Оба остались сиротами в раннем возрасте. После смерти (от диабета) матери двенадцатилетний Толкин вместе со своим младшим братом попал под опеку великодушного приходского священника, а затем его взял к себе родственник. В 1900 году больной отец Дарджера увлекся церковной деятельностью; его сын был приписан к воспитательному дому мальчиков-католиков, а после смерти отца, пять лет спустя, тринадцатилетний Дарджер был помещен в воспитательное заведение закрытого типа (в 1908 году он оттуда сбежал). Оба начали работать над своими эпопеями примерно в одно и то же время – Толкин в 1913 году, а Дарджер – годом раньше. Оба в своем искусстве использовали визуальные и вербальные формы. И обоих увлекло создание эпической истории воображаемого мира: Средняя Земля Толкина и Царство Нереального Дарджера.
Книга «Генри Дарджер: в Царстве Нереального» историка Джона М. Макгрегора – авторитетный труд, который кажется столь же монументальным и всеохватным, как и сам предмет его исследования. Макгрегор – автор вышедшей в 1988 году монографии «Открытие искусства безумных», скрупулезного изучения формы выражения, которую называют по-разному – арт брют, народное искусство, искусство самоучек, воображаемое искусство, но которое теперь чаще всего определяется термином «искусство постороннего». Это выражение слишком широкоохватно, что огорчительно. Его применяют по отношению к таким несопоставимым художникам, как чудесный живописец Викторианской эпохи Ричард Дэдд, член Королевской академии, не посторонний, не самоучка, но бесспорный безумец; Крис Марс, одно время бывший музыкантом, а теперь дорого продаваемый художник, в работах которого весьма ощутимо влияние наследственной шизофрении; художник из низов Хауард Финстер и анатомический живописец-трансценденталист Алекс Грей. Наверное, «визуальный» – более точное определение, особенно смягченное словами «навязчивый» или «всепоглощающий» (что применимо и к большей части написанного Толкином).
Возможно, самая острая реакция на подобные сугубо личные, глубинные акты творческого самовыражения исходит от художника Натана Лернера, домохозяина Дарджера и человека, который вместе с помощником-студентом открыл монументальные свершения Дарджера незадолго до смерти последнего:
«Что заставило его делать все то, что делать было не нужно?»
В самом деле, что? Возможно, Генри Дарджер и не был безумцем, но он был настолько близок к расклейщику афиш, насколько может быть только посторонний художник. За несколько недель до четвертого дня рождения Дарджера его мать умерла от родильной горячки после появления на свет девочки. Дитя, сестра Генри, позднее была отдана на удочерение; ее дальнейшая судьба неизвестна, но ясно, что ее исчезновение вскоре после смерти матери и горе отца явились главным событием, вокруг которого взрослый Дарджер сконструировал блестящую, полную треволнений и волнующую историю «Царства Нереального». Побывав в воспитательном доме для мальчиков-католиков, в 1904 году двенадцатилетний Дарджер был помещен в Линкольновский дом для слабоумных детей. Его отец помог составить документы о препоручении перед своей кончиной в 1905 году. Генри оставался в доме до 1908 года. Причиной его пребывания там была склонность к агрессивному поведению (избиение младших детей, возможно, негативная реакция по отношению к маленькой сестре, которая лишила его матери; нападение на учителя; поджоги; злоупотребление своей силой). Это побудило осматривавшего его врача объявить ребенка «безумным». Однако, несмотря ни на какие психологические отклонения, юный Генри отнюдь не был слабоумным. Он был развит, любил читать, особенно газеты и книги по военной истории (Гражданская война была его особой страстью); во время пребывания в католическом приюте он был, вероятно, изумлен издательской деятельностью, которую вела миссия, привлекая к участию в ней воспитанников. Макгрегор предполагает, что Дарджер, возможно, страдал синдромом Аспергера. Это сравнительно мягкая форма аутизма, которая характеризуется затруднениями в установлении и поддержании человеческих отношений и вызывающим поведением – часто при нормальных умственных способностях и свободе устной речи.
Несмотря на позднейшее заявление Дарджера: «В конце концов мне понравилось там, еда хорошая и ее много», дом для слабоумных детей был, должно быть, кошмарным учреждением, отличавшимся яростными вспышками агрессии и отсутствием какого-либо взаимопонимания между его 500 сотрудниками и 1200 обитателями. Летом случались передышки, когда Генри посылали работать на ферму за пределами города. После нескольких неудавшихся попыток бежать, семнадцатилетний Генри наконец-то сделал это и возвратился в Чикаго, где нашел работу швейцара в больнице Святого Иосифа.
«Странно это, но о том, чем хорошо обладать, и о днях, которые приятно проводить, быстро рассказывается, и не очень-то к этому прислушиваются; а вот из того, что страшно и даже ужасно, получается хороший рассказ, да и рассказывать приходится долго».
Так Толкин размышляет в «Хоббите». И хотя продолжение жизни Генри Дарджера лишь с большой натяжкой можно назвать «хорошим», значительных событий в жизни этой определенно не происходило, во всяком случае на взгляд стороннего наблюдателя. В 1917 году он был призван в армию, но спустя несколько месяцев демобилизован по состоянию здоровья. После этого он работал швейцаром и посудомойкой в больницах. Затем, когда он сделался слишком слаб для подобной работы, ему стали поручать более легкие занятия прислуги. Похоже, что у него был всего-навсего один настоящий друг. В 1932 году он переехал в многоквартирный дом, где в одной большой комнате ему предстояло провести остаток жизни. В 1956 году здание было куплено художником Натаном Лернером, человеком доброжелательным, богатым представителем богемы, создавшим из дома своеобразную пристань для художников, музыкантов и студентов художественных школ, которые не только терпели присутствие Дарджера, но и оказывали посильную помощь одинокому старику.
Лернер был для Дарджера исключительно гуманным домовладельцем: он не поднимал квартирную плату и мирился с тем, как ведет домашнее хозяйство его постоялец. Он и другие обитатели дома 851 на Уэбстер-стрит по очереди помогали Дарджеру, порой подкармливая его и помогая с медицинским обслуживанием; но самое важное, они обеспечивали ему контакт с миром, которого не было в голове Дарджера. Ибо к 1960-м годам Генри Дарджер стал одной из потерянных душ, которые населяют городские окраины. Скрытный незаметный человек – ростом он был чуть больше пяти футов, – облаченный в то, что осталось от шинели, Дарджер каждый день часами бродил по боковым улицам, заглядывая в урны в поисках того, что потом приносил в свою комнату. Макгрегор цитирует гостя Дарджера:
«Мусора было ужасно много. Стопки старых газет и журналов высились до потолка. Если у человека бывает пара очков, то здесь их была, должно быть, сотня. Резиновые жгуты, целые коробки резиновых жгутов. Башмаки, множество башмаков. Но все это было приведено в определенный порядок. Стол был завален фута на два-три, кроме рабочего места. На столе – все эти рисунки и картинки. Я не был чужд искусства, и меня немного все это занимало, но было очевидно, что все это личное, чересчур личное».
Соседи Дарджера часто слышали, как он разговаривает сам с собой, ведет продолжительные беседы на разные голоса. В это время он находился на последних стадиях продолжавшейся всю жизнь борьбы с Богом, борьбы, которую он зафиксировал в своей многотомной эпопее.
«Опять проблемы с веревкой. Слишком безумен, чтобы хотеть быть плохим торнадо. Ругался на Бога, однако ходил на три утренние мессы. Успокоился к вечеру. Кто я на самом деле – враг креста или очень-очень раскаявшийся святой?»
Да извечная борьба с веревкой. И тем не менее из чего и состоит наша жизнь по большей части, как не именно из этого: из борьбы не на жизнь, а на смерть с шефом, детьми, супругой или супругом, соседями, соседской собакой, с хождением по магазинам и поездками на работу? А что же Бог? Каждое время имеет то искусство, какого заслуживает, и святые у нас такие, которых мы заслужили. И в этом случае Генри Дарджер вполне заслужил канонизацию, которой был удостоен вскоре после смерти. Начало ей было положено, когда он наконец оставил Уэбстер-стрит ради католического дома призрения. Ему было восемьдесят лет. Незадолго до его смерти Натан Лернер зашел в комнату Дарджера, чтобы навести там порядок. Как он сам потом вспоминал, «стыдно признаться, но только после того, как я заглянул под все кучи хлама в его комнате, я понял, какой невероятный мир Генри создал. Только в последние дни жизни Генри Дарджера я подошел близко к пониманию того, кем в действительности был этот старик с шаркающей походкой».
То, что Лернер нашел под принудительно приведенными в порядок кучами веревок, очков и газет, было восьмитомной биографией Дарджера, над которой он работал с 1963 года, и в нескольких старых чемоданах, где она хранилась, клад – оригинальные живописные работы, которые сделали Дарджера знаменитым. По словам Макгрегора «… пятнадцать томов, 15 145 отпечатанных на машинке страниц, бесспорно самое большое из когда-либо написанных произведений. Чуть позже обнаружились три огромных переплетенных тома с иллюстрациями к этой работе, несколько сот картин, многие больше двенадцати футов длины, написанные на обеих сторонах картона. Домовладелец внезапно наткнулся на тайную работу всей жизни, которую никто никогда не видел: альтернативный мир Дарджера».
Этот мир – огромная безымянная планета, вокруг которой по орбите движется наша Земля. Титульный лист первого тома ее истории гласит:
ОН ИСТОРИИ ВИВИАНСКИХ ДЕВУШЕК В ТОМ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ЦАРСТВО НЕРЕАЛЬНОГО,
О ГЛАНДЕГО-АНГЕЛИПИАПСКОЙ ВОЙНЕ, НАЧАВШЕЙСЯ ИЗ-ЗА ВОССТАНИЯ ДЕТЕЙ-РАБОВ
Вивианские девушки! Семеро смелых юных принцесс со своим братом Пенродом вступают в битву со взрослыми мужчинами, гланделинианами, врагами, которые существуют как будто лишь затем, чтобы схватить, заточить в узилище и, подвергнуть истязаниям детей-рабов христианской страны Абинии. Созданная по образцам книг, которые он любил, когда был ребенком, – книги о стране Оз Л. Франка Бома, истории о Хайди Джоанны Спайри, «Хижины дяди Тома» и серии о Пенроде Бута Таркингтона, эпопея Дарджера ведет вивианских девушек по бесконечной цепи неприятностей, заговоров, битв, заключений в тюрьму, побегов и разрушительных бурь.
Вместе с тем Дарджер признается: «Это не та земля, где живут Дороти и ее друзья из страны Оз». Похоже, Дарджер не обладал чересчур большим даром рисовальщика: он создавал свои работы посредством коллажа, узора, фотокопирования и увеличения чу: жих рисунков, потом, раскрашивая их от руки и накладывая густой слой красок, создавал нечто сюрреалистичное, безумно смешное и очень часто ужасное. Фигуры вивианских девушек и детей; рабов по большей части заимствованы из детских книг-раскрасок и газетных комиксов, это диснеевские образы, объявления, иллюстрации из «Сатердей Ивнинг пост»; злые гланделинианские генералы – из газетных фотографий и изображений солдат времен Гражданской войны. Там есть замечательные, похожие на драконов бленгигломенеанцы и бленглины, дети с рогами барана и роскошными крыльями бабочек. Пейзажи обширны, с деревьями Тунтауна и голубыми небесами; впрочем, преобладающая погода – циклоны, торнадо, град, да еще и пожары – в общем, «безумная ярость сумасшедшей бури». Вот образцы подписей Дарджера к иллюстрациям: «Волнующее время, когда снаряды рвутся вокруг», «Дети привязаны к деревьям на тропе лесных пожаров. Несмотря на жуткую опасность, вивианские девушки спасли их». И «Все хорошо, хотя буря продолжается».
В голове Генри Дарджера она продолжалась десятилетиями. Это буря противоборствующих импульсов. Искусствоведы отдают должное блестящему использованию Дарджером света и его прямо-таки гениальному умению составлять коллаж. Многие работы Генри Дарджера в Американском музее народного искусства безусловно замечательны, это акварель с драконоподобными бленгинами, напоминающая райское видение, профильтрованное через Климта; групповой портрет глендилинианских генералов, ожидающих оживления питона Монти Терри Гильяма; девятифутовое полотно, изображающее вивианских девушек и их союзников в идиллической обстановке с цветами, что вызывает в памяти пасторальную прелесть «Ночных грез в середине лета».
Но это не страна Оз. Девушки-рабыни здесь обычно обнажены (значительная часть текста посвящена их раздеванию) и у них мужские, а не женские половые органы. Экономической причины для их порабощения нет: дети существуют исключительно для того, чтобы их мучили – с ужасающими подробностями хищники-гленделинианцы истязают, потрошат, жгут и бичуют их. Макгрегор в своей работе убедительно доказывает, что в случае Дарджера мы имеем исключительную возможность всмотреться в мир того, кто в иных обстоятельствах вполне мог бы стать педофилом, а возможно, и маньяком-детоубийцей.
Учитывая нынешний навязчивый интерес Америки к педофилии и серийному убийству, не удивительно, что имеется подготовленная аудитория к восприятию подобных работ. Однако сила искусства Дарджера отнюдь не в непреодолимом желании или даже страсти в подглядывании за деятельностью того, кто почти наверняка оказался не слишком доволен нашим вниманием. К тому же Дарджер, подобно художественному критику Викторианской эпохи Джону Раскину, кажется, был незнаком с фактами человеческой анатомии и, вероятно, репродукции, да и счел бы отвратительным – возбуждать обычно сдерживаемую страсть к подглядыванию большинства «нормальных» людей.
Тексты Дарджера, если брать их отдельно от визуального ряда, отличаются однообразием заурядной порнографии (но без описаний собственно секса). В целом же «Царства» – мучительный и детальный портрет человеческой души: жестокой, банальной, но со вспышками божественного. Как говорит Макгрегор:
«Обостренное внимание Дарджера к насилию и злу в мире, и особенно в жизни детей, было несомненно мотивировано наличием чудовищных побуждений и желаний в нем самом. Отойдя от мира, мистик отнюдь не избавляется от соблазнов, а открывается злу в его чистейшем виде, поднимающемся изнутри. Дарджера, как и братьев-пустынников, неоднократно одолевали подобные соблазны, но, встретившись с ними в Царстве Нереального, он защитился от опасности привнести их в мир действительный… Зло, доведенное до невозможной крайности, безусловно должно привлечь внимание Бога».
Впервые я услышала о вивианских девушках в 1979 году в песне «Вивианские девушки» покойного Снейкфингера (Филип Литман):
Вивианские девушки – застывшие создания,
Избранные.
Стоят на пьедестале под солнцем
И тают, только начали таять.
И никто не знает, что произойдет,
Когда лед вокруг вивианских девушек растает.
Наконец лед вокруг вивианских девушек растаял. Картины Дарджера продаются почти по сотне тысяч долларов, изображения его буйных драконов, смелых принцесс и генералов-убийц можно видеть в музеях и собраниях всего мира. Их грустный, хрупкий создатель добился в смерти славы, которая наверняка озадачила бы его, случись она при жизни.
В книге Джона Кроули «Моторное лето» некие ангельские создания хранят хрустальный глобус, в котором зафиксирована вся память и весь жизненный опыт одного-единственного человека, которого зовут Раш Говорящий. В заключительных строках романа ангел беседует с закодированной в глобусе совестью Раша:
«Взаимопроникновение, да. С другим… ты изумишься небесному куполу, облакам и расскажешь о себе. Каково это – быть не здесь, а на пьедестале, мы не знаем; мы знаем только то, что ты придешь…
Мы не знаем ничего, Раш, кроме того, что ты нам говоришь. Ты здесь, Раш, и это все».
Думаю, что благоговейный страх, ужас и унижение, которые мы испытываем, разглядывая работы Генри Дарджера, не отличаются от этого ощущения взаимопроникновения с другим существом; ты здесь, и для нас это все. Вечное стремление создавать – это то, что сделало из глубоко израненного, отъединенного от людей мужчины по имени Генри Дарджер человека. И это в конечном итоге, возможно, сделает его бессмертным.
Кевин Брокмейер
Зеленые дети
Пер. О. Ратниковой
Фантастические рассказы Кевина Брокмейера печатались во многих журналах; он является лауреатом литературных премий Итало Калъвино, Нельсона Альгрена, премии О’Генри и стипендии Джеймса Михенера и Пола Энгла. Брокмейер – автор превосходного сборника рассказов «То, что падает с неба» и замечательного романа для детей «Город имен». Его новое произведение, «Правда о Селии», опубликовано летом 2003 года. Брокмейер проживает в городе Литтл Рок, штат Арканзас.
Хотя в произведениях Брокмейера можно обнаружить черты различных жанров (реализм, магический реализм, сюрреализм, сказка), предлагаемый вниманию читателей рассказ относится к более традиционной области исторической фантастики. Сюжет основан на истории, записанной в английских средневековых хрониках Уильяма из Ньюбурга и Ральфа из Коггсшелла. Рассказ Брокмейера опубликован в «Арканзасском литературном обозрении», электронном журнале, где помещают свои работы писатели и художники этого штата, и является частью романа «Правда о Селии».
Основано на сообщении из хроники «Historia Rerum Anglicarum» (история Англии с 1066 по 1196 г.), написанной в 1196 году Уильямом из Ньюбурга.
Говорят, я был первым, кто прикоснулся к ним. Когда жнецы нашли детей в волчьей яме, – девочку и мальчика с кожей блеклого, мертвенно-зеленого цвета, какой бывает у пожухлой травы, – они содрогнулись и ни за что не захотели до них дотрагиваться. Они погнали детей через поле, подталкивая рукоятками кос. Я смотрел, как они приближаются ко мне, сидя на своем камне на берегу реки. Длинные, изогнутые лезвия кос сверкали на солнце, слепя меня, и я с трудом мог рассмотреть детей – мальчика и девочку, ухватившихся за одежду друг друга, нервно перебиравших ткань зелеными пальцами, с обращенными к солнцу зелеными лицами. Жнецы подталкивали и пинали детей, пока они не оказались рядом со мной, на берегу, где зеленая речная вода плескалась у их башмаков. Я позволил себе внимательно рассмотреть их. Олден взял меня за плечо и произнес:
– Мы решили, что это гнойная болезнь. Когда мы их нашли, они что-то кричали, но никто не понимает их языка. Мы отведем их в дом Ричарда де Кальна.
Я мало смыслю в медицине, а в те дни я знал еще меньше, но я видел, что, если не считать цвета кожи, дети были совершенно здоровы. На их руках отчетливо выступали вены ярко-зеленого цвета, как листья клевера или шпината. Дыхание их было ровным и чистым.
– Ты не перенесешь их через реку? – попросил меня Олден, и я помедлил, прежде чем отвечать, продолжая выковыривать хрящ между зубов заостренной веточкой.
Я знаком с правилами игры.
– Две монеты, – ответил я. – По две за каждого. И по одной с каждого из вас.
Жнецы начали рыться в сумках в поисках денег.
Если не я первый дотронулся до детей, то уж точно был первым, кто взял их на руки.
Я посадил мальчика на плечи (одному из крестьян пришлось ударить девочку по запястью рукояткой косы, чтобы та отпустила его руку) и уже дошел до середины реки, когда Олден позвал меня обратно:
– Сначала возьми кого-нибудь из нас. Если ты оставишь мальчика там одного, он сбежит.
И я перенес на другой берег двоих крестьян, а затем и мальчика, потом вернулся за девочкой и посадил ее на сгиб руки, так что она сидела на холме мышц, словно всадник верхом на пони. Это было много лет тому назад, когда я мог донести полное корыто воды от реки до конюшен, или поднять над головой теленка, или поддерживать стену дома до тех пор, пока солнце не высушит фундамент. Вода уже доходила мне до пояса, когда я наступил на клок толстого скользкого, как желе, мха и потерял равновесие. Девочка обхватила меня за шею и заговорила испуганным резким голосом, произнося невнятную череду звуков, в которых я ничего не мог разобрать.
Я удержал равновесие, вытянув руки, и услышал, как один из жнецов на берегу смеется надо мной. Девочка расплакалась, судорожные рыдания сотрясали все ее тело, и я взял ее за подбородок и повернул к себе лицом. Глаза ее были темно-карими, словно жженый ячмень, такими же карими, как мои собственные.
– Я знаю этих людей, – сказал я ей. – Посмотри на меня. Я их знаю. Никто не хочет причинить тебе зла.
С ее носа свисал желтый комок слизи, и я вытер его пальцем и стряхнул в воду, где рыбы бросились щипать его.
– Не плачь, – сказал я и, в три больших шага добравшись до берега, опустил ее на землю.
Когда жнецы увели детей в Вулпит, я позвенел монетами в кармане, ощутив их успокаивающую тяжесть и зазубрины на ребрах. Стая из семи птиц пролетела в небе надо мной. Предстоящая неделя должна принести изменения в судьбе. Это был верный знак.
Река течет прямо посередине города, поля, церковь и конюшни находятся на одной стороне, а кузница, таверна и рынок – на другой. Река – это злобный, брызжущий пеной дракон, она несется мимо берегов неистово и бурно, и только самые сильные люди могут пересечь ее, не свалившись в воду. Ближайший брод находится ниже по течению, в получасе ходьбы. Это россыпь камней, таких скользких, что кажется, будто они раскачиваются у вас под ногами, как листья кувшинки, и все-таки, пока я не занял свое место на берегу, люди из Вулпита каждый день переходили реку вброд. Тогда я был еще мальчишкой, любил стоять на берегу, бросать в воду скорлупки от миндальных орехов и затем следить, как они прыгают по воде и уплывают прочь. К тому времени, как я стал взрослым, я хорошо знал реку, знал каждый ее изгиб, водоворот и волну. Скоро я обнаружил, что легко могу перейти реку. Я нашел себе работу.
Несколько дней после того, как появились зеленые дети, я был очень занят. Я не мог ни минуты посидеть спокойно на своем камне – прибывала очередная компания из города с блестящими монетами в руках, жаждущая увидеть диковинку в доме Ричарда де Кальна. Я поднимал их одного за другим к себе на плечи и переходил реку, склоняясь под натиском воды и упираясь ногами в дно, и одного за другим переносил их обратно, когда они возвращались несколько часов спустя. По ночам, когда я лежал на своем тюфяке, у меня непроизвольно сокращались мышцы спины, подобно тому как бьется о землю рыба, вытащенная из воды. Тогда это было совершенно новое для меня ощущение, но с тех пор я много раз испытывал его.
Люди, видевшие зеленых детей, не могли говорить ни о чем другом, и я слушал их речи, когда они собирались в кучки на берегу:
– Девочку всю клопы искусали, а мальчишка просто лежит и дрожит.
– Я слышал, что де Кальн нанял кого-то, чтобы научить их говорить по-английски.
– Даже десны у них зеленые! Все зеленые, до корней волос!
– А ты видел карлика, что живет в аббатстве Коггсшелл?
– Я прищелкнул языком, как будто пукнул, и девчонка мне улыбнулась.
– Лекарь говорит, что это хлороз – зеленая болезнь.
– Это самые уродливые создания из всех, что я когда-либо видел, омерзительнее, чем нарыв, страшнее, чем эта ведьма Руберта.
– Когда я закрываю глаза, я вижу их перед собой, они светятся, словно болотные огни.
– Я тебе не говорил, что моя дойная корова принесла двухголового теленка в прошлом году?
– Попомни мои слова – они помрут еще до первых заморозков. Река вздулась от дождей после бури, что разразилась в горах, но небо над Вулпитом было таким безоблачным и спокойным, что поток несся почти беззвучно мимо берегов. Когда я нес горожан в воде, доходящей мне до груди, я прислушивался к их рассказам и узнал, что зеленые дети несколько дней ничего не ели, хотя перед ними поставили хлеб, мясо и овощи. Я услышал, что, хотя они не ели, но пили из ковша, а девочка иногда даже мыла остатками воды лицо и руки. Один из людей, осматривавших детей для того, чтобы узнать, не спрятано ли у них оружие, сказал, что их волосы красиво подстрижены, зубы у них ровные и белые, а одежда сшита из странной материи с множеством узких бороздок: она спадала складками жесткими, словно кожа, но была мягкой и гладкой на ощупь. Я слышал, как он говорил:
– Они съежились, как только я отошел. Они сжались в комок и заплакали.
На третий день после того, как появились дети, один из садовников принес им с поля немного свежих бобов. Дети явно обрадовались и начали расщеплять стебли ногтями, ища внутри что-нибудь съедобное, и, ничего не найдя, заплакали. Тогда одна из кухарок забрала у них стебли и показала, как вылущивать стручки. Она показала им ряд бобов внутри, и дети, задыхаясь от радости, протянули к ним руки. Кухарка настояла на том, чтобы сначала сварить бобы, и тогда дети жадно, с удовольствием уничтожили их. Несколько дней после этого они ничего не ели, кроме бобов.
О том, что девочка назвала свое имя, я узнал от Мартина, сына дубильщика. Однажды вечером он пришел на берег реки, держа в руках плоскую корзину, сплетенную так небрежно, что ветки торчали во все стороны.
– У нас огонь погас, – сказал он. – Отец велел мне раздобыть еще.
– Залезай, – ответил я, и он забрался мне на плечи. Когда мы переходили реку, он спросил меня, видел ли я уже мальчика и девочку.
– Да, видел, – отвечал я.
– А ты знаешь, что девчонка заговорила? По-настоящему, я имею в виду.
– И что она сказала?
– Она может сказать слово «вода», и «хочу есть», и «еще». А вот мальчишка еще ни одного слова не произнес.
Мы уже добрались до берега, и я, сняв его с плеч, поднял в воздух, так что у него вырвалось «Иисусе!», и затем поставил его на землю. Он рассмеялся.
– Так, во всяком случае, мне сказал отец, – добавил он и побежал по тропинке, ведущей к деревне.
Когда вскоре он возвратился, в его корзине тлела горсть оранжевых углей. Каждый раз, когда ветерок касался их, они на мгновение вспыхивали ярче, затем медленно тускнели.
– Ты ведь не собираешься высыпать их на меня, а? – заметил я. – Потому что тогда пойдешь домой мокрым.
– Обещаю, что буду осторожен, – ответил он, и я перенес его на другой берег.
Когда я поставил Мартина на влажный песок, то спросил его:
– А девчонка еще не сказала своего имени?
– Сеель-я, – сообщил он. – Она так его и произносит. Забавно.
Он поставил корзину с углями на траву и вытащил из башмака монету: она приклеилась к пятке, и он был вынужден отлепить ее, прежде чем дать мне. Я взял монету и опустил ее в кошель, ставший после дня работы тяжелым, как кулак.
– Ну а теперь прощай, – сказал мальчишка.
– Прощай, – ответил я.
Он зашагал к дому, его корзина с углями светилась в наступающих сумерках.
Еще до дня осеннего равноденствия начали прибывать первые путешественники издалека. Они приходили с востока и с юга (людям с севера и запада не нужно было пересекать реку) и спрашивали, где можно увидеть зеленых детей, о которых идет молва. Они говорили о детях, как о диковине или чуде. Некоторые слыхали, будто дети спят на подстилке, как скот, где-то в яслях или на конюшне, хотя на самом деле де Кальн поместил их в одной из комнат для слуг.
– Вы найдете их там, – объяснял я, туманно показывая на заросли тоненьких, жалких вязов. – Большой дом после ряда маленьких. Вы его не пропустите.
Я предлагал пришедшим перенести их на другой берег. «Всего две монеты», – говорил я: это была моя новая цена для пилигримов. «Или же вы можете попробовать перебраться сами». С этими словами я швырял в воду ветку так, чтобы она упала на середину реки, и поток сразу подхватывал ее, унося с собою. «Ниже по течению есть пороги, там мы обычно вытаскиваем тела».







