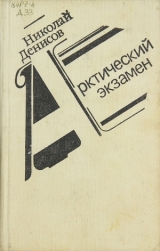
Текст книги "Арктический экзамен"
Автор книги: Николай Денисов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
– И слава богу, – подвел черту Никифор. – Город-то поглянулся? Я в молодости частенько там бывал. Гуляли дай бог!
– Кто его знает! По – старинному домов много настроено. Новые кирпишные зданья начали класть. Проворно кладут. Квартер-то не хватает. Наш Валентин, как специалист, в первых домах и получил. Теперь, судят, строительство пойдет. Наслушалась я днями: по радиво все про нефть – от толмят, на сиверу где-то откопали…
Вернулся Афанасий. Повеселевший. Поставил на стол стеклянную банку с молоком, прошелся по скрипучим половицам. Собеседники уже выговорились, сидели притихшие, умиротворенные.
Дребезжало от ветра стеклышко в летней уличной раме. Садился в лампе огонь. Под порогом таял занесенный на валенках снег. Тепло расходилось по всему дому.
14
Ворота отворил крепкий старичок с жидкой татарской бородкой на смуглом лице, приветливый, расторопный.
– Салям алейкум, – поздоровался Чемакин, откидывая воротник полушубка.
– Алейкум салям, – откликнулся старичок, поклонился, пропуская розвальни в просторный глухой двор. – Заходите, грейтесь, я разуздаю коня, сена дам.
В доме, разделенном на две половины печкой, тоже просторно, тепло. Повдоль стен широкие крашеные лавки, пол застлан домашними половиками, в переднем углу комнаты стол. На полке посуда – большие глиняные тарелки с узорами, подносы, противни, медный полуведерный чайник.
Хозяйка дома – моложавая круглолицая женщина – тоже поклонилась:
– Проходите, проходите…
Из-за чувала печи сверкнули – четыре любопытных детских глаза, опять скрылись.
– Ну, погреемся, Виктор, и дальше поедем, – сказал Чемакин, присаживаясь и на лавку.
Старичок вошел следом, у порога переобулся в мягкие овчинные тапочки.
– Твоя жена такая красавица будет? – с улыбкой спросил Чемакин.
– Моя, моя, и ребятишки мои… Хороший ребятишки. Школы вот близко нет, надо учиться с будущей осени.
Хозяин говорил по-русски чисто, без акцента. Раздевшись, он оказался моложе – не таким уж старичком, как показался Витьке вначале. Он сказал что-то жене по-своему, та захлопотала, загремела блюдами, поставила медный чайник на горячую плиту.
– Дальние будете? – полюбопытствовав хозяин, присаживаясь рядом.
– Да как тебе сказать… И верно, ж ближние. Двадцать верст, наверное, проехали, лошадь заморилась, сами озябли. В Нефедовке мы бригадой стоим. Рыбаки.
– Понятно, понятно, – закивал хозяин, тоже люди казенные… Стронулся народ. Раньше, бывало, за весь год свежего человека не увидишь, счас то и дело кто-нибудь завернет.
– Давно живешь здесь?
– Давно… Восемь лет, как новую женку привез – Фаину, ребятки выродились. Однако уезжать пора, учить их надо…
Витька разогревался в тепле, молча слушал разговор старших. Его удивил и сам дом, одиноко стоящий у кромки леса, и его обитатели, восемь лет живущие одни средь белых снегов, в тайге, вдали от людей больших селений.
– В прошлом году геологи у меня десять дней стояли. Вон радиво оставили в подарок. Фаина, заведи-ка музыку.
Хозяйка улыбнулась, прошла к столу, где под кружевной салфеткой стояла «Спидола». В доме полилась мелодия, тихая, приглушенная.
– Ослабло радиво, тихо играет.
– Батарейки, наверное, сели, – вставил слово Витька.
– Не подскажешь, хозяин, как на Заболотное озеро проехать? – спросил Чемакин.
Хозяин как-то удивленно и внимательно | взглянул на собеседника, поднялся с лавки, сказал что-то жене. Та расставляла на столе посуду, водрузила посредине чайник.
– Садитесь, садитесь… Чай пить будем. От печки остро пахнуло вареным мясом.
Витька только сейчас почувствовал голод. Усаживаясь за низкий столик на корточки, хозяйка ловко накладывала в тарелки жирную баранину, приправленную чесноком и перцем.
– Ай, как вкусно, – похвалил Чемакин, она засмущалась, засветилась румянцем, отчего стала еще красивее.
– Не ездите туда, не советую, – сказал старик, продолжая прерванный разговор, не взглянув на Чемакина.
– Это почему же?
– Яман там бродит…
– Это кто такой еще? – Черт, дьявол по-русски, по-вашему, называется.
– Ну, хозяин, не пугай, – рассмеялся Чемакин, – я партийный, в чертей не верю. Вот и Виктор – мой звеньевой – комсомолец.
– Э – э, начальник… Вижу, ты начальник Не смейся, он и партийных не жалует. Я тоже немного грамотешку кумекаю. Не ходи туда.
– Хозяин, понимаешь, хозяин, у нас задание от рыбзавода – разведать здешние озера. Вот мы в Нефедовке месяц ловили… Никто не тронул… Ямал! Правда, вчера опять за корягу невод зацепился. Мы поехали, остальные чинят. А завтра все снимемся – на Заболотное. Там жилье, говорят, пустует?
– Ешьте, ешьте, – потчевал старик. – Мяса у нас много, есть некому, ешьте. Да… Как же, пустует целая деревня. Побросали дома, за болота ушли. Жили, пока яман не стал шастать… А проехать просто. Верст, однако, шесть отсюдова. Перемело, правда, как проедете!
– Надо, хозяин, – удовлетворенный сговорчивостью старика, сказал Чемакин. – Думаешь, рыбку повыловим, себе бережешь, а?
– Нам се хватит, начальник, зачем обижаешь. Езжайте, коли так.
Разговор за столом стих. Молча пили кирпичный чай – густой, горьковатый, обжигающий. Старик поднялся, сказал, что вынесет коню воды. Вернулся, снова присел к столу. Чемакин с Витькой допивали последние чашки.
– Скажи, дедушка, правда, что ли, там яман бродит? – спросил Витька. – Легенда, наверное, какая-то?
Хозяин отер бороду, склонил набок маленькую голову.
– Не вру, паренек… Ну, слушайте на всякий случай. Было это несколько лет назад, когда яман больно шибко шалил в наших местах. Пойдет охотник в тайгу, не вернется, на озеро выплывет рыбак, лодка опрокинется. По ночам стучался в окошки, в двери скребся когтями, крыши разворачивал, в трубы рычал.
– Медведь, наверно, был, – воскликнул Витька.
– Медведя мы знаем. Обожди, парень… Дошло до того, что снялись люди, ушли за болота, счас спокойно живут… А слух-то прошел далеко, и заходит как-то в тот год ко мне ученый человек, из самой Москвы назвался. На лыжах шел, с карабином. Хочу, говорит, самолично узнать, что тут у вас за существо появилось. Может, как это… снеговой человек.
– Снежный, – радостно подсказал Витька.
– Так – так, – кивнул старик. – Я говорю ему, если хочешь идти, то иди, но не ночуй в той деревне у озера. Он посмеялся и ушел. А на другой день приходит – лица на нем нет, поседел весь волосом. А чуб смоляной был… Что, спрашиваю, видел? Видел, говорит. Хорошо, оружие с собой было, а то бы – конец!
– Интересная байка, – покачал головой Чемакин.
– А дело было так. Только устроился он ночевать в одном доме, печь затопил, смотрит – в окне другого дома огонек. Парень-то и жахнул из карабина по нему. Огонек метнулся, но не исчез… Темно уж на дворе-то… Смотрит, а огонек к нему направляется. Снег только хрустит, тяжело так ступает.
– Кто ступает? – не выдержал Витька.
– Кто его знает, кто? Ступает. Ученый этот выпалил еще раз, да, видать, промазал. Огонек – глаза это светились – уже возле дома, на угол лезет так хватко, что вмиг на крыше очутился. И давай плахи на потолке ворочать. Парень обойму выпалил, да все же попал, видать. Яман завизжал, кинулся с крыши в сугроб… До утра просидел ученый в карауле у окошка. Никто не шевелил его боле. Утром видит – на снегу лапы шириной с лопату и кровь… Вот какое дело-то! – закончил старик.
Во дворе, запирая за путниками ворота, он спросил Чемакина:
– Ружье-то есть с собой?
– Есть одноствольное.
– И то ладно… Ну, добрый путь.
– Благодарим за гостеприимство.
Тайга осталась позади, и розвальни оказались в продутом пустынном тюле. Из – под снега торчали чахлые елочки, хлипкие прутья, кованые полозья ударялись о скрытые под сугробами кочки.
Чемакин опустил вожжи, и Егренька, тяжело ступая по целине, все чаще останавливался. Пошли пешком. Вечерело. Ветерок стих. Снег неожиданно стал мягким и густым, наст ослаб и не держал уже розвальни.
– Иван Пантелеевич, – нарушил молчание Витька. – А вы верите старику… Тому, что он рассказал?
Чемакин задумчив, сосредоточен. Он слов но бы возвращает свои мысли от чего-то дальнего, своего:
– Слыхал я эту байку… Кто его знает? Может, и правда какая легенда, как ты сказал… Да. Что-то хитрил старик. Ты ничего не заметил?
– Нет, а что?
– Да ладно… Мне показалось, что на подворье еще кто-то был. Возле пригона лыжи стояли, снег на полозьях свежий. Добрый охотник не поставит так лыжи, обязательно снег сметет. А старик явно с утра не выходил из дома.
– Витька изумился словам бригадира. Его фантазия по-мальчишески лихорадочно заработала, придумывая самые неожиданные повороты из того, что сообщил Чемакин.
– Знакомый старик-то, – продолжал бригадир. – Но, давай, давай, – прикрикнул он на Егреньку. – Садись, Виктор.
Открылось совсем чистое поле, снег здесь выдули ветры. Егренька засеменил рысцой.
– Знакомый… Приходилось знать, когда в органах работал…
– В милиции? Следователем, наверно?
– Нет, я был участковым уполномоченным, старшиной, – сказал Чемакин. – Ну кое-что слышал о нем. Известная личность в округе была. Отсидел. Потом остепенился. Обосновался в тайге… Нет, плохого о нем больше не слышал.
– А вас он знает? – устроился поудобней Витька па сене.
– Вряд ли. Нет, точно не знает, – заключил Чемакин. – На худое сам не пойдет уж теперь, а выручать кого из бывших своих, пожалуй, может. Вон деревенька. Не боишься ямана? – бригадир улыбнулся. – Пожалуй, и нам придется заночевать, а утром посмотрим подъезд к озеру, и обратно. Как там наши, успеют управиться?
– Успеют.
– Думаю… Сашку с Анатолием Батраков попросил сена подвезти. Пусть помогут.
– Хороший он, Батраков, – сказал Витька. – Видели, сколько у него орденов?
– Нет, не видел, – хитро улыбнулся Чемакин. – А ты как сумел узнать?
– Он на свадьбу к Лохмачу и Наденьке заходил. Не помните?
– Да, Лохмач, Лохмач, – вздохнул бригадир, – отрезанный ломоть. Надо подмогу с рыбзавода просить, пусть пару человек подошлют. Ты-то не собираешься никуда от нас?
– Что вы, Иван Пантелеевич, – засмущался Витька прямоте бригадира и даже на холоде зарделся.
Деревня, о которой говорил старик, представляла жалкий вид. Давно заброшенные с десяток бревенчатых домиков зияли темными провалами окон. Покосившиеся заплоты угадывались за высокими сугробами, наметенными почти до крыш. С самих крыш висела оторванная ветрами тесовая кровля, поскрипывали расшатанные стропила. Похоже, что здесь шастал не только «яман», но прошелся более могучий разрушитель, не щадя, не жалея. Витька с замиранием сердца вглядывался в эти темные провалы окон, каждое из которых невольно таило страх, пробирающий холодом и жутью.
На ночлег выбрали маленькую избушку в полукилометре от этих домов, крепкую, поставленную много позже. Узкие окошечки избушки были целы. На подоконнике, по таежному обычаю, кто-то оставил спички и соль. Возле каминчика в углу – сухие дрова.
Пока Чемакин распрягал коня, поставив розвальни с заветренной стороны избушки, Витька растопил каминчик, принес с воза чайник, наполнил его снегом, подвесил над огнем. Снег быстро растаял, пришлось добавлять еще несколько раз.
Стемнело совсем. Уже не различались близкие дома, и только могучая стена кедрача, подступающая к самой сторожке, тихонько покачивала невидимыми ветвями. Где-то близко покоилось озеро, и Витька думал о том, что вот совсем скоро им обживаться здесь в глухом безлюдном месте. Он думал о Нефедовке, за эти недели ставшей совсем близкой и родной. Жаль уезжать. Он думал о том, что провожать их приплетутся все старики, повыползут из своих полузаметенных домов – может быть, пожалеют, что они уезжают, или молча проводят долгими взорами.
Наверное, приедет с молоковозом из Еланки Нинок и будет тоже смотреть удивленно и растерянно своими глазищами и скажет: «Приезжай, Витя, как-нибудь, здесь ведь близко». А он ответит: «Не знаю, Нина. Может быть, и приеду… Не знаю».
– Попоить бы коня, снег хватает, – прервал его мысли Чемакин, низко пригнувшись в дверях. Он достал из вещмешка банку тушенки. – Разогрей… Поужинаем, и на боковую. Утром рано подниматься.
Потом он принес из розвальней охапку сена, кинул на низкие нары, улыбнулся Витьке: ничего, мол, перебьемся ночку.
– Ого, да тут и фонарь есть, – поднял он к потолку взгляд, – молодцы, таежники, а то старик заливает – яман… Черт бы его побрал!
Избушка осветилась тусклым неровным светом. Возле каминчика было уже жарко, и путники, сбросив гуси, расстегнули полушубки, плотно поужинав, легли спать.
Ночью Чемакин проснулся, взял ружье, вышел из избушки. Обошел ее, тревожно прислушиваясь к ночным звукам. Было все так же тепло и тихо. Егренька мирно похрумкивал сеном, ткнулся в ладонь человека, шумно фыркнул ноздрями. Чемакин укрыл его гусем, подбросил сена. Занес в избушку хвороста, кинул в прогоревший каминчик, посидел у огня.
Витька что-то бормотал во сне, постанывал, беспокойно ворочался. «Намаялся парнишка, – подумал Чемакин, – как бы не простудился, не заболел».
А Витька видел сон. Снилось, будто находится он на свадьбе у Наденьки и Сашки Лохмача, в доме полно народа-за столами, Акрам с Шуркой – конюхом вытягивают из подпола невод. В ячеях трепыхаются караси, и они складывают их прямо на столы. «Зачем вы здесь рыбу ловите? – кричит скотник Кондрухов. – Не мешайте, жених с невестой на тройке покатят!» – «Добром порешим каперацию, – вмешивается портной Лаврен. – Горько!»
Жених с невестой целуются. Оказывается, это Галина с Володей. На Володе белая рубаха и брезентовые штаны. Галина в синем платье и почему-то без фаты. «Без фаты, – думает во сне Витька, – это они нарочно, не всерьез». Галина манит Витьку к себе, он хочет подойти, но никак не может встать со скамейки. «Ну иди, Витенька, я тебя люблю, мы это нарочно, не всерьез», – зовет Галина… Ноги как ватные, а во всем теле такая легкость, хочется лететь, и он летит… Летит, а внизу подпол открытый – черной майной, и в нем стоит вода. «Галя, не ступай туда, там холодно… вода холодная». Он опять сидит на скамейке, и Галина сидит рядом. «Какое у нее горячее плечо, – думает Витька. – Какое горячее плечо!» Открывается дверь, и заходит Яремин, держит в руках курицу, улыбается всем: «Бросайте деньги в солому… Для жениха и невесты… Бросайте скорей».
Деньги бросают, и Яремин ищет их в соломе. «А почему не жених с невестой? Какое горячее плечо у Галины!..»
Курица вырывается из рук Яремина, это вовсе не курица, а черный грач… «Полетел он, полетел, держите ямана!»
– Что с тобой? – слышит Витька голос Чемакина и приподнимает голову на нарах.
– Курица где? Улетела?. – он еще не проснулся.
– Какая курица? Полушубок-то сними. Тепло в избушке.
– А – а! – открыл глаза Витька. – Это во сне… Фу, какая ерунда… Дядя Ваня, скажите, а Толя тоже останется?
– Где останется? О чем ты?
– С Галиной. Он ведь живет у них.
– Да – а. Беда с вами. Понабрал себе в бригаду одних женихов. Кобель он, хоть и твой дружок.
Чемакин снял с огня кипящий чайник, высыпал в него полпачки заварки.
– Может, поспишь еще, а то давай присаживайся!
– Не правы вы, дядя Ваня.
– Скажи-ка, не прав! Забрались в тайгу и думаете, на этом свет клином сошелся? Нет, только до лета… Летом я тебя отправлю из бригады.
– За что, Иван Пантелеевич? – испугался Витька. Подсел ближе, свесив ноги с нар.
– Учиться отправлю. Не хочешь разве?
– Да я и сам думал. – Витьке вспомнился почему-то отец за ужином, его долгие наставления насчет учебы и жизни, от которых хотелось поскорей взять гармошку и сбежать з клуб… Но на сердце отлегло. И опять виделась родная деревня с тополями возле клуба, танцующие под радиолу девчата и завклубша Руфина Ивановна, в глазах у которой постоянно стоит то испуг, то удивление. Каким далеким и прекрасным чудится это близкое время, ушедшее, может быть, навсегда.
* * *
А той же поздней порой отмеривал последнюю лыжную версту до Нефедовки Игнаха Яремин. От одинокого лесного домика, где сидел он в не остывшей еще баньке, пока Чемакин и Витька пили чай, шагал Игнаха, наверное, уже много часов. Во всяком случае, он уже потерял счет времени, поскольку ранняя зимняя ночь сгустилась давно, и глаза привыкли различать чуть заметный уже слеД, оставшийся от полозьев саней.
Ни тогда, когда Игнаха усталый и продрогший ввалился в натопленный дом, попросив накормить, ни потом, когда услышал скрип полозьев у ворот и заспешил куда-нибудь спрятаться, хозяин ни о чем его не выпытывал. Он понимающе кивнул нежданному гостю, молча вывел во двор и указал на дверь той баньки, прилепившейся к бревенчатому сараю.
Игнаха слышал голоса на дворе, когда бригадир и Витька разуздывали Егреньку, и потом, когда прощались с хозяином. И так хотелось Игнахе выйти из своего убежища, вышибить ногой почерневшую от копоти дверь, шагнуть навстречу Чемакину: вот, мол, я весь тут, Пантелеич, куда мне деваться от бригады, бери обратно, обмишурился малость, прости!.. Но эту мимолетную жалость к себе, которую он испытал за эти дни не раз после того, как тракторист высадил его у проходной рыбзавода, опять притупила застарелая злость ко всему на свете. Успокоясь, он все же решил, что назад пути нет, есть только один – туда, в Нефедовку, где он уже начал оседать, закрепляться, и, повернись судьба иным боком, не было бы этой позорной отсидки в баньке, не было бы морозных километров – одному под чистым звездным небом и пугающей жутью непроглядного бурелома – по обе стороны дороги.
Он уже знал эту дорогу в лесном коридоре, но иногда ему казалось, что вот – вот кончится санный след и непроходимая стена темноты и холода подступит к самому горлу, обожжет удушающе колючими еловыми иглами. На какой-то миг он ясно представил себя засыпанным снегом, леденелым и безжизненным. Лоб Игнахи покрылся испариной, и, опускаясь устало на корточки, он почему-то вспомнил слова молитвы, которой давным – давно учила его бабка.
– Фу, холера! – произнес он вслух, а дальше уже губы шептали беззвучно, и он даже повеселел, что так хорошо запомнил эту бабкину молитву, и, выпрямляясь в рост, заскользил дальше, как бы подстраиваясь под порывистый, обнадеживающий ритм: «Стану я благословясь, пойду перекрестясь – из дверей в двери, из ворот в ворота, в восточную сторону. В восточной стороне, – скрипит лыжня, – стоит престол, за этим престолом сидят матушка пречистая, пресвятая богородица и батюшка Иван – спаситель…»
Игнахе опять стало не по себе, потому что дальше шли слова, которые вызывали неподходящие в эти минуты думы, он тяжело напрягал мозг, вспоминал, как умильно – торжественно проговаривала молитву бабка: «Подойду ближе, поклонюсь – помолюсь пониже, попрошу: матушка пречистая, пресвятая богородица, батюшка Иван – спаситель, спасите и сохраните меня и в доме, и в поле, и на синем море, отметая пламя от напрасной смерти…»
Заключительные слова молитвы нравились Игнахе, они представлялись ему телесными и осязаемыми: «Во имя отца и сына!..» Но сейчас он не мог представить, как раньше: в воображении всегда стояли его отец, погибший на войне, и сам он – тот юный, деревенский.
Он еще раз остановился, чтоб поправить лямки заплечного рюкзака, потянул по-звериному воздух. Наверное, ветерок относил печные трубные запахи деревеньки в другую сторону. Но Игнаха уже представил, как удивленно – настороженно встретит его Лаврен, засуетится в кути поднятая с печки старуха и сам он устало откинется на лавке, наслаждаясь покоем и теплом. Еще недавно, ночуя у случайного собутыльника в рыбзаводском поселке, он просыпался с тоской об этом тепле и покое и, процеживая сквозь зубы кислый клюквенный рассол, чуть не стонал от тоски и бессилия. Тогда он и решил вернуться в Нефедовку. Он еще не до конца сознавал, зачем должен вернуться, но непонятная для него сила влекла и торопила к людям, с которыми свела его судьба – нескладная, потрепанная бесконечными скитаниями. Запечатав бумажной пробкой начатую поллитровку, сунул ее в рюкзак, привычно опоясал полушубок ремешком с рыбацким ножом в кожаных ножнах, он пропал из поселка.
И вот лыжи вынесли его на опушку тайги, она как бы неохотно расступилась, обнажив редкие огоньки ночных настывших окошек домов. Еще не все притушили на ночь лампы, загребли в загнетке горячие угли в печах, чтоб утром раздуть самовары и, сунув ноги в теплые валенки, заняться недолгим чаепитием перед нескончаемыми дневными хлопотами. Вон там светится окошко Никифорова дома, выходящее в огород: не спит молодежь. А через улицу – сразу два желтых квадрата: домик управляющего Батракова и Ерохиных. Вспомнил Игнаха последний будто бы шутейный разговор с Галиной на улице. Та опять очень уж аккуратно отшила его ухаживания:
– Отстань, женижок, а то Анатолию все расскажу…
Игнаха понимал: ничего она не сказала о той встрече в ночном запарнике, куда забрел он, возвращаясь с озера. Могла бы сказать, да, по всему, умолчала.
И теперь шел Игнаха почти той же дорогой, воровато обходя по-за огородами деревеньку, и ноги сами несли его к базе, где еще запоздало постукивал малосильный движок. Приставил лыжи к заметенному зародчику, из которого недавно теребили вилами, опустился на сено, потянул из бутылки. Горячая волна разлилась по крови, расслабила мышцы. Так сидел он какое-то время, как бы прислушиваясь к самому себе, но ничего не услышал, только ближние вершины кедров хмуро покачивали тяжелыми снежными шлемами. Но эти шлемы и очарование ночного покоя не мог различить Игнаха. Лишь высокие навозные терема, свежо схваченные куржаком, придвинулись к нему всей тяжестью. Кислый наземный дух и сенная пыль першили в горле. Приложившись к горлышку бутылки еще раз, он заставил себя подняться. Совсем неподалеку послышался окрик, каким понукают лошадь, и Игнаха подумал, что это вроде Лохмачовый окрик. Он подумал еще, что парни опять подвозят на ферму сено, и, не желая попадаться им на глаза – пусть в потемках, свернул к неплотно прикрытой двери коровника. Животные мирно дышали в темноте, постукивая копытами о деревянный настил. Игнаха сделал несколько неуверенных шагов в глубь помещения и тут наткнулся на подвесную вагонетку, которая железно скрежетнула в тишине и с пустым звоном прокатилась по рельсу.
– Это ты, дядя Афанасий? – дверь запарника отворилась внутрь базы, и кто-то быстро зашагал с фонарем навстречу Игнахе. Он узнал по голосу Галину и понял, что здесь больше никого нет.
– Ты, дядя Афанасий? – Галина высоко подняла фонарь и теперь шла неуверенно, словно боясь оступиться. И когда фонарь тускло высветил фигуру Игнахи и его лицо под косматой шапкой, Галина невольно вскрикнула.
– Вот мы и опять не разминулись, девушка, – выдохнул Игнаха и шагнул ей навстречу.
Господи, да что же это такое! – Галина оцепенела, держа фонарь на уровне плеча, и по лицу ее скользнула тень испуга.
– К тебе я пришел, к тебе, Галя. Будь ласковой…
– Не подходи!
Свет фонаря метнулся в сторону, и тут Галина выхватила вилы, торчащие из пустой вагонетки. Зачем она сделала это, уже не вспомнит, как не вспомнит того, что говорил ей Игнаха в те минуты, как напоролся он плечом на те трехрожки и, заматерясь от боли, схватился за нож, болтавшийся на поясе.
– Толик, миленький, Толик…
Фонарь опрокинулся и покатился к сточному желобу.
К воротам база, тяжело проваливаясь в снегу, бежали люди.
* * *
Едва задребезжало, Чемакин растолкал Витьку, вышел запрягать коня. На небе отцветали крупные звезды – прояснело, изморозь обметала деревья, остыла на гриве и мягких губах Егреньки.
Поехали на озеро. Оно оказалось в полуверсте от избушки, с редкими метелками камыша у берега. У пристани из-под сугробов торчали концы шахов – в прошлое время, а может быть, совсем недавно окрестные рыбаки развешивали на них сети.
Витька сноровисто выдолбил пешней прорубь, напоил коня. Чемакин сказал, что нужно подождать, когда получше рассветет, оглядеть будущий промысел. Про себя он прикинул, что в одном из домов можно оборудовать конюшню, приметил и баньку – пригодится.
На душе у Витьки уже было просторней и светлей. Радовала уже новизна впечатлений, будущая дорога – с неожиданными потасовками на снегу, «кучей малой», шутками, смехом. Через день – два, пока осваиваются на новом месте, с рыбзавода подошлют новеньких. Он уже начинал смиряться с тем, что отстанет от бригады Лохмач, которого будет не хватать. Но Чемакин сказал: «Я не против, пусть останется, видно, нашел свою судьбу. Лохмачу уже двадцать три года, а родных у него нет».
И Витька как-то по-иному стал думать о Сашке Лохмаче, у которого – не странно ли это? – ни отца, ни матери. Сам он, покинув отцовский дом – навстречу детской мечте о море, всегда ощущал, что где-то далеко есть у него пристанище, есть мать и он может вернуться туда в любое время. Он думал об этом и в тот вечер, когда в доме Соломатиных встречали сыновей, а Юрий, случайно завернув в дом Никифора, засиделся с парнями допоздна. И Юрий, вначале чуть грустный, разговорился, а Витька, с восторгом узнав, что Соломатин служил на море, мучил его вопросами, не давая заговорить Володе.
– Интересно рассказываете, а почему не остались на флоте? – спросил под конец Витька. И Юрий неопределенно пожал плечами: мол, что возьмешь с парнишки? Его еще мучили свои, непонятные парням, раздумья, и, словно бы решившись на откровенность, откинув со лба волосы, продолжил разговор:
– Знаете, ребята, приехал я сегодня домой, а завтра уже не будет этого дома, одно воспоминание останется… Да! А кому, как говорится, один черт – город ли, деревня, Россия или Америка… «Уж не деревня, вся земля им дом!» Вся земля! – Юрий усмехнулся: – Вот и торгует кое – кто этой землей оптом и в розницу… Ты, Витя, тоже еще вспомнишь о своей деревеньке даже в море, куда стремишься, – сказал и на мгновение задумался. – Да вот послушайте, как о нашей Нефедовке поэт написал: «Ты иная сегодня, ты в космос врубилась, но и громом ракетным встречая свой день, я хотел бы, Россия, чтоб ты не забыла, что когда-то ты вся началась с деревень».
– Звучно! – не вытерпел „Володя. – Только не о Нефедовке, тут только и грому что Лаврен Михалев на швейной машинке стучит. А между прочим, – начал он увлекаться, – вы оба с вашим поэтом ошибку допускаете. С городов русская земля начиналась, к городам и вернется. Это уж, простите меня, передергивание исторических фактов. А Киевская Русь, а Москва, а Новгород?.. Да где они ваши, милые сердцу, деревни?
Витька удивился. Всегда ровный и рассудительный Володя не сдержался до того, что повысил голос, разволновался.
– Ну – ну, Володя, не кипи! О России стихи, о России, не забывайся, – заступился, он за Юрия.
– Ну что ж! Верно. А российскую деревню породило крепостничество, так что, теперь по ней слезы лить? Лей, не лей – все равно.
Уже совсем поздно, к полуночи, зашли Анатолий и Галина. Тогда не выдержал разбуженный голосами и стуком дверей Шурка – конюх, подал голос из горницы: «Жених с невестой заявились!»
И Витька, приметив, как смущенно здоровалась девушка с Юрием, догадался, что она не ожидала такой встречи, оттого непривычно растерялась, словно и не было никогда той недавней Галины, которая могла при всех целовать Витьку и, не скрывая радости, повиснуть на тулупе Анатолия…
И теперь, вспоминая тот вечер, он еще теплил в груди странное и совсем уже непонятное ему чувство к Галине. Он еще не мог освободиться от него, как ни хотел. Ему еще порой казалось, что все обернется по-иному как-то. Как обернется? Витька и сам не знал. И, по привычке думая о ней и Толе, к которому постепенно накапливалась обида, хотя тот еще прощал ему все, что можно простить другу детства, он чувствовал, что кто-то новый входит в его сердце. И не разбойно, закружив и оглушив с налету, а тихо, обволакивая его пристальным взглядом больших и печальных глаз. Входит в него, ничего не требуя, не прося, но оттого еще беспокойней стоят перед глазами рассыпанные в полутьме волосы…
Обратный путь в Нефедовку лошадь бежала вчерашним следом. Свернули возле одинокого дома, где обогревались, слушали рассказ про ямана, оставшийся в воспоминании то улыбкой, то странной и непонятной тревогой.
Егренька бежал резво, и Чемакин, разнуздав его, опустил вожжи, правил молча. Прислушивался к скрипу саней и думал о своем Витька.
Вот уже и знакомый лес, где бегал в тот раз на Никифоровых лыжах, рассердившись на Толю. Вот скоро опушка леса упрется в огородные прясла, и у крайнего дома зальется собачонка, выкатившись из-под ворот навстречу розвальням…
– Слышь, вроде Никифор, – сказал Чемакин, – погляди, у тебя острее глаз.
– Он, Иван Пантелеевич. Дров, что ли, нет? Напилили – до весны хватит.
– Никифор рядом с дорогой тесал срубленную свежую ель. Услышав скрип полозьев, он обернулся, пристально посмотрел па Чемакина, придержавшего коня, воткнул топор в лесину, тяжело опустился. По тому, как он сидел, сгорбившись, безучастный к их возвращению, Чемакин понял: что-то неладное!
– Никифор Степанович, слышишь, это мы приехали, – Чемакин тронул старика за плечо. Тот поднял голову, взглянул так же отрешенно, поднялся с топором, зашагал в лес, глубоко проваливаясь в снегу.
– Дедушка, дедушка, – Витька догонял его, путаясь в подоле гуся. – Дедушка, ну что ты молчишь?
– Погоди, сынок…
Никифор повернул голову, дошел до дороги, остановился.
– Нет силенок сказать вам, ребята. Галину ведь… поубили.
Зеленым облаком качнулась ближняя ель, застелила ставшие вдруг тяжелыми Витькины глаза, словно хлестануло по лицу колючими иглами, и эта боль сжала не защищенное ничем маленькое сердце.
Не – ет! Неправда, дедушка!.. Ты врешь…
Витька опустился на розвальни и, уткнувшись лицом в сено, рыдал, вздрагивая всем телом.
Никифор молча взял вожжи, тронул коня к деревне. Следом за розвальнями шел бригадир.
15
Башлык дядя Коля занемог, остался в доме Соломатиных один. Все ушли прощаться с Галиной. Ее к вечеру третьего дня привезли из Еланки. Галина лежала в сосновом струганом гробу, который портной Лаврен обил красным коленкором.
Башлыку дяде Коле нездоровилось, покалывало поясницу, ломало суставы, и в груди он чувствовал тошноту. Он прилег на широкую лавку, думая, как бы совсем не заболеть, когда вошла сама хозяйка в черной пуховой шали. Она собиралась подоить корову да задать ей на ночь корму. Весь день Нюра находилась при Матрене – отваживала. Женщина сама наплакалась, извелась сердцем, а сейчас ее глаза были воспалены и сухи.
– Привезли, Нюра? – вполголоса спросил башлык, следя, как она устало снимала тужурку, прошла в куть за подойником. Женщина всхлипнула, утерлась передником, опустилась на лавку.
– Обмывали ее, голубушку, а все не верю, все смотрю – да за что тебя ирод проклятый жизни лишил… Обмываю, а слезы так и катятся… сердце зашлось. Ох… Жить бы тебе, касаточка, детей нарожать… Тело-то все белое, как репонька, налитое, только на стегне одном синяк – почернел весь… отбивалась, не осилила девонька… Один был цветочек на поляночке, и тот повытоптали. Как уж мы дивовались на нее. Мотя ей ничё не жалела – и отрезы и сарафаны ей. Платье не платье, сапожки на каблучках – все дочке. Как жить дале, Николай Антонович? Как жить? Лучше нас кого смерть прибрала бы. Нажились, намаялись, всего навидывались.








