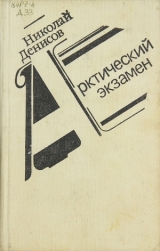
Текст книги "Арктический экзамен"
Автор книги: Николай Денисов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Докажи, что ты парень – герой!
Медсестра, дорогая Анюта,
Подползла, прошептала: «Живой!»
На этом куплете Афанасий всегда ронял слезу. Нюра произносила: «Ну вот опять…» И трогала мужа за плечо: «Афоня!..»
– Ну вот опять! – вздохнула Нюра. И у Юрия сдавило в груди, он потянулся за куревом, но, не справясь с чувствами, накинув пальто, выбежал на улицу.
А в избу уже набивалось народу. Пришел, стуча тросточкой, Лаврен Михалев на пару с Ишахой Яреминым. Не усидел дома Никифор. За ним увязался Лохмач. В бутылках кончалось, и Нюра сходила за самогоном к Матрене.
– Правильно, мать, – одобрил Афанасий и затянул:
Последний нынешний денечек
Гуляет…
– Хватит уж, – одернула Нюра.
Афанасия скоро увели в горницу, разули, положили поверх одеяла на кровать. Он требовал, чтоб сходили за командиром батальона Батраковым, но тут же заснул.
– Много ли надо? – как бы оправдываясь, сказала Нюра, выставляя дополнительную посуду.
Застолье наладилось снова. От самогонки отказался только башлык Николай Антонович, тяжело полез на полати, забросив туда снятый с вешалки полушубок.
Валентин как-то быстро сошелся с Игнахой Яреминым, подкладывал ему городскую колбасу.
– …А кто сейчас промашку дает? Не – е, я тоже не промах. Попробуй, поживи на одну зарплату. Вот считай, у меня самого больше двух сотен выходит в месяц, и Людка, худо – бедно, сто тридцать получает, когда и больше нагорает с премиальными. Но все равно на ходу подметки приходится рвать… Но у меня, смотри, квартира хорошая – раз, пятьдесят с лишним метров. Вот родителей перевезу… Дачу я еще раньше взял – два. Чернозему, правда, пришлось поворочать. Песок там голимый. Но у меня машины в руках, на какую хочу, на ту и сяду, подброшу что надо. И другой, смотришь, на казенной машине шпарит. Такая она, жись, нынче… Третий тоже вылупляется, по червонцу, а то и больше за ходку дает, лишь бы помидоришки свои воткнуть. Надо!.. Запчасти взять. Куда ни кинь, везде клин. А у меня запчасти – сам распоряжаюсь. Отовсюду клянчат механики – дай!
– Дельный мужик ты. Я таких уважаю, – икнул Игнаха и потянулся за стаканами. – Вздрогнем.
– Пей один. Мне уж под завязку.
Игнаха хрустнул соленым огурцом, выдохнул:
– Злая, стерва… Ты вроде с братаном приехал?
– С братом. Да-ах! – Валентин махнул рукой. – Вот перевезу родителей, там «Москвича» думаю брать, на очередь стал… Не знаешь, кому дом можно загнать?
– Сложное дело. Надо помикитить мозгами.
– Помикить!
– Мысля у меня есть, – Игнаха глянул на собеседника. – Места тут добрые.
– Места, они везде…
– Да не везде… – вздохнул Игнаха. – Недорого запросишь, есть на примете клиент.
– Из здешних? Кто?
– Ну, допустим, я, – рубанул Игнаха.
А в кути, за цветастой занавеской, пожилые, отделясь от общего стола, говорили с Нюрой. Здесь сидели Никифор, Лаврен Михалев, примкнул и Иван Пантелеевич Чемакин. Беседовали спокойно и там и тут, лишь прорывался голос Лохмача, да звякнула упавшая на пол алюминиевая чашка.
– И не суди, Никифор. Такую даль гнал Валентин машину! А у ево, поди, тоже начальство строгое, отпустило на пару ден.
– Дак чё машина? Развернем оглобли, да и с богом! – сказал Никифор.
– Не по-людски, – вмешался Лаврен. – Добром надо с сыновьями ладить.
– Дорога, правда, убродная, – заметил Чемакин. – Но только до большака, а там на боку катись. Ничего.
– Теперь некуды деваться, поедем. А тут, сколь ни кукуй, одне есть одне! – убеждала себя Нюра. – Как мы тут одне-то? Все же с сыновьями, внуками веселей будет.
– У Юрия никаво пока нет? – спросил Никифор.
– Никово. Не обзавелись ишо дитем. Не несет Ольга.
– Принесет. Это дело нехитрое, – улыбнулся Чемакин.
– Дак я тоже подумываю: два года как сошлись, а никаво. Опросталась, поди, в больнице, – вздохнула Нюра. – Увечат себя смолоду.
Хлопнула дверь. Это вышли Валентин с Игнахой.
– Я ненадолго, – бросил с порога Валентин. – По делу сходим с Игнатием.
– Господи, – 'Присела опять Нюра. – Чё он с энтим спознался?
За столом остались Лохмач с мотористом, разговор у них не шел, но им было и так хорошо.
– Одни, говоришь, – сурово произнес Никифор. – А мы разве не люди? А? Ну раз решили, скатайтесь. Дом не торопитесь сбыть. Рыскните!
– Правильно, – поддержал Чемакин. – Мы заплатим за постой вперед.
– Вот и Юрий так присудил.
Теперь опять заговорил Лаврен. Он все ладился дать свой совет, да его стесняло присутствие Чемакина. Но рюмка самогона ударила в голову, и мысли Лаврена потекли привычно и плавно.
– Ежели тоскливо совсем придется, не майся шибко-то, а сходи во храм, службу послушай. Там много разных старушек сходится. Они ведь ничё старушки, хоть и городские… Отдохнешь душой. Я, бывало, как навертывался в город, все во храм заходил, хоть и не верующий, а та-ак отпустит на душе…
– В церкву-то?
– Шибко красивый храм. Переулок, правда, некорыстный, а храм возносится прямо до неба.
– Дак не найду я церкву-то, заблужусь во многолюдстве.
– Храм и нечего искать. Сядешь от вокзала на автобус и кати прямо до лесочка, парком называется. Там и слазь.
– На фтобусе я ездила. Жулькают со всех сторон, спаси господи.
– Доедешь до лесочка, увидишь, там Ленин стоит, Владимир Ильич. Высоко так поставлен. Вот и ступай, но не в ту сторону, куда он рукой показывает, а как раз в обратную.
Чемакин помотал головой: силен, мол, дед!
– Каво воротишь, каво? – перебил Лаврена Никифор. – Ты когда в городу-то последний раз бывал?
– Да уж давно. Лет пять как не наезжал.
– Лет пять! Поди уж на другое место изваянье перенесли! Сейчас, говорят, строить все начали. Могут передвинуть.
– Говоришь тоже! Каво другова, а Владимира Ильича не дозволят сшевелить, – заключил Лаврен.
Никифора убедил этот довод.
Собеседники задумались, притихли. В окошко вплывала луна – вероятно, было уже поздно. С полатей посвистывал носом башлык. Моторист с Лохмачом, повесив головы, клевали за столом.
– Юрка-то убрался? – встрепенулась Нюра.
– Не волнуйся, – сказал Чемакин. – К кому-нибудь зашел, посиживает.
– Вот так всегда: ждешь – ждешь, а как приедут, сразу и свиваются из дому.
– Теперь кажин день будешь видеться, – поднимаясь с табуретки, усмехнулся Никифор. – Пора, знать, домой. Спасибо за угощенье, Нюра… Александр, а Александр, – затряс он Лохмача. – Оболокайся, людям отдыхать надо.
– Давай, давай, Саша, завтра на Кабанье будем пробиваться, – поддержал и Чемакин. – Смотри, чтоб ребята не проспали.
На пороге Нюра остановила Никифора:
– Обожди немного, я сальца тебе отрежу в сенях.
Вскоре с морозным скрипом хлопнула калитка. Забрехал вдогонку Шарик. Нюра посмотрела в окошко. От дома отделились три фигуры.
Одна высокая, поджарая – Никифора. Рядом ступал Лохмач. А чуть позади тукал тросточкой Лаврен Михалев. Всем было идти в одну сторону.
9
Сборы были суматошными. С раннего утра в доме началось столпотворение. Нюра металась среди мужчин, а они бестолково совались из угла в угол, дожидаясь завтрака. Первыми накормила рыбаков, те тут же ушли на Никифорово подворье собираться на Кабанье. Сами Соломатины ели тоже торопливо, впопыхах, будто не в своем доме, а где-нибудь в районной столовой перед закрытием, когда персонал выпроваживает последних посетителей, а уборщица уже бесцеремонно возит по ногам мокрой шваброй, успевая складывать в ведро винную посуду.
Но Нюра каким-то чудом в общей беготне сумела замесить жидкое тесто и теперь кидала на стол румяные блины.
– Вот хоть блинами накормлю вас последен раз! – Вся она выглядела в это утро решительной и собранной, и Юрий, тыча блином в сметану, с удивлением посматривал на мать, теряясь от этой решительности, не находя ей объяснения.
Афанасий, наоборот, был немного растерян, медлителен, посматривал на остатки самогона в посудине. И Валентин, перехватив этот взгляд, пододвинул зелье отцу.
– Да, я, пожалуй, дерябну, – кивнул Афанасий. – А то что-то не того…
Встали из-за стола молча. Посовались опять из угла в угол, не зная вроде, с чего начать. Юрий попыхивал папироской, – отец с братом не курили – рассматривал, будто в первый раз, застекленные в рамки фотографии, помалкивал.
Наконец Валентин потянулся за шапкой, решительно просунулся в рукава меховой шоферской куртки.
– Так собираться будем! – и надолго ушел разогревать паяльной лампой машину.
Афанасий еще наладил похлебку Шарику: смел со стола корки, крошки, рыбьи головы, отполоснул кружок колбасы, залил все это вчерашним супом, вытряс из тарелки остатки сметаны.
– Шарику – Мухтарику, – хохотнул он. – Ну, давайте, мать… не на похороны же едем. Складывайтесь.
– Да я уж сама, – ответила Нюра. – С курицами управься.
– Управлюсь, управлюсь… Топор наточил. Юрка, может, ты? Пойди, топор в сенях.
Юрий отрицательно замотал головой.
– Ну вот… А еще на море служил, Афанасий исчез за дверью.
Куры зимовали в тепле, за перегородкой, разделяющей коровью стайку пополам. Летом за перегородкой сидел боров, но его заколол! осенью с первыми морозами, и Афанасий пересадил кур из прохладного закутка поближе: к коровьему теплу. И вот теперь, откинув задвижку низеньких воротец, от скрипа которых поднялась с подстилки Зорька, с любопытством уставясь на хозяина, он просунулся в курятник, чтоб одним духом покончить с курами. Жалости он не ощущал, как не чувствует профессиональный охотник, когда берет на мушку поднятую на крыло дичь.
Курицы шарахнулись по сторонам тесной загородки, осыпая Афанасия перьями. В нос щекотнуло острым известковым запахом помета. Он подождал, пока птица успокоится, придет в себя, но куры продолжали биться: стены, норовя выхлестнуть небольшое окошке с наростами коричневатого льда.
«Петуха, пожалуй, оставлю», – подумал Никифор, словчившись, прижал в углу тяжелую сытую хохлатку, которая потерянно заголосила, словно призывая в свидетели всех своих товарок. Выходя из загородки, Афанасий оглянулся, удовлетворенно отметив, что > красавец огненно – оранжевый петух взлетел на верхнюю жердочку насеста, склонив набок олову, победно перебирает длинными ногами.
– Вот работенка! – чертыхнулся Афанасий и, держа курицу за ноги, шагнул к толстому чурбаку, где индевел на холоде плотницкий топор.
Когда появился в ограде Сашка Лохмач – а зашел он попросить сыромятный решеток вместо лопнувшей супони, – Афанасий кончал последнюю курицу. Ровным рядом – так раскладывают промысловики принесенную с охоты дичь – куричьи тушки обезглавленно кровенели на снегу у поленницы.
Пьяный не столько от самогона, сколько от крови, от свершенного разбоя, Афанасий доделывал работу с каким-то остервенением. Занеся для последнего взмаха топор, он оглянулся на бряк калитки и выронил курицу.
– Держи! – крикнул Лохмачу. Хохлатка, почувствовав волю, заметалась криком по ограде, словно по горячей плите, помогая себе крыльями, устремив вперед голый гребешок.
Лохмач распахнул полушубок, загородив открытую калитку, потому что курицу гнали на него, но она ловко прошмыгнула меж ног под машину, где лежал с паяльной лампой Валентин.
Позднее, когда Афанасий расскажет об этом Нюре, она заметит, что не к добру. А теперь Лохмач гнал уцелевшую наседку вдоль деревни. Минут через пятнадцать нес под шубой обратно.
– Витька с Володей дорогу загородили, а то б – хана! Олимпиец, а не курица!
– Руби, – подал топор Афанасий. – И забирай, сварите.
Лохмач замялся.
– Не приходилось, что ль?
– Курицам – нет… Гуся, помню, возле детдома в карьере прижучили… Слышь, там не осталось? Лихотит после вчерашнего. Во рту будто свиньи ночевали!
– Зайди, Нюра поднесет. Осталось вроде.
Из дома Лохмач вышел повеселевший. Отыскали тут же сыромятный ремешок, отмерили – хватит на супонь.
За воротами зафурчал тягач. Валентин залил уже теплой водой радиатор, прогревал двигатель.
– Правильно, – сказал Лохмач. – В городе поживете, свет посмотрите.
Афанасий глянул на него пристально, но ничего не сказал.
В доме хлопотала мать с младшим сыном. Многое было уже увязано, сложено в квадратный сундук, оголились кровати – перины и подушки завернули рулонами, стянув бельевым шнуром. Упаковали в мешки посуду, обкладывая тряпками, чтоб не раскололась в дороге. Поснимали со стен рамки с фотокарточками, оставив на известке невыгоревшие прямоугольники. Верхнюю одежду свалили в общую кучу, чтоб одним беремем отнести в кузов машины. Набралось много всякого добра, без которого немыслимой казалась жизнь и там, в городской квартире.
Не сложили и половины того, что обнаружилось еще в сенях, в кладовке, в подполе, но Валентин, забежав проверить, как идут сборы, сказал, чтоб брали самое необходимое, да кровать с панцирной сеткой, да не забыли отвязать тушу борова, что висела на вожжах в кладовке. Остальное, мол, – солонину, варенья, картошку – заберет по теплу.
– Мамай, чисто Мамай прошел! – начала опять вздыхать Нюра, оглядывая голые стены, на которых уже одиноко висели цветастые, еще не бывавшие в стирке, новые занавески.
– Занавески-то снимать? – спросил Юрий, когда Валентин вышел.
– Обожди, а то совсем голо станет, – остановила мать.
Они уже обо всем поговорили, хватило времени, и теперь Юрий покорно исполнял работу, понимая, что любые уговоры неуместны, да и мать вроде обиделась, когда он едва заикнулся, что не надо покидать Нефедовку. Он подумал, что мать действительно может крепко обидеться: все же не он, а Валентин проявляет заботу, не он приглашает в городское жилье, в комнату окнами на солнышко.
Когда Валентин спятил машину во двор, чтоб поближе таскать, пришли постояльцы. Они принарядились в дорогу в длиннополых серых гусях, напоминая кукольных матрешек, невесть как попавших в это урманное захолустье.
– Собрались, гляжу, – сказал Чемакин хозяину. – А я привел своих, думаю, помочь надо.
– Нищему собраться – только подпоясаться, – хмуро парировал Афанасий.
Зашли всем гуртом в дом, посидеть на прощанье.
– Вы уж не обессудьте, – проговорила Нюра. – Может, чё не так делала.
– Что ты, что ты, – запротестовал Чемакин. – Мы не знаем, как и отблагодарить вас. Как родню приняли, жалко расставаться.
Нюра, как ни крепилась, промокнула платком глаза.
– Чё говорить, мы не двоедане какие-нибудь. Завсяко просто приняли.
– Дровами, картошкой пользуйтесь, – добавил Афанасий. – А уж будете в городе, милости просим, адрес я оставил за божницей в горнице.
– Ключ, Иван Пантелеич, кладите на старом месте, как договорились. А после Матрене передадите, она теперь тут за хозяйку, – сказала Нюра.
А в кабине машины сидели в это время Валентин и Игнаха Яремин. Игнаха принес в своем потасканном рюкзаке пять ондатровых шапок, что «сошил» Лаврен, на разные размеры, как игрушки, ладно, красиво. Видна рука опытного портного.
– Дом, значит, мать не продает?
– Ни в какую.
– А коровенку?
– Тебе зачем? Отведет пока к Матрене Ерохиной. Та продаст кому или в совхоз сдаст, как отелится.
Тут Игнаха приметил на улице Галину – шла с фермы, – уставился через лобовое стекло.
– Что, глянется? – спросил Валентин по-деревенски. – А это кто к ней выскочил от Никифора?
– Падла. Ребра переломаю когда-нибудь, – глухо выругался Игнаха.
Но Валентин не понял, в чей адрес.
– Давай деньгу, а то щас высыпят на улицу, от Лохмача не отвяжешься.
Валентин отсчитал пачку десяток. Игнаха проследил.
– Маловато. На толкучке по куску дают.
– Вали тогда на толкучку. Себе, что ль, беру? А хлопоты, а реализация? То, се…
– Ладно, я побег.
– На рыбалку разве не едешь?
– Захворал я. Может, бюллетень выпишешь, а то Чемакин не верит! – Игнаха довольно хихикнул, спрыгнул с подножки, скоро зашагал по улице.
Рыбаков провожал Никифор, давал советы, как лучше пробраться на Кабанье, обещал, если задержатся больше двух дней, прибежать на лыжах прямиком. А на санях лучше пробиваться в объезд, хотя и там намело лошадям по брюхо.
Чемакин правил первыми санями, Егренькиными. Конь трусил по накатанному следу, увлекая за собой весь обоз. Чемакин еще раз оглянулся, ему показалось, что Нюра помахала с крыльца, а может, и не рыбакам помахала, во дворе продолжалось столпотворение.
За огородными пряслами обоз быстро углубился в тайгу, и на задних санях, где сидела молодежь, как всегда, галдели, сталкивая друг друга в снег, а то вдруг затягивали песню.
«Охрипнут, черти, – думал Чемакин. – На холоде только и место петь!»
Еще подумал, что надо бы собрать бригаду да потолковать, новостей он привез с рыбзавода много. «Ладно, как-нибудь потолкуем!» А вслух сказал сидевшему рядом Акраму:
– Позови сюда Виктора и Сашку Бронникова.
– Какова Бронникова? – не понял Акрам.
– Ну Лохмача, язви вас, фамилию у парня затуркали.
…А Соломатины грузили вещи. Насобирался полный кузов, и Афанасий который уж раз подходил в раздумье к рыбацким принадлежностям – к шестам и веслам, трогая их, отполированные до костяного блеска за многие годы на озере.
– Бери, бери, – заметив его нерешительность, с ехидцей произнес Батраков. – Смотришь, когда на проспекте ряжевку раскинешь. Там такие попадаются – в лодку не завалишь!
Алексей Тимофеевич прихромал с базы вместе с Кондруховым. Да еще насобиралось народишку, падкого до редкого зрелища: старушки, бабы помоложе – доярки с базы, не обошлось, как всегда, без Лаврена Михалева. Вертелись два – три пацана – школьники, гостившие в воскресенье дома. Никифор впрягся в работу молча, без приглашений, по-соседски.
Валентин, принимавший в кузове узлы, спрыгнул вдруг на землю, сгреб в беремя тычки с веслами, кинул в кузов.
– Ладно оскаляться, – зыркнул он на Батракова. – Возьмем, а ты что думал? Там тоже есть водоем, рядом с дачей.
– Ну, ну, – с неприязнью произнес Батраков.
– А! Хватит им навозные кучи нюхать. Вон развели, базы не видать!
– Да ты, друг, не много нюхал… А отец твой, можно сказать, жизнь здесь положил… Понятия ты растратил, Валентин Афанасьевич. Что с тобой говорить… Эх – ха!
Афанасий не слышал разговора, ушел в дом за узлами, туда же проворно прошмыгнула одна из бабенок, что побойчей, метился и Кондрухов, которого не покидала дума выторговать у Нюры стиральную машину.
Бабенке той сразу же перепал подарок – две глиняные обливные кринки, которые Нюра забыла упаковать и теперь, не жалея, отдала.
– Баски занавески, – подслащивала бабенка. – Как раз по моей горнице. Ай, баски!
И Нюра, уронив сердце, согласилась отдать и занавески, что продолжали еще держать в доме вчерашний уют, храня маленькую надежду на что-то. На что?
– Снимай. Христос с тобой. – И потом Нюра не раз будет вспоминать и рассказывать о том, как «захолодело в нутре», когда чужие цепкие пальцы проворно раздели рамы, и в доме стало так голо, что не узнала она и белого света.
Когда они вдвоем с Юрием выносили стиральную машину, Кондрухов едва не рухнул на колени:
– Что хошь дам, Нюра, продай!
– Да ты чё, бессовестник? – тут Нюра даже рассмеялась, вспомнив, как Кондрухов крутил в машине брагу. Праздная публика, узнав, в чем дело, тоже посмеялась, и только Валентин решительно отрубил:
– Продай, мать, а что? У нас есть новой марки: крутит, сушит, только не гладит.
И, отсчитав приготовленные деньги, понес Кондрухов желанную покупку, понес, прижав к груди, как носят малого ребенка, прислушиваясь к его сладкому, сонному дыханию.
Как выводили из пригона Зорьку, Нюра не видела, сама отыскала еще заделье в опустевшем дому, поднялась на крылечко, отрешенно глянув на стянутый веревками кузов.
Зорьку повел сам Афанасий, набросив на рога короткий чересседельник. Корова диковато косила карий глаз на забрызганный кровью снег у поленницы и боязливо скрежетала копытами по скользкой леденелой дорожке.
– Пошла, пошла, ведерница, – понукал Афанасий, и уж не понять было – жалеет он о том, что происходит на его подворье, или он со всем согласился и нет в его душе жалости ни к дому, ни к хозяйству, которое порушилось за несколько часов.
Потом пришли Ерохины – Матрена с дочерью, принесли деньги за корову, и Нюра долго отказывалась, мол, тогда и перешлете, когда найдется покупатель, а пока кормите Зорьку, сена хватит. Но Матрена чуть не насильно всучила деньги – в городе пригодятся, а коль не растратите, то отнесите на книжку.
Валентин выгнал машину на улицу, нетерпеливо подгазовывал, нажимал на сигнал, торопя родителей в кабину, походя цыкал на пацанов, что крутились возле и намечали, наверное, отвинтить какую-нибудь гайку.
Юрию на пару с Шариком, которого он брал с собой, пришлось лезть в кузов. Им бросили старенький тулуп, и Никифор участливо заметил:
– Заморозят парня!
– Ничего, я могу на большаке и на автобус пересесть, – откликнулся Юрий сверху.
– Добер парень! – крякнул из публики Лаврен. – Мы, бывало, в Пинских болотах зимой шашнадцатого году…
Но тут Валентин опять надавил сигнал, голос Лаврена потонул в дребезжащем металлическом звуке, и все увидели, как Нюра торопливо идет к машине. Афанасий шел следом. Он еще замешкался, хозяйственно обошел постройки, заглянул и в опустевший пригон, откуда пахнуло невыветрившимся теплом, и неожиданно обрадовался живому петуху, которого он пощадил от топора и забыл в суматохе.
Красавец петух все так же посиживал на верхней жердочке и, как показалось Афанасию, с любопытством глянул на хозяина, блеснув крепким перламутровым клювом. Петух почти без труда дался в руки, и Афанасий, прижав к полушубку, нес его, приговаривая:
– Петенька, петушок, маслена головка!
– Охо-хо! – заликовала обрадованная публика. И Афанасий, так же бережно держа красавца, поднес засмущавшейся Галине:
– Возьми!
– Да зачем Галине-то? Бласлови мне, будет хоть кому топтать, – нахально выкрикнула бабенка с кринками в руках.
В публике сдержанно засмеялись, но Галина уверенно приняла подарок, ожгла взглядом бабенку, и все опять хмуро примолкли, каждый наедине со своими думами, укутанными толстыми заиндевелыми шалями да потертыми меховыми ушанками.
Наконец машина тронулась, вдавливая в дорогу симметрично ровную елочку колес, и, набирая ход, тяжело фырча, оставила позади молчаливых свидетелей, разношерстную толпу, из которой никто не махал, только Никифор, ни к кому не обращаясь, сухо обронил:
– С богом, стало быть! – И помолчав, добавил: – Как петлю на себя накинули…
А с косогора, что начинался недалеко от околицы, еще раз глухо донесся рев мотора – видно, пробуксовали в снегу колеса.
А день стоял чудесный, светлый февральский денек. И деревья, обсыпанные морозной изморозью, не уронили ни одной серебринки.
10
Бежит по сугробу лиса. Бежит и бежит себе, пушистым хвостом след заметает. Остановится, нюхает воздух, чует угрюмую птицу ворона, да куда ей ворон – тот на осине сидит, клюв в перья втянул, не о чем ему думать. Сидит – посиживает, голод терпит. И опять бежит лиса, влажной мордочкой в сугроб тычется, может, где мышка завелась, куропач задремал в своей лунке, колонок строчит узким тельцем сугроб – тоже на охоту вышел. Трудно лисоньке зимой, особенно теперь, в феврале: намело, до мышиных норок не скоро докопаться. И трусит кума – лиса в камышок озерный – вдруг зайку выпугнет, тот не прочь полежать в глухом заветрии. Но никого нет. Ни один запашок не щекотит острое лисье чутье, ни один, кроме прелого донного духа, что веет с другой стороны озерка.
Прилегла лиса на высоком сугробе, втягивает этот незнакомый дух – голод не тетка, живот к ребрам подобрало. И сладко пахнет, да боязно – там люди разговаривают.
– Гляньте-ка, – всполошился тут один человек. – Лиса, братцы! Лупануть бы из «тозовки»…
– Ага, Александра, кума в гости наведалась! Голодно ей теперь, рыбку учуяла.
– До рыбки нам сегодня, как до луны, дядя Коля.
– Ничё, вызволим невод. Не в таких переплетах бывали.
Разговаривают двое – башлык и Сашка Лохмач. И вроде никто не внял мимолетному разговору, но, услышав возглас Лохмача, головы повернули, да разве удивишь таежников зверем! Пакостное настроение у бригады: невод застрял подо льдом. Да еще вторая беда: лед сдавило снегом – наледь выступила. Вот и месят рыбаки снежную кашу напополам с водой, бродни аж до портянок промокли. Переобуться бы в сухое, да никто будто не замечает сырости. Одна забота – невод до потемок выручить.
И бежит по сугробу лиса. Что ей не бежать? Лиса – себе хозяйка. Где-нибудь да скараулит косача или зайку. Косые по тропам скачут. Так уж заведено: плодятся косые, значит, лисы откочевали в малоснежные места, поюжнее. Там легче им прокорм добывать. Одна вон кума только и приблудилась.
А бригада косится на Чемакина, он втянул: давайте, мол, закинем одну тоню на озерке, чем оно дышит? А чем дышит – и так было понятно: загарное, торфяное озеро – блюдце, по берегам сухостой вымокший, поломанный как попало. Одно слово – не озерко, а западня неводу!
Ехали мимо, топали бы дальше, выбрали подходящий водоем, так нет. Чемакин остановил обоз, сбегай, говорит, Виктор, продолби лунку, узнай глубину. А глубина оказалась порядочной, шест еще на метр в няшу ушел.
Вначале подумали: рыбы загребли столько, что не может справиться моторчик, давай руками помогать, да нет, не в том, видно, дело!
– Однако корягу поймали, – заключил башлык после безуспешных попыток вытянуть снасть.
– Да-а, – только и смог ответить бригадир. И еще подумал зачем-то: не случайно в его бригаду не рвались опытные промысловики. И хотя никого из своих подчиненных не мог он упрекнуть – что говорить, старательный народ подобрался – а где-то в подсознании копошилась думка, что, будь здесь старые рыбаки, наверное, не дали бы промашку. Он пристально посматривал на молодежь – парни все так же бойко хлопотали на льду, обмерзли с ног до головы, обмазались няшей, ноги, наверно, себя не чуют от холода, а деловиты, озабочены, проекты разные предлагают, чтоб снасть добыть из – подо льда. Вон Витька, он сегодня за норилыцика Яремина второй день стоит, к саням побежал, переобувается. Бродни стянул, портянки выжал, сухим сеном голые ступни укутал да опять сверху портянками обмотал, просунул в просторную обувь. Валенки с глубокими калошами у самого Чемакин а и у башлыка. Но и в валенках сыровато. Ладно хоть не морозно днем. Что будет к вечеру?
– А рыбка здесь есть, – заметил башлык, когда Чемакин подошел к майне. – Карась, поди, ожирел совсем. Почистить озерко и – промышляй!
– Ну так ведь, сам знаешь, у нас привыкли брать, что полегче. Черпают до тех пор, пока мелочь всю не выберут. Я вот на днях заместителю директора доказывал: надо, мол, и глухими озерками не брезговать, только с умом ловить. А он мне: карась – сорная, малоценная рыба, пелядь с ряпушкой будем разводить повсеместно, рыборазводный цех расширять.
– Карась-то малоценный? – покачал головой башлык. – Вон он, красавец!
В майне, в мутной коричневой воде всплыла крупная с прозеленью на чешуе рыбина. И Сашка Лохмач схватил сачок с дурным криком:
– Не спугните-е!
– Господи, орало! – отпрянул от него Чемакин. – Когда ты перестанешь диканиться?
– Дак рыба пошла…
Карася Лохмач поймал. Единственного крупного за эту тоню. Потом, когда бригада вызволит невод, наберут еще десяток мелочи, из которой и уху варить на такую артель станет совестно.
А пока стоит бригада посредине озерка, а вокруг по бережкам, как привидения, дежурят мертвые деревца – березки да сосенки. Эх, елки – палки, каторжная работа – никто не подскажет, что делать, что предпринять, как поднять со дна снасть, в которой и смысл весь, и соблазн повседневных ожиданий рыбацкой удачи. И тут Чемакин решил положиться на башлыка: пусть отдает распоряжения – у него побольше опыта, ему – и карты в руки. А сам собрался запрягать Егреньку – надо отыскать охотничью избушку, которую описывал Никифор. Она километрах в четырех где-то близко. Затопить печку – каминчик – ведь как еще обойдется с неводом, а бригаде надо и обогреться, и ночлег подай. Куда теперь в Нефедовку! Он еще подумал о том, что не гоже оставлять бригаду в таком положении, не лучше ли послать Шурку – конюха или Акрама искать избушку, но передумал: вдруг заблудятся!
Рыбаки долбили новые лунки посреди тони – башлык решил определить местонахождение мотни, ведь не иначе как она зацепила донную корягу. Пешнями работали все, нельзя торчать без дела: пока в движении – греешься.
Невольно чувствуя вину, Чемакин подошел этаким бодрячком к рыбакам:
– Ну как, орлы, пить не хочется?
Не ответили орлы на шутку, только Акрам, отставив пешню, негромко произнес:
– Сяю вон Шурка – конюх захотел.
Недружна засмеялись, в основном молодежь. «Сяй» был понятен им – постояльцам Никифора. И Чемакин облегченно выдохнул: не так уж плохи дела, коль еще молчаливый и худенький Акрам способен на улыбку. «Сяй» и остальным подсказал мысль, что надо искать избушку, натопить пожарче, до ночи недалеко.
– Ты и давай, Иван Пантелеич! Мы сами управимся, – решил за всех Лохмач.
Вот такие дела приключились.
Проворно тащит легкие розвальни многожильный Егренька, сугроб нередком полозьев буровит, где брюхо провалится, где на широкий шаг перейдет. Понимает словно бы конь: надо торопиться! А невысоко над вершинами тайги самолет двукрылый прогремел. Прогремел и быстро исчез. «Низко летают! – проводил его Чемакин. – Наверное, пожарная охрана дежурит, а скорей всего, на промыслы за рыбой пошел! За рыбой! За рыбой!» – мельтешит в голове бригадира. Не так давно на крупных промыслах авиация помогает, хорошо, конечно. Там за один закид невода до двух тонн загребают. Частой ячеей, под пелядь приспособленной, заскребают все вплоть до пескаря, о карасе и говорить нечего. Пелядь с мелкой икринкой за лето еще не вырастет до промысловых размеров, но и ее гребут. А ленивцу карасю, тому надо бы вовсе пожировать пару лет в донном иле, нагуляться. Но не дают ему спокою.
Чемакин опять припомнил, как схлестывался он спорить с молодым рыбоводом на заводе. Тот после института недавно, крыл Чемакина «объективными доводами»: будущее, мол, за культурным рыбоводством, за икринками, которые он холит в инкубаторе. Чемакин согласился: да, слышал, читал, перспектива заманчивая! Но только не обижайте и карася, сказал. Карась – он князь. В любой воде выживет, а его под корень губить начали на культурных плантациях.
Молодой рыбовод, тоже дока порядочный оказался, сшибал Чемакина расчетами, выкладками. Горяч парень, за дело свое стоял крепко, оттого и понравился Ивану Пантелеичу, внес сумятицу в его мысли.
«Вот мы в прошлом году удивили всех показателями но высадке икры в озера, циферками с бесконечными нулями лупанули в отчетности. А где нынче эти миллионы? Нули остались!» – сказал он в ответ рыбоводу. Тот поперхнулся, вспыхнул, а Пантелеич опять в наступление перешел: «Рассказывали мне, как тут у тебя Юрий Соломатин интервью снимал, как мы регулируем вылов рыбы на озерах? А как? Черпаем, пока ловится!»
«Так ведь и план выполнять надо», – остудил пыл молодой рыбовод.








