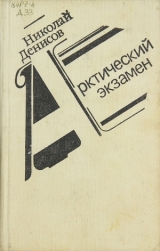
Текст книги "Арктический экзамен"
Автор книги: Николай Денисов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
– Шевелись, в тридцать три селезенки мать, – заорал Яремин не то на моториста, не то на Акрама. Но те уже поймали канат, и моторчик вновь запыхтел, заприцокивал клапанами.
– У нас вот тоже, помню, случай произошел, – спокойно проговорил дядя Коля, вылавливая сачком морогу. – Тянули на глуби. Понятное дело, вертушкой… Тут и подскользнись один, а следом второй. Упали. Дак меня так мотануло в обратную сторону, угодил, что вы думаете – в майну… Еле вызволили…
– Это что, вот… – но тут Лохмач осекся, взликовал: – Пошла, пошла…
Витька, а следом и Толя с Володей бросили трясти невод, прибежали к майне. Рыбаки постарше и ухом не повели, укладывали снасть двумя пирамидками.
– Ну, чего секешь ногами, чего? – Чемакин расстегнул полушубок, проворней заработал сачком. Всплыло несколько некрупных карасей. Мотня была близко.
Моторист сбавил обороты, осторожно подводил мотню к майне.
– Стоп, парень. Ладно, – подал знак дядя Коля, – руками надо…
Сбежались теперь все. Выбирали мережу на края, Чемакин успевал откидывать всплывших карасей. Тяжело идет мотня. Долго длятся последние минуты. И вдруг забилась, затрепыхалась в руках мережа, и в кипящей от всплесков студеной воде заблестели серебряной чешуей рыбьи хвосты. Тысячи, как всем показалось, хвостов.
– Теперь черпайте, – выдохнул башлык.
Черпали и кидали улов на расчищенную от снега площадку. Упругие рыбины шлепались на лед, выгибаясь и подпрыгивая, схватились на морозе звонкими слитками.
* * *
Рыбаков тем временем уже поджидали в деревне. На просторном подворье Никифора первым объявился старик Михалев Лаврен в диагоналевых галифе. Он хороший портной, но в последние годы шитье заказывали мало. Перебивался со старухой на пенсию, платили «шашнадцать» рублей, да раза два в квартал получал переводы от сына из Фрунзе. Туда всякими неправдами уехало уже с десяток семей. Сын тоже звал, Лаврен отказывался: «Нам и тута ладно».
Следом прихромал управляющий Алексей Тимофеевич вместе со скотником Кондруховым.
– Доброго здоровья, старики! – Управляющий гладко побрит, из-под тужурки выглядывает новая рубаха, суконный пиджак. Кондрухов с вилами – насаживал дома черенок.
Никифор воткнул топор в чурбак, он тесал новую задвижку к завозне, кивнул гостям:
– Здорово!
Помолчали неловко.
– Да – а… Прибывает дён-то, – заговорил Лаврен, присаживаясь на чурбак.
– Как же, прибыл… Солнце на лето повернуло, а морозы только еще поигрались… Может, в дом зайдем? Чё тут носы морозить?
– Ты погоди, Никифор Степанович, чай мы и дома пили, а христовы праздники вроде прошли, натешились, – остановил хозяина Алексей Тимофеевич.
– Рожество, слава богу, отгуляли, а ить крещенье скоро. Забыл?
– И верно, из головы повышибло. – Алексей Тимофеевич полез за куревом. По старой привычке, с войны, он не изменял «звездочке», хотя за последнее время папиросы стали хуже, табак поторчал.
– Ведь опять насосешься, стерх ты непаленый, – повернулся он к скотнику. – Ты уж предупреди, где тебя искать в этот раз. А то ведь что учудил, старики? Залез в гаино к своему борову и спит…
– Не насосусь, Тимофеевич. Плюнь мне в глаза.
– Плюнул бы, да что мне, самому прикажешь потом глызы от коров отвозить? Плюнь… – Тимофеич потер рукавицей калеченную на войне ногу. – Недавно вот вызывали в дирекцию в Еланку: «За что, – говорят, – ты орден Александра Невского носишь, память доброго человека позоришь?» – «Ношу, – говорю, – на фронтах заработал». Директор так и взбеленился: «На фронтах ты храбро управлялся, ротой и батальоном командовал, а сейчас с двумя отделениями не можешь совладать…» Как ни верти, а прав он. Хоть што поделай…
– А ты по добру, – подкашлянул Михалев, – раньше оно ить как было, человека уважили, похвалили, он рад с пупа сорвать, пластался и на поле, и на ферме, и при обчественном деле.
– Ты погоди, Михалев. – Управляющий приспособился на поленьях, вытянул калеченую ногу. – Про раньше-то ты много ли понимаешь, всю жизнь картузы кроил.
– Кроил, ну. Самому великому князю, главнокомандующему Николаю Николаевичу, мундер по примерке… Да и тебе, Тимофеич, помнится, шинелишку на пальто переиначивал.
На улице залаяла собака. Мужики как по команде повернули головы. К воротам подошла Нюра Соломатина.
– Не приехали? – спросила она, хотя и так ясно, что не приехали. – Я молочишка принесла ребятам. Возьми, Никифор Степанович, посудину… Сам-то не забудь, налей себе стакан, – наказала вдогонку.
Никифор отнес молоко в дом, вернулся. Михалев что-то доказывал мужикам, нажимая на сиплый голос.
– …Обчественные поручения давали. Не смейся, давали. Еще при колхозе. При том председателе, ты его знаешь, орденов поболе твоих носил. Приехал как-то на ходке прямо в дом. «Вот тебе, – говорит, – Михалев, красный сатин, сошей два флага. В потребсоюзе сатину-то достал… Один, – говорит, – чтоб на правленье вывесить, другой переходящий». Что ты думаешь, сошил. К потемкам, гляжу, один на твоих воротах трепыхается.
– Это Федька, старший, присобачил тогда, помню, – подобрел управляющий, – на сенокосе вручили…
– Вот и советую, Тимофеевич, ты по-доброму с людьми-то, как Ленин, – неожиданно заключил Михалев.
– Ишь ты, куда хватанул, – удивился Алексей Тимофеевич. – Применил тоже – Ленин! Да он же вождь, народами руководил… Ну, загнул!
То-то и оно, народами. Но ведь, если обмозговать по порядку, он и везде, и в малых делах курс нужный прокладывал. А все потому, что добром.
Михалев охлопал с шапки снег, поглядел, не едут ли рыбаки.
– Не видать? – спросил Никифор. – Кто это там? Мать вроде Гальки?
– Она, – сказал Кондрухов.
– Куда ездила, Мотя? – громко, чтоб услышала, спросил управляющий.
Женщина оглянулась на голос, поставила па дорогу кузовки, ослабила шаль.
– Да в Еланку с молоковозом.
– Обнов набрала?
– Да каких обнов? – отмахнулась Матрена. – Трикотажу выбросили с утра, купила кое – чего.
– Зайди покажи.
– Ой, да пристала я, сердешная… Что показывать-то… Чашки, ложки, кастрюльки две малированных, суп варить.
– Ну иди с богом, – отпустил ее Никифор. – Задержались рыболовы, не едут.
– Правду я говорю, – продолжает Михалев. – Вчера это вышел я по нужде, на улке лунно, светло. Гляжу, а они из моей бани выкатывают, прямо на меня.
– Галька?
– Ну дак а кто же, она. И этот с ней коренастенький, не знаю, звать как. Каво им по ночам надо по баням блудить? Время уж много было…
– С Натольем она была, – спокойно рассудил Никифор. – В мордобоя который костерит всех…
– От парень, та второй, вечер огулял девку, – качает головой Тимофеевич. – Жениться заставлю… Заставлю!
– Женишь, да у ней таких женихов перебывало, как в кадушке огурцов.
– Нет, ты брось, Кондрухов, на девку наговаривать, брось…
Собеседники еще какое-то время ведут неспешный разговор. Вспоминают разные случаи про баб и про девок, трут замерзшие носы, прислушиваются к бреху собак. Смеркается.
В домах затопили уже печи. Над трубами дымы прямые, как свечи. Мороз еще будет. Он шастает пока по лесам, урманам, стережет медвежьи берлоги, гоняет по осиннику зайцев. Мороз будет, решают старики.
И тут из проулка с криками, топотом, со скрипом полозьев выкатывает заиндевелый обоз.
– Ого – го – го! – слышен голос Лохмача. – Отворяй, дед, ворота!
«Слава богу, приехали!» – думает Никифор.
4
Деревня в тот вечер не спит долго. В домах мерцает керосиновый свет, и во многих окнах виднеются отблески печных огней. Топятся железянки и даже русские печи, которые, по обычаю, топят по утрам. Из труб пахнет манящим ароматом свежей ухи… Старики прихлебывают деревянными ложками жирный навар, вспоминают добрую летнюю пору. В Нефедовке рыболовством занимаются многие, но по теплу, а так, чтобы промышлять зимой, – об этом не думали. Не привыкли.
Жарко нажварила железянку в своей избе Нюра Соломатина. И разомлевшие от тепла и сытости пожилые рыбаки степенно ведут разговоры, рассевшись по скамейкам, а то и просто на полу – на расстеленные ватники. Похрипывает бригадный радиоприемник «Родина». Курится самокрутка дяди Коли.
Никифор опять ушел к Соломатиным, оставив молодежь в своем доме на попечение Толи и Витькиной гармошки. Но возбуждение и радость после удачливого первого дня вскоре улеглись. И Витькина гармошка смолкла. Незаметно и тихо собрался Толя. Лохмач, побалабонив после ужина, тоже вскоре исчез. Шурка – конюх хлопочет на дворе с лошадьми. Акрам чинит бродни.
Нахлынувшая вдруг грусть одиночества и какой-то пустоты обволокла Витьку. Он взялся за книжку, но страницы скользили мимо его мыслей. Попробовал заснуть, но взгляд застывал на потолке, старинно разрисованном облупившимися розами. Он прислушивался – не хлопнет ли калитка.
В окно проливался уже лунный свет, и таинственный свет семилинейной лампы, возле которой читал Володя, рассеивал по избе полумрак.
– Пошли! – сказал вдруг Витька, резко поднимаясь на ноги. – Пошли, повеселим деревню…
– А что! Идея! Это даже романтично, – откликнулся Володя, следя за тем, как Витька решительно натягивал бродни, вытаскивал из-под лавки гармошку.
На дворе, хлопнув калиткой, Витька пробежался пальцами по кнопкам хромки.
– Петь можешь?
– В общем-то, могу, – приободрился Володя. – Что-нибудь такое протяжное, да? Про Ермака или романс какой…
– Нет, – Витька рассмеялся, – про Ермака знаешь, у нас за столом поют, тут надо такое… Ну! Пока пальцы работают.
Полилась саратовская. Володя идет рядом, что-то пыхтит, но ничего стройного не получается. Тогда Витька спел сам:
По деревне я иду,
Думаю – по городу.
Я военному солдату
Выдергаю бороду.
Володя хохотнул, затянулся вдохновенно папиросой.
– Давай еще!
Бабка деда схоронила,
Не поставила шеста.
Наша шайка небольшая —
Человек четыреста.
– Слушай, Витя, у тебя голос есть. Ты о музыкальном не думал? Поступай…
– Не думал. Я ведь так, балуюсь гармошкой. Попалась в руки, научился. В клубе у нас некому было играть… А ты почему техникум бросил?
– Не то, знаешь. Проучился почти два года в рыбопромышленном – не то!
– А здесь-то? – притушил гармонь Витька.
– Есть возможность подумать. На исторический факультет поступлю. В армию я забракован, так что не уйдет от меня…
Они идут по натоптанной улице. Безлюдной, притихшей. И внезапная мелодия гармошки безответно ударяется в морозные окошки, где за двойными рамами кой – где уже увернули на ночь лампы. Никто не откликается, даже собаки.
– А матершинные знаешь частушки? – неожиданно удивил Володя.
– Ха! Только неудобно. Ты что?
Витька подышал на пальцы, потер их о телогрейку.
– А, провались оно, как говорят…
С неба звездочка упала
Прямо милому в штаны.
Пусть взорвется что угодно,
Лишь бы не было войны.
Они дважды прошли из конца в конец деревенскую улочку, за околицей темнел полузаметенный снегом скотный двор, а за ним вплотную подступала темная стена тайги. Таинственная днем, она пугала в ночи своей неизвестностью и безмолвием. И во всем звездном мире стояла прекрасная тишина, нарушаемая лишь легким поскрипыванием бродней.
Володя молча курит, молчит и Витька. А та, о ком он молчит в эти минуты, сидит принаряженная напротив Толи за столом в теплом доме и смотрит, как он ест.
– Мамаша, – говорит Толя, захмелевший от самогона, – можно еще надбавить?
Галинина мать выходит из кути с бутылью и булькает в Толин стакан.
– Последнюю… Хватит, Анатолий!
– Понял, мамаша…
Толя выпивает и выходит в морозные сени проветриться. Следом выпархивает Галина, и, утомленные от поцелуев, они опять возвращаются к столу.
…Витьке хочется постучать в окно этого дома, где за занавесками мелькают тени, где вряд ли слышат голос его гармошки за двойными рамами. Да и сама гармошка, охрипшая уже на морозе, тихо висит на Витькином плече…
И еще в этот момент Шурка-конюх поил коней в речушке за батраковским огородом. Зачем Шурке вздумалось поить лошадей так поздно? Но ему, видно, было лучше знать, когда поить.
И вот Шурка-конюх бежит из проулка, кричит заполошно:
– Егренька тонет! Караул! Егренька…
Витька с Володей как раз собирались зайти в калитку, услышали Шуркин голос.
– Караул! Тонет…
– Какой караул? Сдурел, что ли? Кто тонет?
– Мерин! – у Шурки, наверное, текли слезы.
Тут Витька только понял, какая стряслась беда. Никифор еще утром предупреждал, что речушка с капризами, на ней много пропарин и надо быть осторожным.
– Так что ты убежал? Спасать надо… Володя, беги к Батракову, тарабань в двери, зови… Бежим, Шурка, ну…
Егренька бился изо всех сил, стараясь выбросить на лед передние ноги, но, видно, уже обессилел, положил голову на кромку льда, тревожно ржал. Заметив людей, конь опять забился в проруби, разбрызгивая на лед воду.
– За узду его лови. Осторожней, – командовал Витька, а сам кинулся к пряслу, отрывая от него длинную жердь.
Когда прибежали управляющий Батраков и Володя, Витька уже подсовывал жердь под брюхо лошади.
– Правильно сообразил, – на ходу похвалил Батраков и вывернул из изгороди вторую жердь.
Почувствовав подмогу, конь последним усилием вскинул ноги, скрежетнув копытами о кромку льда, но задержался, не соскользнул. И, словно понимая, что спешить не надо, подтянулся па передних ногах…
Во дворе их встретил Никифор, только что вернувшийся от Соломатиных.
– Застудится конь, ишь мороз-то прижимает, – спокойно и рассудительно произнес старик.
– Ясное дело, может простыть, – добавил управляющий. Он без шапки, в шубчике, под полами шубчика белеют кальсоны. И теперь, при лунном свете, словно устыдясь своего вида, он усмехнулся:
– Как от бомбежки стрелил… Не растерялись ребятишки.
– Куда там! Напужались, гляжу, – промолвил Никифор, – что делать-то с конем?
– Сяю горячего надо дать ему с ведерко…
– Дурак ты, Володя, – обиделся Шурка. – Гусями укрывать буду.
Только теперь Витька вспомнил о гармошке: он оставил ее возле забора на снегу. До него донеслись слова Никифора:
– В дом заводите, а то погубите лошадь.
– Ка-ак это в дом? – это Шуркин голос.
Егренька идет покорно к двери. Из тепла выбросились клубы пара, и показалось заспанное лицо Акрама.
– Ой-ой, рехнулся, Шурка, выстудите избу…
Двери оказались низки. Егренька склонил голову, но круп его выше верхнего косяка, и лошадь заупрямилась.
– По-пластунски, Егренька, – посоветовал Витька.
Батраков рассмеялся, развеселился и Володя.
– Ну что ржете? – осудил их Никифор. – Сурьезное дело-то… Акрам, подай пилу.
Пришлось вышибать верхний косяк и выпиливать еще бревно. Пока вставляли обратно бревно и косяк, Егренька, привязанный уздой за шесток возле печки, пугливо вздрагивал, косил глазом на колеблющийся огонь лампы, позвякивал удилами.
Вслед за Акрамом (он быстренько позаботился принести охапку дров) Шурка-конюх нагреб в завозне овса, поставил ведерко на шесток.
В железянке вновь разгорелся огонь, и с лошадиной гривы упали легкие подтаявшие сосульки.
Хорошо смотреть на огонь, когда зайчики через узкий глазок заслонки скачут по стене, по потолку, когда тихо – тихо в доме, когда все спят, уставшие за день. И мысли приходят светлые, и мечты уносят далеко – далеко, как в детстве, когда лежишь на полянке и смотришь в небо. И все так складно и прекрасно в этих мечтах, так интересно, что думается без устали, без разочарования.
Витькины мысли, возносившиеся так же высоко, все чаще возвращаются к его сегодняшнему прошедшему дню, к его событиям и печалям.
Все уже уснули. Поскрипывает кроватью Никифор – ворочается, тяжело стариковским костям лежать долго на одном боку. Затянули головы под гуси Акрам и Володя.
А Витька сидит возле печки у ног Егреньки – пишет письмо домой. Со стрежевого песка он посылал домой открытки, что все идет хорошо, купил на первую получку часы, домой приедет, может, не скоро, когда поступит в училище. А сейчас он писал, что работает в новой бригаде, где тоже интересно, что рядом Толя, с которым вместе уезжали. В конце передавал приветы всем родственникам и соседям, просил, чтоб о нем не беспокоились – стал совсем взрослым. Еще Витька приписал, что сегодня поймали много рыбы, а вечером провалился в полынью Егренька, но его выручили.
Тепло снова набралось в дом, и с гривы Егреньки больше не падали на пол капли. Он, наверное, задремал, опустил голову к шестку. А Витька еще ждал, что вдруг придет Галя, распахнет дверь – морозная, свежая, радостная.
И она пришла. Пришла вместе с Толей. Он пьяно бормотал, пошатывался. Наткнулся рукой в полумраке на Егреньку.
– Где я? Ты куда меня ведешь? Здесь конный двор…
– Иди спать, Толя, иди, – Галина сам удивилась, разглядев, что в избе действительно стоит лошадь. Витьку она не заметила, он сидел на корточках в тени, притихший, настороженный.
Галина провела Толю в горницу, стянул с него бродни, уложила рядом с Акрамом на пол.
– Спи, Толик, спи…
Она осторожно вышла из горницы, плотнее прикрыла дверь. Витька уловил запах духов и не выветрившийся еще из ее шали запах мороза, улицы, снега.
– Галя.
– Ой, кто это? – сказала она шепотом. – А, это ты, Витенька. Напугал. Не спишь?
– Не сплю…
Витька сел на лавку к двери, где в первый вечер сидел с гармошкой. Галина нашла его щеку, погладила. Он легонько отстранил ее руку.
– Обижаешься? Не обижайся, Витя, – сказала она как-то устало, развязала шаль, рассыпав на воротник пальто волосы. – Он же твой друг… Дай я тебя поцелую…
И она опять жарко забрала Витькино лицо в ладони, как вчера у плетня, и жадно поцеловала, так что у обоих перехватило дыхание.
– Нельзя так… Не хочу я так…
– Ага, понимаю. Значит, обижаешься… Что мне делать с вами? Может, ты, миленький, подскажешь? Ну подскажи, подскажи… Любишь, мой миленький?
Витька молчит. «Вот это как все называется – любовью?» Он думал весь день о своем чувстве, а сейчас Галина назвала это так просто – любовью! Буднично и просто. Он даже обиделся на нее на какой-то миг, но мимолетное неприятное чувство от будничности сказанного растопилось под ее жаркими сильными губами.
Она отпустила Витьку и сидела, ставшая вдруг строгой, неподвижной и отчужденной.
– А ты, Витя, увезешь меня отсюда? Ты… женишься на мне? Ну что ты молчишь?
– Я увезу… Только не сейчас. Не могу я сейчас.
– Ты не можешь. Я это знала.
– Нет, ты не так подумала… Мне еще в армию идти… И мы будем любить… Я буду писать тебе. – Витька удивился собственным словам, о которых час назад даже не мог подумать.
– Ты такой нерешительный. Красивый, а нерешительный. Толя не такой.
– Но Толька тебя не возьмет, я это знаю…
– Он сильный и грубый иногда бывает. Он, наверно, плохой… Но почему ты такой, почему?
Витька коснулся губами Галиной щеки, несмело поцеловал.
– Ты говоришь неправду, – зашептала она. – У тебя дома есть девчонка. Ты обманываешь меня.
– Никого у меня нет… И домой я не хочу ехать.
– Тебе там плохо? Расскажи мне о своем доме, – она притянула Витьку за плечи, положила его голову к себе на колени.
Из горницы доносился чей-то храп, и Егренька, повернув голову, шумно вдыхал ноздрями воздух. Дрова в печурке догорали, отщелкали, затухая, еловые угли, и в избе стало темней. Луна уже перевалила в западную половину неба, временами кутаясь в морозные облака, все реже показывая озябшее лицо.
Витька вдруг вспомнил не о доме, а о первом письме отца, полученном перед отъездом в Нефедовку. Оно удивило первыми строками, где отец называл Витьку на «Вы» и по имени – отчеству. Толя, которому Витька показал письмо, расхохотался над этим обращением, но потом пояснил, что такова манера письма и тут уж ничего не поделаешь… Отец долго – на четырех страницах – перечислял домашние подробности: сколько засыпали на зиму картошки, о новом заборе, выстроенном из штакетника, о подшитых валенках, о курах, о том, кем отелилась корова, об урожае в совхозе. А в конце категорично звал вернуться домой «учиться работать на технике, а нечего зиму шляться с карандашом по озерам, ковырять лед». Карандашом, как догадался Витька, отец называл пешню…
Он пошел провожать Галину, когда небо совсем затянуло облаками и луна едва угадывалась. Они зашли во двор ее дома и оказались под низким дощатым навесом – наверх вела приставленная лестница. Галина нашла в темноте Витькино лицо, опять прижалась теплой щекой.
– Миленький мой…
Она стала подниматься по лестнице.
– Ты куда, Галя? – удивился Витька.
– Там сено у нас, корове надо охапку добавить. – сказала она и тихонько засмеялась.
– Ну что ты там? – опять Витька услышал ее нервный шепот – оттуда, сверху навеса, из-под крыши.
– Я ничего… стою. Кидай мне сено, я приму.
С минуту наверху было тихо, затем на голову ему свалилась увесистая охапка душистого визиля, пахнувшего летом, июнем.
– Я поймал, – сказал Витька.
– Ишь ты какой молодец! – Галина спустилась по лестнице, унесла сено в кормушку корове. – Ну вот и все, мой миленький… Миленький ты мой? Иди, спи. Спокойной ночи.
– Мы будем встречаться еще, Галя?
– Спать надо. Поздно уже, иди…
За ней захлопнулась дверь, обдав Витьку теплым сухим воздухом.
5
Неожиданно собрались уезжать в город Соломатины. К старшему сыну Валентину. От него пришло письмо. Два дня мял его в кармане шофер молоковоза, и вот только на третье утро принес с базы Афанасий конверт с нарисованным реактивным лайнером.
– На, мать, читай, знать, от Вальки, – сказал Афанасий, стягивая валенки под порогом.
– Да уж, смешишь никаво! Где я разберу! – отмахнулась Нюра, в душе обрадованная. – Разболокайся и сам уж…
Старший писал, что въехал в трехкомнатную квартиру со всеми удобствами и невысоко – на четвертом этаже, отмучились таскаться по чужим углам. Ни с водой, ни с дровами хлестаться не надо. Краны под рукой, печка электрическая на четыре кружка. В магазин тоже недалеко бегать – на первом этаже магазин – гастроном. Пошлешь Олежку (он уже в шестом классе), принесет что надо…
Валентин звал родителей к себе. Сулил отдать комнату, которая на солнышко, если захотят сами под собой жить. А так – можно и вместе: родители ж, с Людмилой он переговорит…
– Вот-вот, – отложил письмо Афанасий, – Людмила… Валька-то, он проворный, мы бы уж с Валькой, – Афанасий вздохнул. – Решай, Нюра, ты все раньше-то рвалась к ним, стращала – уеду. Решай!
– Боязно чё-то, Афоня, – присела на лавку и Нюра, до этого она смирно слушала у шестка, из кути, где в печке закипал чугунок. – Лишимся своего, потом как? В городу-то робить придется, а здесь хоть зарплата не корыстная, да все свое!
– Вот он дальше пишет, – перевернул Афанасий листок. – «К пенсии отец может прирабатывать, если захочет. Многие пенсионеры в городе в киосках газеты продают, самое дельное занятие для пожилого». В скворешнике этом сиднем сидеть? Не пойду! – вставил между делом Афанасий. – Ишь чего выдумал! Магазин с переломкой караулить – ладно еще, – произнес он тоном, будто вправду уже собрался караулить городской магазин, – да вот дело пока за тобой, мать, как скажешь, так и будет.
«В новом году возьму «Москвича». Слышь, мать, старший-то замахивается на легковушку. «Летом за груздями летать будем, здесь недалеко, белых много. Денег, правда, не хватит, перехвачу или ссуду попрошу. У Юрки хотел занять, но какие у него деньги! Учится он заочно да на книжки тратится, все стены занял полками. То и дело доски просит достать. Я помогаю, свой своему поневоле друг. Ну да ладно, – читал Афанасий. – Юрка у нас молоток. Недавно распушил в своей газете одного начальника, того, поди, уж с работы вытряхнули. Жилье ему дали (Юрка, наверно, сам писал), комнату в общежитии, но ихнего брата газетчика не больно-то поважают…»
На этом месте Нюра промокнула кончиком платка глаза, и Афанасий вновь отложил чтение, пошел в куть напиться.
– Говорил я Вальке, оставайся дома, не захотел. В Нефедовке делать ему нечего – переехали бы в Еланку. Там механика с руками бы оторвали, и к нам ближе… Опупели. Стронулись. Куда глаза выпучили, поехали… Не знаю, мать, не знаю, – покачал головой Афанасий.
– Юрка-то, поди, не одобрит, – проговорила Нюра, занятая своими мыслями.
– Что говоришь?
– Юрка восстанет. Прошлым летом, когда в отпуску был, все наговаривал, мол, не здумайте трогаться, если Валентин позовет в новую квартеру. Помню, чудно так сказал: старую березу не пересадишь, не прирастет в новой почве.
– Так оно, – кивнул Афанасий.
– Бегал по лесу. Гороху налущит в карманы и ходит – ходит. Думает. Как-то сказал шибко антиресно: уедете из Нефедовки, все корни нарушите. И приехать не к кому будет, – Нюра опять потянула платок к глазам.
– У него все стишки на уме, – заходил по избе Афанасий. – А большак – специалист, ценят его. Может, так-то лучше, кто его знает. Так поедем, Анна?
– Про меня-то он ничё не пишет?
– Погоди. Да вот и тебе кума – сорока весточку припасла: «Если, может, мама думает, что водиться ей придется, так мы пока второго не намечаем, хотя сейчас можно бы, места много, хоть футбол гоняй в апартаментах…»
– Ну-ка, не части. Алименты ему присудили, батюшки… На стороне дите прижил? Да я ему…
– Ну – у, поехала с орехами, – рассмеялся Афанасий. – Про помещение речь идет. Квартирой, стало быть, хвалится, больша-ая.
– Куды там, квартера! – не сдалась Нюра. – Была я в городских квартерах, когда к им ездила. Валентин водил меня к Апрошке Даниловой, она ить тоже у сына живет. Ну и како? Не присесть, не поставить! Чисто, правда. В горнице сразу четыре лампочки включают. А как ночь придет, на стульях спят повдоль стен. Раскладут стулья и ложатся поодиночке. Да ишшо ночевать каво из чужих оставляют. Апрошка и стонет: лежишь, как на вокзале, вповалку, за протянутые ноги запинаесся, если в уборну приспичит. А куды деваться?
– «А корову Зорьку продайте или отведите в совхоз. А за пятистенник, если подвернется покупатель, не ломите цену, – продолжал Афанасий. – Дорого не дадут при нынешней ситуации».
– Господи Исусе, да как же я переживу это светопреставление! – совсем поникла Нюра. – Ить Зорька стельная, вот – вот отдоит… Ой, оченьки, – спохватилась она, загремев в кути ухватами, – совсем ополоумела! Зорька ревет, поди, непоеная. Что же это? Много ли, чё ли, там осталось?
– Заканчивает, – сказал Афанасий, – передает поклоны соседям, да в конце приписал, что отобьет телеграмму, как поедет за нами на тягаче. Скоро, говорит, будет… Решил за нас без нас. Да-а…
Нюра промолчала. Навела ведерко теплого пойла, сыпанула сверху отрубей, покрошила сухую хлебную корку, вышла к корове.
– Отдыхай, я к Матрене забегу ненадолго, – проронила она на пороге.
На дворе сиверило. Утоптанный еще затемно рыбацкими броднями снег совсем затвердел, валенки в калошах скользили. Она не подумала, как раньше, о постояльцах, не пожалела в мыслях, что им несладко в такую стужу на голом морозе управляться с работой. Мысли словно пропали, окаменели, в голове гудело, потрескивало.
Нюра приласкала Зорьку, та сразу кинулась к ведру, ополовинив его в несколько глотков, затем пила неторопко, в перерывах отдуваясь и нюхая руки хозяйки.
Матрену она застала за работой. Та недавно вернулась с дойки, ткала на кроснах дорожку.
– Приданое готовишь Галине, знать-то, девка! – стараясь придать голосу бодрость, поздоровалась Нюра.
– Старье-ремки собрала, накопилось… Раздевайся, кума, проходи, – повернулась навстречу Матрена.
Нюра неспешно размотала шаль, пригладив гребенкой волосы, – не дай бог показаться на людях косматой, повесила фуфайку над рукомойником, где висела и Матренина спецовка, пахнущая силосом.
– Пимы-то, пимы-то зачем сымаешь? – укорила Матрена, перебрасывая челнок с навитой пряжей.
– Чисто у тебя, наслежу.
– И не скажи! Не метено, не скребено. Как пришла в семом часу с базы, пала на печку пластом, да не лежится. Встала, в глазах метлячки летают, будто песку кто в глаза насыпал. Привязалось чё уж, не знаю. Я уж так и этак перевернусь.
– Не захворала ли, девка?
– Когда хворать? А поднимусь, метлячки летают…
– Чижало тебе на базе, – заключила Нюра. – Отпросилась бы! Сколько тебе годов-то, молодая вроде?
– Осенесь сорок восьмой пошел.
– Молодая… Мне пиисят семь на паску будет, а и то ползаю. Не знаю, как там! А в Нефедовке дай бог поползаю ишо…
Матрена промолчала, не ответила, видно, не поняла, с каким разговором подступает кума, прошла в куть, поставила самовар – прямая, рослая, степенная, не утратившая еще былой девической стати. Была она смугла, другой, чем дочь, породы – та в отца, белая, синеглазая, быстрая на ногу. К Матрене еще недавно подкатывали со сватовством, но она необидно и аккуратно отваживала, напоив чаем, а то и угостив самогоном, который нагоняла раз в году, не таясь от соседей. Стеклянную пятилитровую бутыль хранила в подполе для праздника, для доброго человека. А поскольку добрый человек навертывался в таежную деревеньку не так часто, то Матрена рада была приветить гостей, что завертывали на ночлег – проезжая шоферня, охотники, приплутавшие в незнакомых местах, рыбаки – одиночки из городских отпускников, заготовители пушнины. Однажды каким-то ветром занесло корреспондента из области. Ночевал он две ночи, сулил прислать газету со статейкой, да так и не прислал: об чем было писать корреспонденту? Не прославилась как-то Нефедовка, большого молока не выдала, механизаторы, которые обрабатывали нефедовские поля, не поля – горе, заплаты на лесных взгорках, жили в Еланке, наезжая весной всем аулом на посевную. Корреспондент тот все же выудил героев – ими, на диво всем, оказались Никифор да Лаврен Михалев, которые кое-что помнили про старину. Их и пытал два вечера корреспондент, выщелкав у Никифора полторы шапки кедровых орехов.
Нюра разглядывала клубки пряжи, надранной из старья, пока Матрена выскребала из загнетка горячие угли, наливала самовар. В углу, где должны быть иконы, побрякивал старый батарейный приемник, передавал гимнастику. Сквозь тюлевые шторы в настывшие узоры окна светило линялое зимнее солнышко – живое солнышко, показавшееся впервые за последнюю неделю. И все же в груди Нюры было неспокойно, как-то тоскливо, и не терпелось высказаться, поделиться с соседкой.
– Не знаю, чё и делать? – промолвила она, когда Матрена, вытирая руки о фартук, вышла из кути. – Зовет нас к себе Валентин-то…
– Зовет?
– Зовет. Зовет. На машине сулится приехать. А у нас теперь и думы нараскоряку. Продайте, пишет, пятистенник и Зорьку. У Валентина сичас хоромина большая. Хватит, говорит, наробились, отдохнете… И то верно, несподручно ему каждую весну палигать к нам с дровами пластаться. Да ишо летом когда и сено приезжал метать.
– Он у тебя рабочий, – закивала Матрена. – Сноха, знать, только неприветливая.
– А мы сами под собой будем, СА-ами. Как же! У нас все свое – посуда и перины две, подушек шесть штук. Напасла я пера, когда Афанасий в силе был охотничать, напасла! А теперь и он никудышный становится. Базу только и сгодился караулить, да на хомяков капканья ставить.








