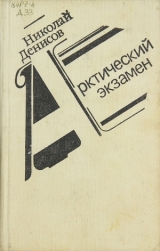
Текст книги "Арктический экзамен"
Автор книги: Николай Денисов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
«То-то! А вы убавьте-ка нам план на год – два, убавьте. А уж мы, рыбачки, подскажем, где рыбку взять. Не в мутной воде. Мы под прицел возьмем все озера в округе, кроме домашних, разумеется…»
Увлеченный воспоминаниями, Чемакин на какое-то время забыл править конем, опустил вожжи, и Егренька, вытащив розвальни на просторную, обдуваемую ветрами поляну, остановился, повернул голову назад, словно спрашивая: куда, мол, теперь дальше?
– Ах ты умница! – похвалил Чемакин коня, соскакивая на снег, и растерялся сам. – Куда теперь, Егренька, слышь? Никифор вроде про разбитую молнией сосну нам подсказывал. Ну-ка, где эта оказия?
Он повел Егреньку в поводу через поляну, минуя колок березняка, и вышел опять на пространство, где далеко, километра на два вперед, тянулась голая снежная равнина.
– Никак, Кабанье, Егренька?
Избушку они нашли скоро, шагая вдоль по очерченному камышом берегу. В избушке, как описывал Никифор, печурка, стол из досок, дрова сухие, спички.
…А на озерке еще вовсю бились, вызволяя из-подо льда невод. Сашка Лохмач, обледенелый, погромыхивая несгибаемыми броднями, метался туда – сюда, то и дело беспокоя башлыка.
– В нашем деле всякое бывает, Александр, – отмахивался дядя Коля. Он и сам порядком переволновался, но не подавал виду. – Вон, посмотри, ребятишки-то долбятся…
– Так ведь невод только починили и опять – двадцать пять!
Теперь тянули не сразу всю снасть, а поочередно – правое и левое крыло. Моторист положил на горячий двигатель вторые брезентовые верхонки, от мокрого каната они скоро настывали, и канат скользил в руках. Парни тоже постоянно бегали греть накрасневшие руки у выхлопной, набирая про запас в варежки горячих и тугих выхлопов.
День еще держался за корявые вершины прибрежных вымокших стволов, но серая оттепель отяжелевшего неба уже схватывалась на снегу хрусткой корочкой. Никто не обращал внимания на лису, что который раз показывалась в отдалении камышей, не кричал, не ухал, не пытался докинуть в нее намятым волглым снежком.
Невод выходил натужно и упруго, но дядя Коля и моторист поняли, что снасть спасена, и, когда там, в глубине озерка, будто отцепился многопудовый якорь и моторчик застонал уже не от натуги, а как бы от радости, прибавив пылу, башлык крикнул, чтоб все бежали к майне.
– Господи благословясь, – проговорил он, как тогда в первую тоню на Белом озере. – Ну, ребятишки! Однако, складывайте невод!
– О-го-го, нажмем, мордовороты, – обрадовано гикнул Толя, и, приняв этот возглас как команду к действию, Шурка – конюх понесся запрягать лошадей.
Сейчас башлык позволил себе отойти в сторонку, попыхтеть папиросой, поглядывая, нет ли где порыва мережи, но порывов не было, и только ближе к мотне он то и дело наклонялся, выпутывая из ячей набрякшие в воде коричневые палки и прутья.
«А карась здесь есть, – подумал башлык, – да взять-то его охо-хо! Бывал ли кто до нас? Нет, не бывал! Разве кто из нефедовских или еланских забредал с сетенкой, да и то вряд ли!»
Он не вспомнил случая за многие годы промысловой работы, чтоб какая-то из бригад направлялась в эти места, нет, не вспомнил! И теперь, стоя над темной майной, как над открытой могилой, с грустью подумал, что эта зима последняя в его долгих скитаниях по таежным промыслам. Что пора, знать, уступить дорогу молодежи! Кому уступить? Сашке Лохмачу? Он усмехнулся этой мысли, но тут же подумал, что не так уж плоха эта мысль: хоть и ботало несусветное, а ребятишки прислушиваются к нему, да и сам он хваткий до работы, ничего не скажешь.
Башлык зорко поглядывал, как парни трясут на снегу невод, выбивая приценившиеся к ячеям водоросли и тину, молча на этот раз, без гомона и шуток.
«На этих надеяться пока рановато! – подумал он об Анатолии с Витькой. – Временные работники. Как пристали к бригаде, так и уйдут. Натолья, гляди, в армию захомутают – пора вроде. Наплачется же Галька! А что, видный парень, хоть и не отесался пока, буром ломит, а ничего, выходит.
Рыбаки подтягивали мотню, выбирая ее на кромку льда, с тревожным любопытством ожидая, что там, в ней, в мотне. Несколько некрупных карасей, застрявших в ячеях, били хвостами, отброшенные в снег, а мотня еще тяжело пружинила, вырываясь в глубину.
– Ну, мать честная, нутром чувствовал… Скажи на милость, – проговорил немногословный моторист, когда парни выволакивали на свет божий увесистое сплетение корневищ, пролежавшее в воде немало десятилетий.
– Дыр наделали?
– Как не наделать! – подтвердил башлык. – Ничего, утречком починим.
Шурка-конюх подогнал тут подводы, и Лохмач первый, вскинув на плечо инструмент норильщика, который Володя окрестил еще на Белом озере трезубцем Нептуна, замотал полами полушубка – к розвальням:
– «У попа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса…» Ха! Гребанули, – и Лохмач сочно выругался.
К дороге, что проторил до избушки Чемакин, шли молчаливо, хмуро. Кони ступали след в след, волоча поклажу. В розвальни почти никто не садился, согревая в ходьбе настывшие ноги.
Уже смеркалось, когда добрались до разбитой молнией сосны; и рыбакам открылась заснеженная равнина нового озера, где санный след круто ломался вправо, и все увидели за темными прибрежными кустами тальника высокий столб дыма, что почти прямо уходил в вечернее небо.
Парни, собравшиеся было остановиться и по настоятельному совету Витьки намотать под портянки сена, замахали башлыку – правь, мол, дальше, теперь уж недалеко, вытерпим.
Витька сидел в последних розвальнях, навалясь на невод, что схватывался уже на холоде, леденисто потрескивал при каждом толчке в полозья. Витьке было покойно, и ноги совсем отошли в сухом сене, лишь пощипывало кончики пальцев. Мысли его блуждали где-то далеко, как случается со всяким в дороге под ритмичный скрип лошадиных копыт и тонкое бряцание удилов уздечки. Из всей сумятицы последних дней – сборов Соломатиных в город, что стали событием в деревеньке, глупой ловли ошалевшей на снегу курицы, неудачи с неводом на озерке – пробивался недавний почти мимолетный разговор с Галиной. Она остановила его утром на улице, когда Витька вел с водопоя Егреньку, и попросила, чтоб он поговорил с Толей.
– О чем поговорить? – замерло у него в груди, и он вспомнил, как повисла она на Толькином тулупе субботним вечером, когда все шли из бани.
– Понимаешь, Витя, что-то с ним произошло… Он вернулся из города… Я думала… А он не такой стал со мной, – она как бы через силу выталкивала слова, и Витька стоял пораженный ее неожиданным признанием, поняв сразу смысл просьбы.
– Галя, да ты… И ты меня об этом просишь? Галя!
– Прости, но я, наверное, дура… А кому мне сказать, кому? Ты у меня самый близкий друг… Ладно, Витя, не надо. Сдурела я, что ли? Нашло что-то. Прости, это от глупости, не думай, забудь о моих словах.
И она, как раньше, ладно и легко повернулась, вскинув голову, и Витьке даже показалось, что она улыбнулась краешком губ, зашагала к фермам. А он так и остался на дороге со смутной борьбой чувств, комкая повод Егреньки.
И теперь, прислушиваясь к скрипу окованных полозьев, он остро и пронзительно ощутил в себе голос Галины, ее последние слова, и ему стало нестерпимо обидно и жаль себя. И в то же время он как-то по-иному подумал о Галине, о ее поступке, никак не подходившем к ее характеру и Витькиному представлению о ней. «А кому мне сказать, кому?» – застрял в мыслях ее возглас, и Витька впервые, кажется, понял всю одинокость и беззащитность этих слов: ведь и он, в сущности, одинок со своей любовью и переживаниями! Кому он мог бы рассказать о том, что перечувствовал за эти недели? Ни Сашке «Лохмачу, ни Володе, хотя Володя, наверное, как-то понял бы. Ивану Пантелеевичу? Нет, Витька не приучен с детских лет к подобным откровениям – ни перед отцом, ни перед матерью даже, оттого и вырос диковатым, не сразу распахивая душу близким людям.
Парни шагали поодаль за последними розвальнями, натруженно переваливаясь с ноги на ногу в длинных гусях, откинув залихвацки капюшоны.
– А ну-ка слезай да потопай пешочком, – вывел его из задумчивости голос Лохмача. – Развалился, как барон, слезай!
В другой раз Витька, может быть, не подчинился бы беззлобному окрику Лохмача, но сейчас ему и самому надоело сидеть в санях, и он пристроился шагать рядом с Толей.
– Ну как оно, ничего? – буркнул приглушенно Толя. Давно он не толковал с младшим дружком. – Отец все, наверное, домой зовет?
– Да, опять целую петицию прислал.
– Ну а ты?
– Что я? Ничего… Слушай, ты отдал за меня комсомольские взносы в комитет?
Толя изучающе глянул, усмехнулся:
– Отдал. Зойка сама меня разыскала на территории, где мы невод чинили, слупила сразу и за месяц вперед.
– Какая Зойка?
– На учет, помнишь, вставали? Учетные карточки требовала еще, чтоб нам из райкома прислали?
– А – а. Нет, не помню, – схитрил Витька.
– Что-то ты все забываться стал?
– Ясно, – протяжно сказал Витька. – А Галю ты зачем обижаешь? – вырвалось у него неожиданно, и он сам не понял, как произнес эти слова, почувствовал их фальшь, и пожалел о сказанном.
– Ты гляди, защитник выискался! – удивился Толя его прыти, и, кажется, это развеселило его. – Я что, муж ей? Гуляем – и ладно, сама захотела. А насчет женитьбы – это еще посмотреть надо… Между прочим, к тебе она тоже бегает целоваться. Но знаешь, Витька, она делает это, чтоб я ревновал ее. С умыслом она это, понял!
– Неправда, – вскипел Витька и понял тут же, что выдал свои тайные мысли.
– Что неправда? Все так. А что мне, драться с тобой? Насмешим деревню. И так на нас тут искоса кое – кто посматривает.
– Дурак ты, Толька, понял? Да она тебя любит! – и опять ему было трудно говорить, но он выпалил одним духом, словно отрекаясь от чего-то навсегда.
Толя неопределенно хмыкнул, затопал на снегу, заподрыгивал. Ноги, видать, все же пристыли окончательно, не хватало терпения дюжить. И Витька ушагал вперед. Вскоре он услышал за спиной частое дыхание и хлопанье развевающегося подола гуся. Толя догнал друга.
– Она что-то сказала тебе?
– Да пошел ты знаешь куда!
За сугробом, наметанным к кустам тальника, чернела пышущая трубой избушка. Оттуда донеслось призывное и мирное ржание Егреньки, и обоз остановился напротив входа приземистого строения на расчищенной Чемакиным площадке.
– Дуйте в тепло, живо! – скомандовал бригадир, встречая рыбаков. – Я тут сам с конями управлюсь.
Вваливались в дверь и, глотнув сухого жаркого воздуха, отрешенно опускались на земляной пол, устланный сеном, стягивали, сидя, через голову гуси и тут же опять откидывались на спину, не в силах развязать тесемки обледенелых бродней.
– Расскажи кому, не поверят, – с гримасой боли в лице выдавил Толя. – Как шильями тычет в ноги, – и он, здоровый, кряжистый, не мог управиться с обувью.
Витька, упираясь в дверной косяк, помог ему разуться, с треском разламывая портянки, под которыми, к счастью, были еще новые шерстяные носки, затем стянул бродни с Акрама и Володи, принес в пригоршнях снега.
– Растирайте поскорей.
– Расскажи кому…
В печурке который раз закипал чайник.
11
Прошла еще неделя. Удачливая, рыбная. Каждый раз Егренька привозил в Никифорову завозню десятка полтора мешков мороженых карасей. И гора рыбы поднималась под потолок. Чемакин ходил повеселевший, намекал на премию, которую он собирался выхлопотать у директора. С башлыком дядей Колей они обсудили, что пора с рыбзавода вызвать трактор и отправить продукцию в город. Башлык кивал сухим острым носом и миролюбиво поглядывал на «ребятишек».
Повадился ходить в Никифоров дом старик Лаврен. Он немало позабавил своими воспоминаниями о революции и гражданской войне. Но терпеливого слушателя нашел только в Володе. Они три вечера пили Акрамов «сяй», рассуждали о политике, об искусственных спутниках Земли, и Лаврен всерьез уверял, что спутники пускали тут неподалеку, за Еланской пустошью, где раньше косил сено. А вот уже позапрошлым летом встретил там солдат, и они повернули его назад, да еще чуть литовку не забрали.
Володя глубокомысленно кивал, и Лохмач, собираясь в свой ночной поход в Еланку, не выдерживал:
– Володя, когда с бабами гулять будешь?
– Подождем более лучшие времена, – серьезно отвечал Володя.
Они, эти времена, наступили буквально через два дня благодаря Лохмачу.
Как раз в тот день поприжал мороз, бригадир объявил, что по инструкции не полагается выходить на лед. Бригада осталась на выходной, а сам Чемакин запряг Егреньку, уехал на рыбзавод за трактором.
И в тот день – результат ночных визитов Лохмача в Еланку – объявились две гостьи. Пока они отогревались в доме у Галины, Лохмач вводил парней в курс дела:
– Та, что в белых чесанках, пониже ростом, – моя. Так что, мордовороты, – он стал перенимать этот увесистый термин у Толи, – за кем замечу… Понял, Володя? – Почему-то он счел нужным предупредить именно Володю. Это удивило даже Толю, валявшегося на печи среди ухватов.
– Хо, Лохмач, да ему дай хоть эту самую… гетеру, он ей будет всю ночь про Белку со Стрелкой рассказывать. Тут есть другие субчики…
На «субчиков» обиделся Витька – Акрама и Шурку – конюха он не ставил в счет. И Витька хорошо понял Толин намек. С последнего разговора в дороге между приятелями установилось сдержанное понимание. Они все так же работали на одном крыле у Яремина, ездили на озера в одних санях. Но порой Витькин взгляд перекрещивался с Толиным, и они молча расходились. Только однажды Витька, выдолбив первую лунку под норило, проходя мимо Толи, услышал:
– Подожди, Витька… Смешной ты. Я же все вижу…
– Что, что ты видишь?
– Не хорохорься… С Галькой опять целуетесь, я знаю. И она делает это, чтоб позлить меня… Психология…
– Пошел ты!
А сейчас Толин намек обидел всерьез. Витька оделся, достал из-под кровати широкие охотничьи лыжи Никифора, хлопнул дверью.
– Далеко не бегай, – напутствовал Лохмач, – сейчас девки заявятся, мяса привезли, жарить начнем.
День ядреный, солнечный. На улочке, как всегда, пустынно, тихо. Над крышами дымы, а на ближней батраковской рябине – стайка снегирей. И Витька вспомнил своих деревенских снегирей – они прилетали почему-то всегда в сильные морозы, усаживались на вежи тополя за окошком, словно завидовали людскому теплу, подолгу сидели на ветках, перелетали на пригон, на прясло, а затем снова не показывались много дней. Не вчера ли это было! Горы облаков, куда садилось закатное солнышко, санные обозы повдоль длинной деревенской улицы. И: «Витя, попей молочка, сколько можно в окошко смотреть. Проголодался. Попей молочка». – Это мамин голос.
Он кружил на лыжах у леска за огородами, взбирался на суметы, скатывался. Обошел вокруг деревни: тихо, как повымерло. Только у скотной базы остановился – пахнуло силосом. Хотел свернуть туда, к базе, но увидел с вилами скотника Кондрухова. Тот матерился на лошадь, тянувшую полные навозом сани. Кондрухов не заметил, видно, Витьку, а то бы позвал: айда, мол, сюда! Ну и хорошо, что не заметил, подумал Витька и заскользил домой.
Еще у калитки он услышал, что в доме поют, в доме гости: пришли девки Лохмача. Он пошел к завозне, где возле стенки в конуре из сена жил раньше щенок. И тут он увидел Яремина. Тот взваливал на плечо мешок с рыбой. У раскрытых дверей завозни валялся лом, вывороченный пробой и сломанная задвижка.
– Что вы делаете? – Витька – остановился в нерешительности за спиной звеньевого. Тот выпустил мешок, рассыпал рыбу.
– Тихо, парень, – Игнаха испуганно повернулся, был он пьян, – гостинчики кой – кому потребовались… Ну-ка, пособи собрать, пособи, – добавил он миролюбиво.
– Положи, или я скажу Чемакину… Вор!
– Не кипятись, Витя, все будет в ажуре. Мы гробимся на морозе, а завтра придет трактор, и ту – ту… Увезет нашу рыбку. Думаешь, Чемакин премию даст? Хрен с маслом. Давай, слышишь! Я не на выпивон, понял? Деньги пополам. У тебя вон штанов порядочных нет. Галька оттого и нос воротит….
– Закрой завозню, а то ребят позову, – Витька весь напрягся. Он понял, что Игнаха не отступится, но слова о Гале больно отдались в груди.
– Хочешь, помогу тебе Толькин хребет наломать, живо отступится?
– Ах ты гнус! – Витька с силой схватил мешок и вытряхнул рыбу за порог завозни. В ушах зазвенело от удара Яремина. Он качнулся, но в следующий миг кинулся на звеньевого и головой, как когда-то учил Толя, сбил его в сугроб.,
В доме пели, наверное, Лохмач тянул как попало гармонь.
А у дверей шла драка. Яремин сильнее, и он, поднявшись, следующим ударом кулака мог бы уложить Витьку на месте. Но в злобе он схватил лом. Уже у крыльца лом, пролетев возле Витькиного плеча, ударился в дверь. Витька обернулся, и они сцепились снова, Падая в снег, Витька услышал заполошный крик Галины:
– Витя, берегись!
Нож Яремина, выбитый ловким перехватом Толи, упал рядом, распоров полу телогрейки. На крыльцо выскочил и Лохмач. Долго и остервенело били они Игнаху.
– Вставай, падаль, – прохрипел Толя, сплевывая кровь, когда Яремин перестал защищаться.
Его втолкнули в горницу, связали за спиной руки, усадили на лавку, приставили сторожить Шурку-конюха и Володю.
– Дурак ты, Яремин, – брызгал слюной Шурка – конюх. – Что тебе будет? Посадят в каталажку!
– Заткнись ты, недоносок, – сверкнул узкими глазками звеньевой.
Володя, облеченный доверием, выполнял обязанности караульного серьезно и сосредоточенно, следя за каждым его движением, хотя тот вроде бы и не помышлял ничего худого.
Компания расстроилась, обсуждая события на разные голоса. Она словно забыла о Витьке, который стоял тут же на крыльце, удивленно рассматривая распоротую полу телогрейки.
– Фулиганье у вас тут одно, – наседала на Лохмача гостья в белых чесанках. – Куда ты, Сашенька, меня привел?
Лохмач расшаркивался перед своей еланской подругой, поглядывая на ребят:
– Наденька, дорогуша, не кипятись, как холодный самовар, я тебя не дам в обиду…. Парни, ну что тут стоять, пошли, стол ждет.
– Ты вот что, – остановил его Толя, он был необычайно серьезен сегодня. – Надо до приезда Чемакина что-то сделать с этим гадом…. Ну что, Витя, напугался?
Немножко. – Витьке хотелось заплакать от обиды, от горечи, он сдерживал тугой комок в горле.
– Сейчас мы с Ниной починим твою одежду, – улыбнулась Галина, и он в душе был благодарен ее вниманию, даже не взглянул на вторую гостью, которую звали Ниной.
– Нинок, это Витька, – сказал Лохмач. Наверное, они там уже решили, для кого приехала «Нинок».
В школьном девчоночьем пальто, в нарядном платке и валенках, она и вправду чем-то походила на школьницу, но крупные черты лица, спокойный взгляд делали ее старше своих восемнадцати лет.
– Толя, я придумал, – сказал Сашка Лохмач, – его надо напоить.
– Не понял? Дальше…
– Он и так пьянехонек, зачем еще? – встряла дорогуша Наденька.
– Напоить, – продолжал Лохмач, – а утром – соображаешь?
– Не тяни жилы, Сашка, – Толя хотел сматериться, но в присутствии Наденьки даже Лохмачом его не назвал.
– Утром не дать опохмелиться, – заключил Лохмач.
Это немного развеселило компанию, даже молчавшего все время Акрама.
Через полчаса за столом пели проголосные песни. Витьке сразу налили штрафную в граненый стакан. Он не отказывался, не жеманничал, как Володя. Сашка Лохмач сказал:
– Закуси огурчиком из нашего погреба.
Надя-дорогуша благосклонно кивнула тугим узлом волос, Галина тронула за плечо:
– Выпей, Витя!
Нинок промолчала, внимательно приглядываясь к нему. Толя опьянел уже:
– Заухаживали…
Витька сидел рядом с Галиной, обжигаясь о ее плечо. Она тоже пела, но как-то по-особенному, не надрываясь, как Наденька, с которой катился пот, и она доставала из-за манжета кофточки платочек, аккуратно утиралась, укладывала платочек на место.
Пели самозабвенно, долго. Когда песня кончилась, Наденька вздохнула:
– Как там детушко мое, что делает? Ох, батюшки!
– Мишка в полном порядке, Наденька! А бабке, приеду, благодарность объявлю. Ох и бабка же у нас!
Витька вслушивался в гомон за столом, ничего не слышал и только слова Наденьки о Мишке, которого оставили с бабкой, чтоб приехать в Нефедовку, вернули его к мысли о Яремине.
– Надо развязать звеньевого.
– Пусть посидит, – твердо сказал Толя.
– Ну развяжите, эй! – подал голос из горницы Игнаха. – Никого не трону.
– Испугались тебя, – хохотнул Лохмач, – там тебе Володя лекцию почитает, послушай.
– Акрам, – сказал тише Лохмач. – На подай ему, пусть выпьет.
Наденька встала из-за стола.
– Дай, я сама, – она прошла в горницу, остановилась, подперев крутое бедро. – Развяжите.
Игнаху развязали. Он потер затекшие руки, но с лавки не поднимался.
– Пей, нехристь. Что тебе по-людски не, живется, умрешь когда-нибудь не по-людски, и грачи на твою могилу не прилетят, не то что…
Наденька повернулась в новых чесанках, вышла из горницы.
– Сыграй, Витя, плясать хочу!
Заиндевелый, морозный, вернулся с охоты Никифор. Он принес зайца в петле, бросил его на голбчик.
– Пируете, молодежь!
Его тоже усадили за стол.
Но не было уже того веселья, что наладилось вроде бы снова. Пропала радость застолья, как ни старался растормошить компанию Лохмач. И Толя, возбужденный недавней дракой, подыскивая позабавней анекдота все еще потирал ушибленный кулак.
Старик сообразил, что в доме что-то произошло, потому что в горнице находился Яремин, которого караулил еще в дверях Шурка – конюх, покрикивая то и дело, чтоб тот смирно сидел на лавке, не поднимался.
Акрам что-то пошептал на ухо Никифору и старик удивленно покачал головой.
– Ну, ребятишки!.. Слышь ты, ходя! крикнул старик в горницу, обращаясь к Игнахе. – Выйди-ка в куть!
Игнаха вышел, нервный, раскрасневшийся. Его еще пошатывало. Он побаивался сейчас Никифора, как никого из всех.
И старик, постучав ребром ладони о стол, хмуро произнес:
– Я одним ударом столешницу напополам пересекаю. Понял?.. А теперь ступай. Ступай, говорю, – продолжил он уже спокойно. Может, вспомнил Никифор и себя в молодые годы, не шибко жаловал и он законы, и он бил, и его бивали крепко. Да когда это было?
– Вы-то тоже, лыцари, скопом – на одного! – упрекнул он парней.
Но за столом загомонили, забрызгал слюной Шурка – конюх, Лохмач пытался объяснить, как все получилось, но старик замолчал, думая глубоко и крепко о чем-то своем, недоступном пока молодежи.
12
Закружила, замучила Витьку любовь. Проезжая утром в розвальнях мимо окошек Галины, в которых еще светился ламповый окошек, он с биением сердца всматривался в эти окна. Он различал фигуру Галиной матери. Она то склонялась над квашней, месила тесто, то несла на ухвате чугунок. Галя рано ходила на дойку и чаще возвращалась, когда рыбаков уже не было. Весь день Витька ждал, когда придет вечер и он опять увидит эти окна, а может быть, у Никифорова подворья встретит она сама. Она только улыбается Витьке и подойдет к Толе, дождется, пока дядя Коля отсчитает ему пай на уху, и они уйдут домой.
Толя перешел жить к Галине. Случилось то недавно, после прихода Матрены.
– Хватит по баням шататься, – сказала она при всех, – от людей стыдно. Хочешь жить с ней, возьмем тебя в дом. Запишетесь потом в Совете.
Толя надел бродни, отыскал между ухватов на печи связанные Галей рукавички, ушел к ним в дом.
Витька осунулся, ходил задумчивый, непонятный для ребят – для Володи, Акрама, Шурки-конюха. Но рыбаки постарше догадывались, что происходит с парнишкой. Не приставали. Зато Толе не давали покою. Витька слушал их откровенные мужицкие вопросы и злился. В нем просыпалось временами ревнивое чувство к другу, но оно проходило, когда он видел Галину издалека или в доме Никифора. Они теперь стали заходить в гости. Витьке казалось, что Галя приходит специально для него, просила играть на гармони, слушала, иногда пела. Походило, что ничего не изменилось, все продолжается, как и в первые дни. Оно действительно продолжалось так же, если не считать, что после вечеринки Толя «шел к себе домой». За вечер, пока он занимал компанию анекдотами или банковал в очко, Галина всегда находила причину оказаться в полутемной горнице вместе с Витькой.
– Ты меня скоро разлюбишь, – сказала она однажды ему, обдав горячим дыханием.
– Никогда, – шептал Витька.
– Ты разлюбишь, когда узнаешь…
– Что? Что узнаю? Не говори так, Галя…
– Ты разлюбишь, когда поймешь, что нравишься другим девушкам. Вот так, мой миленький.
Когда он вспоминал эти короткие минуты в полутемной горнице, ловил себя на мысли, что слова Галины льстят ему, его просыпающейся мужской гордости.
После ухода трактора – он вместе с грузом рыбы отвез и выгнанного из бригады Яремина – назначили звеньевым Витьку. Дело было несложное – гнать норило под водой, но Витька про себя гордился, что Чемакин выбрал его из всей бригады. Бригадир привез ему полученный на складе новый полушубок, а на аванс Лохмач в Еланке купил ему яркий шарф, брюки, теплые ботинки. По вечерам теперь Витька с Лохмачом обряжались вместе.
– Это Нинок выбирала тебе барахлишко, – сказал как-то Сашка многозначительно, – по блату у продавщиц в сельпо… Брючки узкие, как и новые рублики. Не – е, не могу я к ним привыкнуть.
– К брюкам? – спросил Акрам.
– К деньгам. Дунул, плюнул – и нету.
Володя оторвался от книги.
– Там думают, что надо делать, – он поднял палец вверх. – За время истории нашего государства уже был нэп, а это, я понимаю, следующий поворот для нового мощного скачка.
– Сиди ты, силософ, – оборвал Володю Лохмач, – проскакал Нинку. Уж вроде на нос тебе повесили. Скакун.
Володя не вступал в конфликты. Он, как и раньше, «ждал более лучшие времена» хороший, добрый, неумелый Володя.
– Там, там, – затягивал он узел галстука. – Там Никифор заячьи шкурки морозит на чердаке. С тебя бы тоже стянуть брюки да подвесить до лучших времен. Скакун.
Витька слушал тогда эту незлобную перебранку и понимал, что Сашкины слова относятся к нему, к Витьке. Но он держал в своих мыслях то, что не знал ни Лохмач и никто из бригады.
Было это на следующий день после драки с Яреминым. Поздно вечером пришел с рыбзавода трактор, и бригада грузила рыбу на сани. Тракторист заявил, что утром рано должен уехать, и Чемакин объявил аврал. Работали весело. Через час сани накрыли брезентом, и трактор, готовый в путь, заглох до утра. Ужинать все собрались в доме Соломатиных, где пожилые рыбаки хозяйничали теперь сами. Витька от ужина отказался, хотелось спать и просто побыть одному.
Он вспомнил, как это было: он занял Толин бывший «плацкарт» возле ухватов, погасил лампу, оставив крючок на двери открытым.
Опять пахло гужами и конским потом от хомутов, опять продиралась сквозь морозные заросли на окнах луна и остывала протопленная час назад железянка.
Она не вошла, а вбежала с визгом и даже криком: «Отвяжись от меня, черт», – и кинулась в горницу. Этот крик и визг поднял Витьку, и в одном прыжке он был на кухне. В «черте» он узнал приезжего тракториста.
– Ну, чего надо?
– Извини, браток, не знал… Думал, что…
– Извини, ухожу.
«Черт» поспешно хлопнул дверью, на которую Витька набросил крючок.
– Ты, Нина! – удивился он, входя в горницу.
– Я… Ой, перепугалась, – она подошла к окошку, – прилип как банный лист, отбою нет. Боюсь я обратно идти.
– Ничего, посиди здесь, – сказал тогда Витька спокойно. Они промолчали, потом она сказала:
– Хочешь, у меня гостинцы для тебя есть, – и достала сверток из кармана пальто. – Это булочки сдобные и конфеты.
– Вкусно, – поблагодарил Витька, – мама такие же стряпала из сеянки. Давно не ел таких.
– Правда? Тогда я еще привезу. Сама стряпала.
– Вкусно, – уплетал булочки Витька. Ему было легко с девушкой. – Нинок? Почему тебя Нинок зовут?
Не знаю, это все Сашка.
– Лохмач?
– Какой Лохмач?
– А-а! Ты не знаешь, – засмеялся тогда Витька. – Потом он сказал Нинку, чтоб она сняла пальто. Она разделась, села рядом, совсем рядом. А он подумал о том, что здесь все девушки очень уж смелые, и вспомнил Галину. Вспомнил с непонятной для него самого легкостью, без привычного уже грустного чувства.
Нинок приласкалась, легонько дотронулась до Витькиного плеча, и грусть вновь наполнила его всего.
– Ну что ты заледенел сразу? Какие вы все здесь ненормальные. Не подступишься.
– Странно ты говоришь.
– А что странного? Думаешь, вот я сама за ребятами бегаю, девушка, и бегаю! А за кем тут бегать – и в Еланке, и в Нефедовке. Вот хоть вы приехали…
– Мы скоро уедем, – просто сказал Витька.
– Правда, уедете? – в голосе Нинка было искренне грустное изумление, но продолжила уже иным тоном: – Жарко… Ребята, наверное, скоро придут.
– Кто их знает! Вряд ли. Новый человек приехал, проговорят до утра. Засиделись мы тут в вашей тайге.
– У, какой ты! Это в Нефедовке скучно. А у нас и клуб есть, приехал бы когда с Сашкой, он хороший, Сашка… С Надей у них все хорошо. Наверно, отстанет он от вашей бригады. Вот так! А ты о Гале переживаешь все? Вижу.
– Какое тебе дело?
– Галя тоже хорошая. Друга она ждала из армии, он не заехал даже. Брат Кондрухова – младший… Толя мне этот тоже не нравится. А она пристала к нему.
– Перестань, Нина, – сказал Витька раздраженно. – Перестань!
Он вдруг неожиданно обнял ее и поцеловал.
– Заполошный ты какой, не подумаешь. Сколько тебе лет?
– Сколько, сколько? Столько же, как и тебе… А теперь иди домой, я спать хочу.
– Не груби, Витенька. Ну куда я пойду? Стучаться к тете Матрене? Они спят уже давно.
– Ну ложись на полу, постелей много, не помешаешь…
– Нет, тогда я пойду, – сказала Нинок, отыскала в темноте свое школьное пальтишко.
Витька укладывался на бывший Толин «плацкарт», чувствуя, что напрасно обидел Нинка. «Ну и пусть! – успокаивал он себя. – Ну и пусть!.. Вот и поговорили!» Он вспомнил давний разговор с Толей: «О чем ты говоришь с девушками, когда провожаешь?» – «Ну, сначала завлекаешь всякими там разговорами…» – «Потом?» – «Потом про любовь и все прочее…»
«Нет, не умею я завлекать…» – думал Витька, чувствуя, как Нинок в полутьме завязывает платок, нервно застегиваясь.
– Нина, – позвал он шепотом. – Нинок.
Нинок плакала. Крупные ресницы вздрагивали и были солоны. Слезинка скатилась по щеке, упала на Витькину ладонь.
– Нехороший ты, – всхлипнула Нинок.
А Витьке чудилось: «Маленький мой, вот и все, мой маленький…»
– Маленький я, слышишь, – сказал Витька, целуя Нинка в щеку.
– Какой ты маленький! Вон ручищи-то какие колючие!
– Это мозоли, от пешни это… Каждый день на ветру, да еще в прорубь суешь голые руки. Задубели.
Пальто, освобожденное от застежек, скатилось с плеч на пол – возле печки. Валенки, наверное, тоже остались там, внизу, где сквозь морозное стекло упал холодный бледный лунный луч. Там, на февральском небе, высыпали предутренние крупные звезды, и луна, повиснув низко над западной околицей деревеньки, жадно засмотрелась в высокие окна, наполнив дом молочным меркнущим светом.








