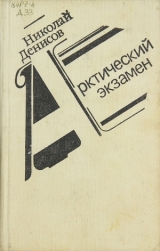
Текст книги "Арктический экзамен"
Автор книги: Николай Денисов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
– Вот-вот, – неопределенно покивала Матрена.
– Оно ить, сама знашь, грамотный у меня Афанасий. Бухгалтером, шутка ли дело, сколько лет сидел. Как поставили ишо в колхозе в контору, так, пока на фронт не проводила, и сидел, а потом опять до последа…
Матрена тоже повздыхала легонько, собрала клубки под стол, как бы извиняясь, проговорила:
– Не советчица я тебе в этом деле, кума. Вдруг что не так присужу. – И прильнула к морозному стеклу, отодвинув тюль. – Видала, христовенький, как выкомаривает, налакался, успел!
– Кто там?
– Знамо кто – Кондрухов. – Будь он проклят. Пока назем утром чистил, вроде ладно шарашился… Ишь как его бросает! На трехрожки наткнется, гляди.
Соседки теперь обе смотрели на улицу, где, выставив вперед себя вилы, стремясь попасть в собственный след, шел ферменский скотник.
– Щас бабенку гонять начнет, бойню учинит на весь белый свет.
– Так убежала от него бабенка-то, ребенчишка замотала в одеяло и третьеводни укатила в Еланку к матери, – сказала Нюра, опять подсаживаясь к столу, на миг позабыв о своей заботе. – Манатки кой-какие собрала да варенья банку.
– Поди-ка ты! Я-то, гляжу, она на улицу не кажется.
– А сам-то просит у меня стиральную машину, которую Валентин нам в прошлом году благословил. Куды тебе, говорю, она же без лектричества не робит? Пристал, как с ножом к горлу. Я, говорит, на базе от движка подключу… Пошла на запарник. А он, лихоманка его затряси, сидит – осоловел возле машины-то. А она визгом заходится, за дверями ишо слышно. «Яшка, – говорю, – ты чё, Яшка?» А он, пестерь, и нити не вяжет. Принюхалась, батюшки! Дрожжами на всю базу несет. «Брагу, – говорит, – с утра заложил в машину, поспела скорехонько». Напробовался уж…
Матрена легонько посмеивается в ответ, морщинки у глаз сбежались веселенькими лучиками. Ее настроение вроде передалось и Нюре. Но та, будто о чем спохватясь, засобиралась, засуетилась, заматываясь полушалком, отказалась от самовара.
– Нет уж, спасибо, Мотя! Какой мне чай, кусок в горло не идет. Вечером посоветуемся с Николаем Антоновичем, башлыком, да с Чемакиным, может, чё и скажут.
Добрую половину дня Нюра Соломатина маялась, обежала всю Нефедовку, посидела еще в трех домах, посудачила с женщинами, но нигде больше не созналась, что засобиралась уезжать к старшему сыну в город. Больше слушала, об чем говорят, больше помалкивала. В одной избе, правда, схлестнулась было спорить с хозяевами, которые заругались на рыбаков, мол, порушат домашнее озеро, перебуртят всю рыбешку, летом на уху не поймаешь. Но в глубь разговора не полезла. Не до них. За полдень приплелась домой, перебрала на полатях лук, вынула, залюбовавшись, нарядную скатерть из сундука, которую давно еще плела и вышивала сама, застелила в горнице стол.
Афанасий нашоркался в ограде по хозяйству, окопал в огороде сугроб вокруг зародчика сена, наколол к вечерней топке печей дров, скатался на санках за водой к речке.
Все шло привычным чередом, деревенька копошилась за своими заплотами – наставала телят, задавала в кормушки коровам сено, вязала носки, ставила самовары, кто-то чистил глызы в стайках, откапывал погреб, чтоб достать солонины. Ближе к вечеру заподнимались над крышами дымы. Да еще проехали двое в розвальнях, вроде бы татары, подхватили возле Никифорова подворья щенка, который зачем-то вылез из будки, дрожал за воротами. Никифор не видел, как увезли Витькиного кобелька, а то бы не дал, только слышал он за подшивкой валенок, как протопала за окном лошадь да гикнул человек, вроде чужой.
Ближе к потемкам, когда Нюра изождалась рыбаков, протирая глазок на окошке, зашла Галина, принесла телеграмму.
– В Еланке была, подали на почте, тетя Нюра.
– Разверни, Галинька, почитай, – испуганно произнесла она и, пока Галина распечатывала сложенный листок, нетерпеливо следила за ее руками.
– Это от Юрки вашего, – улыбнулась Галина. – Тут всего строчка: «Дом не продавайте ни в коем случае».
– Галина что-то поняла, посерьезнела:
– Не разберу никак. Уезжать собрались, тетя Нюра? Почему он отбил так – не продавайте?
– Ой, не говори, девонька!
Нюра расстроенно, но облегченно вздохнула.
6
С утра на многих нефедовских домах запестрели, тиснутые синей краской, листы с биографией кандидата в депутаты Еланского сельсовета Алексея Тимофеевича Батракова. Листов отправили в Нефедовку много, и Кондрухов – ему поручили развесить «наглядную агитацию» – обвешал ими всю деревеньку. Насыпав в карман гвоздей – клею нигде не нашлось, – принялся ходить от дома к дому, присобачив первым делом сразу два листа на свои ворота, пошел приколачивать на соседские. Выходили хозяева: кто, мол, там колотится спозаранку? Застревали перед листами, читая в первый раз, наверное, складно написанную жизнь своего земляка.
Кондрухов выполнял поручение серьезно, деловито, даже важность в нем проглядывалась, походка сменилась, словно выбирать в Совет будут не заслуженного фронтовика Алексея Тимофеевича, а его самого выдвинули на важный пост.
На стук молотка в батраковские ворота вышел сам хозяин и, разглядев свой портрет на бумаге с косяком орденов и медалей на пиджаке, замахал руками.
– Сними сейчас же!
– Не положено, – важно ответил Кондрухов, держа в губах гвозди. – Покрасуйся, Тимофеич. Бравый ты на портрете.
– Сними, говорю… Хоть с моего дома. Что я, артист какой – на афише висеть!
Кондрухов не поддается. Ему нравится сейчас держать верх над управляющим, который не раз его самого костерил и обкладывал принародно и один на один за грехи – их набиралось немало, и каждую неделю.
– А сымешь сам, пришьют тебе политику, Тимофеич, – сунув молоток за голенище валенка, нахмурился Кондрухов. – Надо вон товарищу Чемакину кое-что передать. Эй, товарищ Чемакин, – кричит он шагавшему на Никифорово подворье бригадиру. – На минутку подойди-ка.
Батраков растерянно смотрит на скотника, пока Чемакин подходит, застегивает на все пуговицы накинутую второпях тужурку. Он, как-то смущаясь, подает руку, загораживая спиной «наглядную агитацию», но Чемакин понимающе подмигивает.
– Я уже ознакомился. Выходит, скоро в Еланку поедем голосовать? Праздновать будем, или как?
– Праздновать нашим только дай! Вот хоть этому стерху, – без энтузиазма отзывается Батраков. – Когда за Валентиной-то поедешь? Или мне опять жеребца запрягать да сватать ее заново? Ребенчишка бы пожалели, а то устаканиваете оба концерты бесплатные!
– Ну не ругай его, Алексей Тимофеевич, – вступился за скотника Чемакин. – Работяга мужик.
– Вот, вот. А доброго слова не услышишь, в район не могу вырваться, день и ночь на базе.
– За какой холерой тебе в район?
– Мало ли: зуб хотел поставить, а то свишшу бегаю без зуба, неловко.
– Ладно, вставим тебе золотой зуб. А Валентину верни домой… Зачем Пантелеича подзывал?
Кондрухов встрепенулся, опять входя в свою роль, которую он не без успеха начал спозаранку.
– Велели, товарищ Чемакин, гнать тебе в Совет, списки там составляют на выбора.
– Сами не могли сюда приехать?
– Не знаю. Мое дело передать.
– Надо, выходит, съездить, – решает Семакин. – Заодно посмотрю, как живут там, куда Лохмач наш повадился бегать ночами.
– Как живут? Хорошо живут. Хлеб с маслом жуют. Вечером картошку сажают, утром выкапывают, – усмехнулся чему-то Батраков. – Да случай один рассказывали, вроде анекдота. Приезжает туда после войны один уполномоченный и спрашивает: как живете? Ну, ему и отвечают: утром, мол, выкапываем! Это почему же так скоро? Так утром-то есть хочется… Рыбка-то идет на Белом? – потушив улыбку на обветренном лице, интересуется Батраков.
– Ничего, ловится. Поневодим пару дней, да на другие озера пробиваться надо, – говорит Чемакин.
Это хорошо… хорошо, – непонятно что одобряя, хмуро произносит Тимофеич. – Ладно, мужики, пойду я чай пить, может, за компанию, а?
Чай пил Чемакин у молодежи. Он застал парней за завтраком и легонько пожурил: крепко, мол, спите, пора уж в санях сидеть!
– Паспорта у всех с собой? А то на выборы скоро в Еланку поедем.
– На выборы. Это мирово, – затряс шевелюрой Лохмач.
– Хык, обрадовался, – осадил его Акрам. – С волчим билетом туда не допускают.
– Как перелобаню!
– А мне как быть? – не вытерпел Витька. – Мне еще полгода до восемнадцати.
Дружно засмеялись.
Через час Чемакин был в Еланке – центре обширного совхоза. Первым делом подвернул к дирекции – передать просьбу Батракова, чтоб прислали побыстрей трактор с санями на подвозку сена для фермы. Долго пытался дозвониться до рыбзавода, но так и не добился разговора, кинул трубку на рычаг телефона, над которым пылал боевитый лозунг еланских животноводов, отважившихся догонять по молоку Америку. Нашлась еще причина забежать в сельмаг, исполнить наказ Нюры – купить пузырек уксусной эссенции для пельменей, но эссенцию разобрали, и Чемакин, чтоб не выходить из магазина с пустыми руками, взял два кило глазированных пряников, с каменным стуком ссыпав их в холщовый мешочек.
Еланка выглядела оживленней и веселей. Грохотала на столбе возле почты кастрюля громкоговорителя, пролетел колесный тракторишко с прицепом, груженный перегноем, – торопился, видать, к полю, на будущую кукурузную плантацию. Вешали возле клуба фанерную афишу, а Чемакин, придержав коня, пригляделся. Шло «Чрезвычайное происшествие» – фильм, который он смотрел еще дома, и подумал, что неплохо бы бригаде дать отдых, отправить ее на вечер сюда, пусть культурно развлекутся.
В Совете, над которым расправлялся свежий флаг, он управился скоро. Моложавая женщина-секретарь полистала паспорта, внесла фамилии в списки, выдала прикрепительные талоны.
Он еще собирался завернуть в узкий проулок между огородами, что вел к озеру, мерцающему отблесками вспыхнувших на низком солнце сугробов, но, спускаясь с крутого крылечка бывшего кулацкого дома, приметил вороную бригадную кобылку. По улице во весь дух гнали Лохмач с Анатолием. Чемакин напряженно замер, молниеносно соображая, что же могло приключиться в бригаде, коль звеньевой прискакал за ним следом, и, хлопая калиткой, выбежал за ограду.
– Стойте!
Лохмач, прежде чем осадить кобылку, ожег вдоль спины чью-то истеричную собачонку и, не выпуская из рук кнута, выпрыгнул навстречу.
– Худо дело, бригадир… Председатель на месте?
– Да объясни толком, что случилось?
– Обожди, бригадир… Пошли до председателя. – Полушубок у Лохмача, как всегда, нараспашку, космы из-под шапки, как солома из худого мешка, торчат. – Пошли… Перины распорю, пух из подушек вытрясу, а найду гадов, в рот им дышло!
Толя тоже возбужден, мнет рукавички, но сдерживает свой пыл.
– Невод ночью изрубили, – проговорил он. – Следы вроде как сюда вели. Мы уж там всю Нефедовку перелопатили. Мордовороты!..
– Вот это «Чрезвычайное происшествие»! – едва не присел Чемакин. – Кто изрубил? – но тут же понял несуразность своего вопроса. – Невод! Сильно порушили?
– Местах в пяти рассекли…
– Действовать надо, что мы остолбенели? Ну что мы остолбенели? – не может успокоиться Лохмач, нервно стуча черенком кнута по голенищу бродня.
Перепугав до смерти секретаршу, Лохмач увлек за собой бригадира и Толю, ввалились в помещение, смахнув морозным ветром ворох бумажек со стола, заскрипели рассохшимися половицами, заглядывали в комнаты, словно еще раз пытаясь удостовериться, что власть в лице председателя и участкового милиционера действительно уехала по важным предвыборным делам в дальнее отделение совхоза.
Потом опять погнали по улице. Чемакин никак не мог забрать инициативу в свои руки, понукал только свою лошадь, стараясь не отстать. Остановили пожилого охотника с лыжами на плече.
– Откуда топаешь? – накинулся Сашка Лохмач. Толя, как бы подстраховывая, забежал сзади. Но охотник не напугался, хмуро поднес к Сашкиному носу заскорузлый кулак, и Чемакин, натягивая вожжи, прикрикнул:
– Ну-ка, вы, обормоты! Отстаньте от человека!
Обормоты отстали. И охотник, не оглядываясь, затопал дальше по улице, наверно, устал – возвращался из лесу, спозаранку насторожив ловушки.
Но надо было что-то делать все же: носиться по улице чужого села на диких конях, от которых шарахались бабы, с удивлением оглядывая странное снаряжение Толи, который как был на озере в гусе, так и пал в розвальни, когда Лохмач помчал за бригадиром.
Надо было что-то решать, и Чемакин дал команду ворочаться в Нефедовку.
– Заверну на пару ласковых к моей дорогуше, – не послушался Лохмач и раскрутил над головой вожжи. У ворот кряжистого крестового дома, крытого позеленевшим от старости тесом, бросил вожжи на руки Толе, пнул ногой калитку, она распахнулась во всю ширь, нырнул в сени. Двое, принужденные ждать, топтались молчаливо у заплота, от нечего делать проверяли упряжь.
Наконец Лохмач вылетел из сеней, недовольно бубня под нос, вслед ему нарисовалось в окне морщинистое лицо старушки.
– Ну и как? – брякнул из-под гуся Толя.
– Нет дорогуши дома, А старушек я не обижаю…
Обратную дорогу Сашка Лохмач помалкивает. Задумался. Сник. Не узнать Лохмача. Не говорит и Толя, привязав вожжи к передку розвальней. И кобылка сама трусит за санями Чемакина.
А Сашка Лохмач терзает себе душу. В первый раз, может, терзает: легко привык относиться ко всем невзгодам. Как сказать, может, и напрасно изводит себя, да тут уж ничего не поделать, потому что склонен он сегодня часть вины на себя взять за свою трепологию перед еланской подругой. Ладно бы перед одной подругой, а то в доме насобиралось тогда народу разного – с пекарни женщины, где подруга заведует, мужчины соседские, старикана с развесистой бородой прибило на вечеринку. Сашка трепался полвечера, как он с геологами блудил по тайге, нефть искал, да какую хорошую зарплату получал. Намолол черте знает о чем – про быль и небылицы, перескакивал с пятое на десятое. Оттого, наверное, и не соглашались верить ему посидельщики. Ну тогда он начал хвалиться рыбацкой бригадой, как загребают на Белом тоннами. А когда загребут сколько положено, в Еланку перемахнут, тут, мол, надо тоже шмон навести. Дед почесал еще в бороде, собираясь вроде возразить, но так и проглотил слова, угощаясь Лохмачовой «беломориной».
Вот и думает Сашка сейчас, вот и терзает душу: с перепугу-то, наверное, и решились еланские на такое! Потянуло же ляпнуть не подумавши. Ведь ни Чемакин, ни башлык дядя Коля не заикались о еланском озере. Наоборот, как ни хотелось Чемакину кидать людей в другую глухомань, а напоминал – недолгие, мол, гости в Нефедовке!
Терзается Лохмач, откинувшись на спину, долго смотрит в холодную глубь неба.
– Постой, – встрепенулся он.
– Стою, хоть дой. Что тебя дергает? – нехотя откликнулся Толя.
– Может, специально след запутали, а?
Толя опять подумал, что нельзя сегодня выпускать Лохмача из рук – наломает дров сгоряча, оттого и пал к нему утром в розвальни.
Лошади вынесли на крутой косогор, с которого открылась обширная даль синеватой тайги – со всеми провалами и взгорками: то с густыми островками кедрача, то словно разбегающимися в одиночку, да так и застрявшими среди болот голыми сосенками, где и снегу не за что зацепиться – так неказисты и чахлы собой.
С косогора – минуты езды до Нефедовки, но все равно, будь у рыбаков другой настрой в душе, непременно бы придержали коней, засмотрелись бы, удивляясь простору, на который взглянув хоть на миг, нельзя не задохнуться от нахлынувших чувств, от синевы и раздолья заснеженной родной земли, что присудила им вдоволь всего, что отпущено человеку на этом свете.
А Нефедовка, украшенная батраковскими предвыборными портретами, как ни в чем не бывало встретила брехом собак, редкими, угасающими к полудню струйками дыма над трубами да еще пытливыми взорами из-за оконных занавесок. Как водится во всякой деревне, хозяевам надо обязательно удостовериться: что там за человек проезжает по улице?
И Нефедовка, угрюмо и недвижно придавленная высокими крутыми крышами, застегнутая на все створки ворот и калиток, на этот раз показалась рыбакам настороженной и мрачной. Никто не встретился на улице и у ворот, от которых еще утром откидывали лишний снег, в который уж раз за зиму пробивая в сугробах глубокие траншеи.
Тихо в Нефедовке. И Чемакин, глубоко расстроенный случившимся, неожиданно подумал о том, что не видать на улице и мальчишек: уж им-то нипочем никакие лихие заботы, не удержит и мороз, дай только сорваться из дому. И он впервые для себя обнаружил, что и в другие дни не видел у дворов обычной возни пацанов. Да и в домах, где расквартированы рыбаки! Это неожиданное открытие настолько поразило бригадира, что он на какое-то время позабыл о неводе и о том, что теперь бригаде сидеть несколько дней без работы, пока не починит снасть. И пока Егренька трусил до Никифорова двора, он размышлял о Нефедовке, заселенной когда-то крепким сибирским народом, а вот теперь доживающей, наверное, свой век, и, если не случится чего-то необычного в ее судьбе, с годами она совсем заглохнет.
За годы бродяжнической рыбацкой жизни Чемакин не раз встречался с такими вот угасающими деревеньками, похожими на согбенных старцев, которые, еще, кажется, вчера по-детски, с любопытством смотрели на мир широкими окнами домов и вот неожиданно потеряли интерес к этому миру, сразу загрустив и состарившись. И всякий раз он глубоко переживал их судьбу, которая неудержимо катилась к закату, и только, как надежда на будущие перемены в этой судьбе, цеплялись за свои дома и пригоны жилистые деревенские деды, не хотели уезжать в города к сыновьям или переселяться на центральные усадьбы хозяйств, что непомерно разрастались, поднимая у околицы шиферные и железные крыши животноводческих хоромин.
Сам Чемакин вырос в пригородном рыбзаводском поселке, из которого, кроме как на службу в армию, почти никуда не уезжал. Поселковые жили по-деревенски, садили огороды, имели маломальскую скотину, и Чемакин по праву считал себя сельским жителем. А в эти годы, как ушел из милиции с должности поселкового уполномоченного, он совсем привык к деревне, полюбил простой и крепкий сельский уклад, за которым чувствовалась старинная основательность сибирского охотника и землепашца. И вот этот уклад сдвинулся, и Чемакин, понимая неизбежность этого сдвига, еще жалел о том времени, когда деревни кипели по ночам гармонями, а на городском базаре сельские мужики и бабы бойко, без ложной стыдливости торговались с покупателями, нахваливая свои припасы, которым не хватило места в погребах и кладовых.
Он думал сейчас и о том, как должен поступить, поскольку случилась в бригаде беда, а виновны в ней, конечно же, кто-то из нефедовских или еланских жителей, но не мог дать себе ответа. Не мог поверить, что кто-то из близких, с кем свела рыбаков судьба в этой деревеньке, мог решиться навредить бригаде. И хотя он не осуждал Лохмача, которому первому пришла мысль заявить в сельсовет, все же неожиданно для себя почувствовал облегчение, когда ни председателя, ни участкового на месте не оказалось.
А как объясняться на рыбзаводе?
Встретили их Никифор и Витька, который только что прибежал из леса – тоже искал следы. Но следов в это утро оказалось много в окрестности – наследили уже сами рыбаки, безуспешно блуждая по тайге.
– Ну что, дядя Ваня? – кинулся Витька к бригадиру, но тот не ответил, подходя к неводу, в беспорядке сваленному у забора.
– Перины распорю! – опять загорячился Лохмач, но Никифор сурово глянул на звеньевого, тот сразу примолк, помогая Толе распрягать кобылку.
– Что скажешь на это, Никифор Степанович? – спросил старика Чемакин.
– Чё тут рядить? – буркнул Никифор. – Сикось-накось, инкось да витясь и касаясь каких-нибудь вещей, оно, конешно, неладно… Ну, я соображаю, что могли и наши, а могли и не наши. Утворили, словом.
– Что-то ты замысловато, Никифор Степанович? – недовольно поморщился Чемакин.
Витька, он беспокойно прислушивался к разговору старших, посмотрел на старика, как на полоумного.
– Нет, пошто замысловато? Сам хорошенько задумайся, Пантелеич. Тебе решать – судить ли, миловать ли? Ты все же должностное лицо… Но будь я помоложе, скажу по совести, сам бы поступил, как те ухари.
– Ну спасибо, Никифор, за откровенность, спасибо, – опять помрачнел бригадир. – Я, пожалуй, съезжу на озеро сам, посмотрю своими глазами.
– Чё смотреть? – проговорил старик. – Вот она снасть, любуйся.
– Нет, все же съезжу…
– Я с вами, дядя Ваня! – попросился Витька.
В дороге Чемакин опять задумался, лениво понукал Егреньку, и умный конь, которому досталось уже отмахать более десяти верст, привычно бежал знакомым путем.
Чемакин понимал, что он, бригадир государственного лова, обязан до конца быть твердым и последовательным, «гнуть свою линию» – выполнять волю рыбзавода. По этой «линии» он, представитель завода, обязан помочь скорректировать будущий план предприятия. И он знал, что доложит честно: есть на Белом рыба! И что будущим летом завод пришлет сюда крепких ребят с карабинами – рыбоохрану, которая выдворит с озер нефедовских и еланских мужиков со всеми их сетями и ряжевками, что кормили еще и их дедов и составляли, может быть, весь смысл жизни в этом урманном захолустье. Так случилось уже в других местах, и Чемакин всякий раз глубоко воспринимал это с чувством виноватости.
Из задумчивости его вывел Витька, он сидел рядом, прислушиваясь к ритмичному поскрипу полозьев.
– Дядя Ваня, зачем они так с нами? Мы тут договорились с парнями, что все равно отыщем бандитов.
– Ну – ну, Виктор, – усмехнулся бригадир, – так уж и «бандитов».
– А как иначе? Правда ведь на нашей стороне.
– Правда? – встрепенулся Чемакин, пытливо посмотрев на парнишку. – Я вот сам никак не пойму: на чьей она стороне, правда? В твоем возрасте, конечно, у правды четко обозначены границы. А как покрутит – помелет тебя жизнь, начнешь задумываться. Правда, она всякая бывает.
– Ну и какая ваша правда, Иван Пантелеевич? – нахохлился Витька. – Потакать бандитам?
– Ну беда! Опять его голыми руками не бери! Ты где рос, не в деревне разве? В деревне. Чем у тебя родители занимаются? Наверное, отец механизатор?
– Все равно, дядя Ваня, – перебил Витька.
– После работы, наверное, сети на озере ставит?
– Да некогда ему…
– Тогда другие…
– Правильно, у нас деревня большая, и озера сразу два, лодка у каждого есть.
– А в Нефедовке? Тут та же история. Старичонки себе летом на уху ловят, ну продадут соседу ведро рыбы – так ведь соседу, не чужому дяде с другой планеты. И мы их, понимаешь, начинаем подрубать под корень. Устои, Витя, нарушаем, что веками сложились здесь. Вот что меня беспокоит, да разве одного меня… Что, ты думаешь, будет на Белом после нашей разведки? Культурный водоем рыбзавод организует, а старичкам скажут: не смейте ловить, это государственное. Попрут наших старичков.
Витька удивленно посматривал на бригадира: никогда еще никто не заводил с ним подобных разговоров. Сердцем почувствовав справедливость слов Чемакина, он силился осмыслить противоречивость его суждений, никаким образом не вязавшихся с представлением об их деле, которым, терпя лишения, занимается бригада.
– Только ведь и мы ловим для людей, а значит, для страны. Чем больше поймаем, страна богаче будет.
– Ну, а разве дед Никифор, Афанасий Соломатин, а скотник Кондрухов – не страна?
Егренька перешел на шаг, и спорящие в розвальнях не обратили на это внимания.
– Ну, дядя Ваня, – продолжал удивляться словам бригадира Витька. – Задали вы мне задачу! Нелегко вам, наверное, работать с нами!
– А она, задачка-то, и для меня не из простых… Недавно я узнал одну любопытную деталь: на внутренних водоемах рыбаки наши вылавливают что-то около трех миллионов тонн рыбы. За точность не ручаюсь, но интересно, что половину этих тонн добывают частники вроде Афанасия Соломатина. А мы хотим отлучить Соломатиных от исконного промысла. А дети наши и совсем забудут, чем отцы занимались. Да – а. Душа болит, Витя… Отлучить – значит, сколько потерять рыбки, что имеет сейчас государство? Это-то тебя должно убедить, юноша!
– Да, Иван Пантелеевич! Такого вы мне наговорили сегодня!
– Ничего, – спокойно сказал Чемакин. – Я ведь понимаю, плохого за душой у тебя еще нет, так что постигай, думай. Много еще синяков соберешь, наушибаешься вдоволь, да лучше пораньше, в эти годы… Пошел, – прикрикнул он на коня. – Между прочим, Соломатины-то уезжать собрались.
– Да-да, – не понял Витька последних слов бригадира, отвечая невпопад.
И опять двое в розвальнях углубились в раздумья. И так ехали, пока конь не вынес их на широкую равнину озера – голого и отчужденного.
7
Затаилась, замрачнела Нефедовка, чувствуя и вину, и неловкость перед рыбаками. На улице при встрече с приезжими бабы, надвинув платки, не глядят парням в глаза. Те на двух подводах возят на ферму сено. Егреньку и вороную кобылку Чемакин с Анатолием погнали на завод, погрузив порубанный невод. Сколько они проездят, неведомо. Как там решат на рыбзаводе: новый дадут иль придется ремонтировать свой? А ремонт одним днем не обойдется.
Перед отъездом Иван Пантелеевич Чемакин, внешне спокойный и сосредоточенный, встретив хромавшего к базе Батракова, сам предложил использовать на подвозке сена своих лошадей и незанятую молодежь – нечего, мол, им дурака валять, пусть поработают! Батраков сильно обрадовался, потому что трактор с санями из Еланки все не шел, а возле базы осталось сена всего ничего – стожок, который восемьдесят коров сметут за три дня.
– Я ребятам и наряды выпишу, – сказал, благодаря, Батраков. – Ты уж не обижайся, Пантелеич, сам маюсь: кто бы это мог? Не одни наши утворили…
– Что теперь! – успокоил его Чемакин. – Дело понятное. В прошлом году на Большом Подрезном наши тоже неводили, так всю снасть с инструментом ночью в майну побросали местные мужики. Те, правда, предупреждали: не лезьте, мол, на домашнее озеро! Да и правда, мало полевых, таежных! А тут промысловики давай тоннами черпать. Мужики в сельсовет, в райисполком, да куда там – озера-то все рыбзаводские…
Батраков похромал дальше. А Чемакин, кинув в розвальни тулуп, дал Толе команду трогаться.
– Туды вашу махры! Но! – присвистнул Толя и свернул кобылку за огороды, к лесной дороге.
Затаилась Нефедовка. Одному Лаврену Михалеву горя мало. Блудит, скрипит тросточкой, отбиваясь от собак, баламутит народ.
– Пелагея, – стучит он тросточкой в один ставень, – выйди, Пелагея, дело есть!
Выходит женщина, на плечи жакетка наброшена.
– Чё понадобилась?
– Не видала, тут теленок не пробегал – на веревочке, красненькая шейка?
– Какой теленок! Каво собираешь, бесстыдник старый! – и хлопает за собой дверью.
– Не глянется, – скрипит по снежку Лаврен и идет дальше. Он свернул бы к Никифору, посидели бы по-стариковски, но нет сегодня Никифора, с утра угрюмо наладился в лес, подпоясался патронташем, только его и видели. Парни – постояльцы не приставали с расспросами, под руку охотнику вопросов не задают, да и сердит был дед.
Не хочется Лаврену и на базу шлепать, где в тепле кормозапарника собирается кое – какой народ и можно скоротать часок за разговорами. И Лаврен топает домой. Дома старуха да постоялец Игнаха Яремин, колготной мужик, неприветливый, но деться некуда, и ставит Лаврен тросточку в угол у крылечка.
Игнаха сидит на голбчике подполья, обрабатывает на круглой деревянной болванке ондатровые шкурки. В ногах стоит тазик, где кровенеют ободранные тушки зверьков с длинными, похожими на плоский подпилок, хвостами.
– Пакость какая, – морщится Лаврен, проходя в передний угол. – Как ты, Игнатий, не брезгуешь?
– Ничё, ничё, – бурчит Игнаха. С вечера, пока рыбаки совещались у Соломатиных, как быть с неводом, он успел до густой темноты расставить на озере по примеченным хаткам капканы. И теперь носит добычу. Где он взял капканы, Лаврен и додуматься не мог, да уж где-то раздобыл.
– Говорят, американцы в пищу их потребляют, – Лаврену хочется завязать разговор, но Игнаха сосредоточен, боится проскрести ножом шкурку.
– Да – а, – опять скрипит на лавке Лаврен. – Не те охотники пошли, все норовят, что поближе лежит, взять. Птицу перехлестали, одно название – птица. Летит, понимаешь, чирок, мозоли под крыльями набил, а в него стволов, как на Орловско-Курской дуге. И палят, и палят!
– А ты-то, Лаврен, тоже, поди, охотник? – оживился Игнаха.
– Случалось, как же! Раньше, бывало, птицу связками носили. Несешь пару гусей, как пару баранов.
– Не плети! – не выдержала в горнице старуха.
– Было. Помню, как сейчас: торкнул я на Тургановом болоте из обоих стволов, да как пове-ел, чтоб ты думал? Полтабуна положил. Остальные подранками в широкопер пропадать пошли. Вот какая охота была! А этой пропасти не знали, экова дива!
Который уж день подначивает на разговор Лаврен своего постояльца, хоть и сроду вроде в охотниках не ходил и был к охотничьим заботам равнодушен. «Никаво собирает», – укоряет Лаврена старуха, но Игнаха только глазками посверкивает, напяливает на досточки шкурки, на печь, на полати расстанавливает сушить. В доме пропахло поганым, старуха поварчивает: дал бог жильца. Собаки у ограды дежурят, весь заплот изжелтили, ждут, когда Игнаха выбросит в огород теплые тушки.
Лаврену неожиданно привезли шитье из дальней деревни, он брякает на ножной машине. Игнаха табак смолит, с тушками зверьков возится. Вдвоем и коротают долгие вечера. Слышат, как бригадная молодежь, наворочавшись вилами за день, поздно вечером из Еланки, из кино, возвращается с песнями.
– Никифор прознает, что ты, Игнат, озеро шевелишь, добром не отвертишься, – замечает Лаврен, пришивая рукав полушубка, что завез шофер молоковоза.
– В гробу я видел, – огрызается Игнаха. – На наш век всем хватит.
– Хватить-то хватит, а ты добром. Никифор караулит озера, ждет, когда зверек расплодится. За ним они записаны…
– Продашь, что ли?
Швейная машинка опять стучит глухо и сосредоточенно. Потрескивает тесьма в лампе, надо снять нагар, а может, керосину долить, знать, сухо в лампе-то.
Утром Игнаха ни свет ни заря вострит лыжи, опоясывается ножом, кидает в рюкзак кусок хлеба и банку тушенки и бежит со двора. Колготной мужик. За огородами, за пряслами сразу тайга. Там Игнаха наторил уже лыжную тропу и даже в потемках бежит легко, не опасаясь выхлестнуть глаз веткой, напороться на острый сучок. Ружья у Игнахи нет. Охо – хо! Где оно, ружье – фузея двенадцатикалиберная? Да и не нужно оно, ружье. Штыковая лопата да нож на поясе – лучшее снаряжение для ондатролова. Стылую камышовую хатку зверьков разрубить, чтоб канкан насторожить на порожке в теплую лежку, камыша для обогрева насечь да, неровен час, законнику – нештатному инспектору пригрозить – нет лучше штыковой, наточенной рашпилем лопаты.
Ходко бежит Игнаха. Утренние звезды повылущивались на морозном небе, кособокий, истаявший месяц одичало посверкивает в редничке. Опушка близко. Вдоль опушки еще верста и – озеро, где недавней ночью чьи-то шальные головы порушили топорами невод. Поначалу Игнаха вместе со всеми горевал, даже вызвался настичь и отвинтить те головы, но Чемакин остудил пыл не только Игнахе. И вот теперь Игнаха, словно бы опомнился, взялся за «предприятие», не исполненное тогда в заказнике. Он уже давно признал в Лохмаче того парня, что выторговал у него на толкучке за «кусок» шапку, но Лохмач вряд ли помнит, кому он всучил бешеные деньги, чтоб оказаться у геологов «в полном параде». Не помнил, а то бы расчувствовался: «земляк». Полез бы обниматься, а скорей бы фонарь Игнахе повесил. Игнаха осмелел. Побаивался он только деда Никифора. Себе на уме старик.








