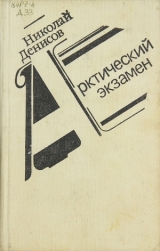
Текст книги "Арктический экзамен"
Автор книги: Николай Денисов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
– Любила?
– А что? Любила! – сказала она с вызовом. – Давай твой кофий пить.
В громоздкую надстройку станции то и дело наваливался порывами ветер, и было слышно, как со свистом полоскается в воздухе возле рубки пружинный клинок антенны и со скрежетом проворачиваются в клюзах массивные якорные цепи. Виктор поднялся, посмотрел на реку: творилось светопреставление! Он видел, как, зарываясь в воду, упираясь изо всех сил, шла к грузовой пристани самоходка, вдали боролось с волной другое суденышко и одинокая чайка, отважившаяся в эту пору лететь на кормежку, никак – не могла управиться против ветра, нацеливалась опуститься на полубак станции, осыпаемый дождем и брызгами.
– Погодка сегодня!
– Как на берег доберемся? Катер пришлют?
– Домой хочется?
– Не знаю, Витя.
– Тогда в Арктику поплывем вместе. Или на астраханские арбузы? Ронжина катапультируем на сушу, а тебя электриком зачислим.
– Шутишь, Витя. Никуда я не поплыву. Трусиха я, Витя…
Откровенный и спокойный разговор, без недомолвок и ненужной настороженности, как в первый вечер на корме, все не выходил. Ей казалось, будто что-то томит его, сковывает, а она видела, что он совсем не равнодушен к ней, еще оставалась ниточка, соединяющая их с прошлым, да что прошлое! Разве она «серая мышка», совсем наоборот, красивая, и ей хотелось, чтоб он сказал об этом, ведь умел говорить когда-то…
Она подумала, что завтра пройдут экзамены, а там уж нет оснований задерживаться на судне, разве что – погода! Но что погода! Ронжин, как начальник, постарается умыкнуть ее подальше от «Северянки». Вот тщится человек!
Через неделю – две, может быть, забудет и о*б этой встрече – встрече с прошлым. Было, утекло и не повторится. Вздор, бабья слабость. Разве можно на что-то надеяться, желать лучшего? Дома, как говорится, полная чаша. Живой воды нет. Муж солидный, с положением. Живой воды…
Она вдруг поднялась, полушубок скатился с плеч, дохнув накопившимся под ним теплом и уютом, подошла к зеркалу. Легонько коснувшись расческой волос, поправила завиток, воздушно задела пальчиками темный локон, оценила еще раз, обернулась, просторно, во все глаза посмотрела на Виктора.
– Красивая ты! – произнес он. Он любовался ею, и это было видно: любуется! Она знала, что сегодня она особенно красива – в обтягивающем свитерке, в джинсах, специально оделась, боже мой, только заметил! Но все равно было хорошо, что заметил и говорил, приближаясь: – Красивая ты, Нина…
12
Толпятся у двери канцелярии, за которой в торжественности и тишине сидит экзаменационная комиссия. Надо же, какая «серьезная» процедура!
Но парни побритые, наодеколоненные. Пятница, тот вовсе в черном костюме, в лакированных полуботинках, как на дипломатическом приеме. И библиотекарь нашел повод зацепить Ваню:
– Дай поносить галоши, Пятница?
– Чтоб у тебя повылазило!
– А где наш дед? – растерянно спрашивает Миша Заплаткин, словно ему действительно вынь да положи Глушакова, которого с некоторых пор за глаза называют «дедом». Не всем пока известно, что на морском жаргоне «дед» – это старший механик на судне, но Глушаков – дед хотя бы по старшинству. Так и укореняется постепенно – «наш ял», «наш гимн», «наш дед». Обрастает братва привычками!
– Дедуня-то, – протяжно говорит Вася, – в люди выбился.
Тут дверь приоткрывается, выглядывает Борисов:
– Ну, кто самый смелый? Давай по одному.
Гена Бузенков зашагивает в приоткрытую дверь, и парни успевают рассмотреть «комиссию» во всем ее великолепии. Ронжин, сухой и костлявый, он, кажется, еще больше усох за эти дни, в центре стола с ведомостью, вертит пальцами авторучку. Нина Михайловна, Нинок, по правую руку от него, в строгом костюмчике, прическу взбила, цыганские глаза подвела тоненькими стрелками. Красивая, жуть. И дед сидит, посверкивает лысиной. Наконец-то снял свой тренировочный костюм, вырядился тоже.
… – Ну, а если тебя током звездануло? За оголенный провод схватился? – наседает Пятница на Васю.
– Отмечай командировку и своим ходом – на кладбище!
– Брось, Витя, какие тут шуточки!
– Кока не бить, Вася.
Вылетает Гена, и заходит Вова.
– Ну как, Гена?
Бузенков кивает, мол, сдал и летит зачем-то в рубку, только ступени разговаривают. А Виктор рассказывает парням, как сдавали экзамены по зарубежной литературе в институте:
– Преподаватель у нас был: один внешний вид что стоил – красавец, эстет, а как начнет материал излагать, уста медом сочатся, глаза закатывает от удовольствия, так любил свое великое средневековье! «Гаргантюа… Пантагрюэль… Рабле…» – все на французский манер, с носовыми гласными. У заочников душа незабудками цветет, глаза медовые тоже и конспекты писать забываем. А он в конце особо сладкозвучных фраз даже на шепот переходит: в раю, да и только! Тут с заднего ряда ему, как обухом по темечку: «Громче, не слышно!» Аудитория неожиданно покатывается от смеха. Щека доцента розовеет: «Что вас интересует, студент?» А тот – с невинностью: «Виктора Гюго тоже сдавать будем?» Рубанул по рабоче – крестьянски на свой лад – с ударением на первом слоге, убил великого француза начисто, да и доцента тоже: «Как фамилия, студент?» Где ему помнить фамилии заочников? Наш друг пролетарский, он, между прочим, Леня, твой земляк, из Севастополя, голову втянул – завтра «зарубежку» сдавать…
– Ну и завалил?
– На другой день стоим вот так же под дверьми: кто сдал, кто не сдал, ждем, когда наш друг билет потянет. Не помню, что там ему попалось, но вышел сияющий и злой. Да я, говорит, да не сдам…
Доцент наш, конечно, устроил ему экзаменовочку. А скажите, говорит, отрок, чем отличается сервант от Сервантеса? Наш друг не будь дураком и врезал ему: а тем же, чем Расин от Россинанта! Ушлый был, начитанный, а вот на французском произношении погорел ни за копейку… Да. Все сдадим, братцы!..
Бодрится он что-то сегодня. Но на душе у Виктора хорошо. Парни такими славными, интеллигентными выглядят. Умными, добрыми… И дурная погода не влияет. Всегда в общем, артельном деле – экзамены тоже артельное дело! – братва на глазах преображается, каждому хочется уважать друг друга и поклясться в дружбе на веки вечные.
Вот совсем недавно было жарко, на реке – полный штиль, и вечерами парни смотрели с тентовой палубы, как долго не гасло солнышко, ало светилась и горела вода, и они сходились и пели. Виктор выносил баян, пристраивался на раскладной стульчик, и хоть получалась не бог весть какая стройная мелодия, но зато – пели. Как пели! Моторные лодки, а их здесь – эскадрильи, наверно, у всякого уважающего себя северянина есть «казанка», проносились с виражами по тихой воде с каким-то особым шиком, словно играли в подкидного со смертью, едва не задевая борта «Северянки». С лодок махали руками, и индейские возгласы приветствий заглушались ревом «Вихрей», но все равно отрадно было видеть эти картины. И забывалось наэлектризованное раздражение: торчание на рейде без информации о завтрашнем дне, без грошей в карманах и даже без «отеческой» заботы начальника, который не показывался на борту слишком долго.
Но гасло наконец светило, и сизовато – белесая паутина сумрака повисала над притихшим Полярным кругом, над рубкой, над шпилем единственной мачты, где мерцал топовый огонь. И еще один огонек теплил Виктору душу: напевшись, он шел в каюту, зажигал свечку и долго еще читал или писал в дневнике о впечатлениях утонувшего за Ангальским мысом дня…
Вот подошла и Виктору пора отвечать на вопросы комиссии. И он вошел в канцелярию, занял нагретый стул, и Ронжин кивнул своим клювиком, посмотрел оценивающим взором: на что, мол, годитесь, молодой человек? Он задал вопрос. Виктор ответил, угадав в точку: читал инструкцию, читал! Потом спрашивал дед, и Виктор опять отвечал, ощущая в себе холодновато – сладкий привкус ответственности момента.
– Это, пожалуй, коку не пригодится!
– Почему же? – непритворно строго удивилась Нина Михайловна. – Какие вы знаете приемы искусственного дыхания?
– Приемы? – Виктор посмотрел ей в глаза, они выражали строгость и непреклонность, ничего похожего на вчерашнее – у него в каюте!.. Ну, что ж!..
Сдали экзамены и получили удостоверения «о допуске к работе со всеми механизмами и устройствами станции». И Ронжин, вручая удостоверения, сказал, что «вот теперь мы имеем полное право…».
– Наконец-то, а то полтора месяца за нас дядя вкалывал! – не удержался Бузенков. Борисов удивленно посмотрел на Гену и ничего не сказал. Ронжин тоже ничего не сказал, промолчала и Нина. А потом они стали собираться на берег.
– По такой погоде? – Виктору хотелось хоть как-то отсрочить ее отъезд.
– Верно, – поддержал дед. – Добрый хозяин собаку на двор не выгонит.
– Поедем! – настоял Ронжин. И начальник позвал Васю. Тот побежал снаряжать шлюпку, а Виктор пошел к Пятнице.
– Хай плывут, утонуть не утонут, а до нитки вымокнут. Хай! – Пятница стягивал лакированные полуботинки, и Виктору было странно наблюдать за его усилиями: куда как ладнее гляделись на Пятнице простецкие кирзачи или тупоносые яловые ботинки со шнурками из сыромятной кожи, уютно попахивающие деготком или ваксой. – Надо им спасательные жилеты в шлюпку положить.
…Все смотрели, как плясал на волнах «наш ялик», как упруго прогибались весла, позвякивали уключины и широкая спина Милована пружинно раскачивалась в напряженных усилиях. Пассажиры вдруг сделались жалкими и беспомощными и такими потерянными в этой скорлупке, в которую все больше и больше захлестывало, как ни старался Вася грести носом к волне, и было видно, как Борисов несколько раз принимался вычерпывать воду.
– Телеграмму не забудьте, Нина Михайловна! – еще раз прокричал вдогонку Бузенков, но куда там! Тяжелый резиновый ветер срывался с отдаленной кручи берега и, достигая «Северянки», относил эти запоздалые крики за Полуй, в тундру.
Слезящимися на ветру глазами, вцепившись в леера, смотрел Виктор, как метр за метром, с каждым взмахом весел, добирается ялик до берега, и вдруг подумал о Свете, пытаясь представить ее в этой шлюпке, под холодными брызгами. И почему-то не смог представить…
– Пошли, – тронул за плечо Гена, и он спохватился – и впрямь пора топать на камбуз и «сочинять» ужин.
После ужина глушат дизель. В каюте сумеречней, чем «на улице», и Виктор зажигает свечу. Слышно, как в коридоре разговаривают Пятница и Милован. Вася вернулся с берега мокрый – везет сегодня! – рассуждает, как бы чего пожрать. Виктор меланхолично кидает ему ключи: там, мол, на плите – разберешься!
И опять – тишина да сквозь нее ветер, молотящий в переборку кулаками.
Тоскливо на сердце у Виктора.
Минут через пятнадцать залетает Бузенков.
– Откуда тебя выдуло?
– Собирайся живо! – Гена вновь отращивает бороду и, весь взлохмаченный, с кустиками темной щетины на подбородке, в свитере и потертой хромовой куртке, похож на промотавшегося командированного. Не долго думая, – Гена зря не прибежит, – Виктор сует ноги в ботинки, они всегда на изготовку.
– Жилет возьми! – торопит Гена. Виктор подхватывает спасательный жилет, чертыхаясь на бегу:
– Торпедировали, что ли?
В рубке Гена сует ему в руки бинокль.
– Смотри! – и показывает в сторону грузовой пристани, где едва виден одинокий силуэт – у самой кромочки воды. Виктор опускает бинокль, никак не веря, что там стоит Нинок.
– Нина…
– Вот именно!
И опять он вертит, настраивая оптику: в перекрестье линз снова возникает неподвижная и такая родная ее фигурка. И чемоданчик в руке, и видно даже, как ветер рвет у плеча конец косынки. Он смотрит на Гену, тот на него.
– Поехали!
– Вот именно!
Скорлупку ялика норовит раскокать о борт станции, и Виктор, соскользнув по тросу шлюпбалки, упирается в борт обеими руками. Гена кидает на дно ялика жилеты и с веслами спускается по штормтрапу.
Грести трудно, и Бузенков быстро выматывается. Они сменяются на веслах, но ялик чуть не накрывает волна, и приходится работать черпаком.
Как приткнулись к берегу, почти не почувствовали. Виктор разжал пальцы, и острые молнийки перенапряжения игольчато и горячо пронзили все тело.
– Нина… Да как ты здесь? – только и нашелся что произнести, только и сумел вымолвить.
Она молчала.
Столько простоять на ветру, под моросью, в легкой курточке! Может, стояла и до того, пока Гена заметил из рубки. Что думала, на что надеялась: заметят, приплывут? Ничего он не понимал. Да! Наверное, он никогда не понимал женщин…
– Где Ронжин? Где Борисов? Вы же должны!.. На вечернем «омике»… Должны отплыть в Лабытнанги на станцию? – Гена выстреливал фразу за фразой, помогая ей надеть спасательный жилет. – В нем вам будет теплее!
– Спасибо! Спасибо, парни! – губы у нее посинели от холода, а она еще улыбаться пытается. – Пошли они в ресторан… Отговаривала: мокрые, куда?.. Сама я ушла от них, сама…
– Бросили, что ли, сволочи? – закипел Гена. Не ответила, смахнула, стесняясь слабости, слезинку.
Усадили ее на переднее сиденье, сняли свитера, приказав укутать ноги и не противиться. Она повиновалась, и Виктору как-то стало жаль ее в этой неловкой покорности.
Обратно по ветру ялик летел веселей. Но все равно трудно было уберечься от волновых брызг, дождь усиливался, и до «Северянки» они добрались насквозь вымокшие и продрогшие. Но парни работали на веслах, каково было ей?
Взобравшись на борт, Виктор повел ее в тепло. Бузенков возился с подъемом ялика. В каюте она, кажется впервые за последние часы, дала волю слабости, задрожала, так что постукивали зубы. Надо было тотчас скинуть мокрое, полностью переодеться в сухое, согреться перво – наперво чем и как угодно…
– Я помогу! Господи! – выдохнул он, не в силах смотреть, как она, дрожа, раздевается. Помог содрать куртку, как резиновую, стянул с плеч, расстегнул пуговицы блузки…
– Я сама, – слабо сказала она.
– Не получится, Нина! Не получится, цыганочка моя…
– Вспомнил, Витя… Вспомнил… Цыганочка…
– Немедленно под одеяло. Я сейчас что-нибудь добуду…
Гена уже переоделся и собирался в рубку – продолжать вахту. Он посоветовал поставить Нине Михайловне горчичники и дать пару таблеток аспирина, чтобы простуда вышла потом. «На спину горчичники, только не на грудь!» – суетился Гена.
Виктор улыбнулся Гениной наивности, трогательному совету его, спустился по трапу к Пятнице.
Ваня, разобравшись, в чем дело, тоже улыбнулся:
– Горчичники, говоришь, Гена предлагает? В переводе на мягкую пахоту… Возьми, вот у меня есть про запас бутылочка! Для начала…
– Ну, Ваня!
Она, кажется, пришла в себя, приободрилась. Из – под одеяла и накинутого поверх полушубка, темные, как сливы, горячо просияли глаза.
– Почему не переоденешься? Мокрый…
– Сейчас, милая…
Что-то важное нарождалось в эти мгновения.
– Нюра Соломатина в Салехарде, у сына гостит… К ним бы зашла. Я ж говорил о них. А так-то вот зачем?..
– Не хочу я ни к какой Нюре… Ты слышишь, не хочу!.. Какой ветер и волны… Ветер…
– Нина…
– Все нормально, родной мой…
Пахнущие дождевой водой руки ее все еще были зябкими…
13
Каким ветрам суждено еще задувать на салехардском рейде? Каким туманам скатываться с белеющих вдали снежных круч Полярного Урала и щедро обносить своей громовой влагой необозримую тундру, простирающуюся сразу от городских окраин, от глинистых, гиперборейских берегов Полуя? Сюда – в туманные, невидимые из-под руки столетия чалили свои кочи неустрашимые архангелогородцы, новгородские и тобольские торговые люди, поспешая к богатому торгу – пушной и рыб – нон ярмарке, или, совсем уверясь в силе и отваге, плыли под смоляным парусом дальше – в земли Мангазеи златокипящей.
Много ветров студили свой пыл в деревянных улочках древнего Обдорска, носового города, стуча озябшими ладонями в ворота небольшой крепостцы – заставы, так и не отразившей ни одного предполагаемого приступа самоедских тундровых племен, не испытав ни одной губительной осады. Щедро жил старинный, поднимающийся на краю империи, полярный городок. Но отчего все мерещится и теперь затурканному комариной экзотикой южному люду, с опозданием наслышанному о тяжеловесных, как бревна, осетрах и нежных, сочнейших нельмах, эта старорусская основательность – и в залетевшем на вертолете на день – два в свою контору бородатом геологе, который похож не то на угрюмого казачину, не то на царского стрельца, или земский заседатель почудится в замотанном хитроване, меднолицем экспедиционном снабженце? Или прорежется вдруг в узкоглазом взоре ненца – оленевода сама ягельная тундра, морошковый и песцовый край, край земли – Ямал!
Какие ветра задували! Над дубль – шлюпкой и шхуной лейтенанта адмиралтейств – коллегии Дмитрия Овцына, над кораблями Степана Малыгина после того, как указующий перст Петра, прочертив крепким императорским ногтем дорогу во льдах, благословил на дерзкий путь в неисследованные владения обширного государства.
Какие ветра!
Надвигается осень. Судам осталось совершить до ледостава один – два рейса к этим берегам, пора к югу, к портам приписки. И сейчас белый туристический теплоход «Тобол» спешит дать отвальный гудок – тоже туда, к югу, куда собираются в путь и птичьи колонии.
Но опять после штормовых дней – тишина и солнце. Благословенный осколочек лета, теперь, наверное, уже бабьего, которое только в сентябре придет в лесостепные колки Прииртышья и Притоболья, а здесь, уже в августе, торопится ухватить последние подарочные лучи.
Сильно наливается река. И на этой сини еще ослепительней бронзовеет надстройками «Северянка», словно взаправдашний осенний костер березовой рощицы, поднятой над гладью задержавшегося в цветении ухоженного льняного поля.
В эти дни братва повадилась бывать в городе, шляться в краеведческий музей, в магазины, в парк, где по вечерам с новой удалыо грохочут барабан и трубы оркестра, завязываются скоропалительные знакомства, а то и вспыхивают драки местной подвыпившей шпаны с новенькими, доходит и до поножовщины. Но братва ходит кучно, внушая уважение не только численностью, но и респектабельным видом – знай наших, не прикасайся!
В карманах зазвенело – и не мелочишко на молочишко, а солидные ассигнации. Из треста пришли переводы – верный знак того, что кончается гостевание на салехардском рейде и тронулся лед не только в устье Обской губы, но наконец оттаяло в загадочных для братвы сферах солидных ведомств и бюрократическая машина наконец раскрутила свои шестеренки.
Прислала телеграмму и Нина Михайловна: «Счастливого пути!» Значит, Чукотка! Прощайте мечты об астраханских арбузах и знойно – песчаных ветрах и, что совсем убийственно для Васи Милована, загорелые южные женщины.
Провожали Нину багряно – синим полярным вечером. Над тентовой палубой вновь ожил молчавший несколько дней алюминиевый колокол, и она танцевала со всеми поочередно, а дед стоял в сторонке опять в своем олимпийском одеянии, щурясь и посверкивая лысиной: молодежь!
Дед проявил настоящую изобретательность, прямо – таки рационализаторское предложение внес в быт «Северянки», и тут же, не дожидаясь, пока раскумекает его братва, на пару с Пятницей принялся претворять его в жизнь. Подняли брашпилем носовые якоря, станцию развернуло течением на кормовом якоре так, что она сделала семидесятиметровый шаг ближе к городскому берегу. Затем подняли кормовой якорь, и «Северянка» повторила свой гигантский разворот к великой радости братвы: теперь чуть ли не сухой ногой можно сходить на берег. В последние денечки!
– Хорошо у вас, как в сказке! – разгоряченная, осыпанная вниманием и кажущаяся счастливой и беспечной от всеобщего поклонения, Нина Михайловна вытягивала на круг и деда. И Глушаков, польщенный, тянулся на носочках – эх, бог не дал богатырского роста!
– Хорошо у вас…
Она повторила эти слова и Виктору, когда они вдвоем плыли в ялике к речному вокзалу. Виктор загнал скорлупку ялика меж двух торчащих у берега ржавых баржонок. И они прошли на дебаркадер.
– Кончилась сказка, Витя! – она улыбнулась, но получилось ненастояще и натянуто. – Ты, ради бога, ни о чем не думай. У тебя впереди такая дорога, представить невозможно. Не думай, Витя. Встретились, ну что в жизни не бывает? Спасибо, не знаю кому. А я буду вспоминать эту сказку. Не обещаю, что каждый день… Не думай, – она торопилась с непонятной для него решимостью опять выговориться. – Ты люби свою подругу, Витя. Она у тебя серебряная, сам сказал, и любит тебя, я знаю… Нет – нет, молчи, я это лучше чувствую. А я поеду к своему великому энергетику. Что смотришь удивленно? Он, в общем, порядочный мужик… Только будь я помоложе… Хочешь, скажу откровенно: увела бы я тебя от твоей серебряной…
Уже с теплохода, отваливающего от пристани и набирающего ход в крутом вираже, она крикнула:
– Телеграмму жди, Виктор Александрович! – и долго неподвижно стояла у борта.
Ничегошеньки в этой телеграмме не было. Он вертел ее так и эдак, когда прочитал на почтамте у окошечка «до востребования», но иного скрытого текста за ровными, отстуканными на аппарате, буковками найти не мог. Подивился подписи – «Ермакова»: вот ведь какая у нее сибирская фамилия, а он совсем забыл. Все – Нинок, Нина, Нина Михайловна!
На другой день он снова зашел на почтамт, получил от нее письмо. Почерк торопливый, порывистый, буковка к буковке цепляется. Вспомнил – читал где-то – если буквы стоят особняком каждая, то характер у того человека себялюбивый, эгоистичный. «…Я думала о нашем последнем разговоре и, знаешь, Витя, пришла к заключению, что была неправа. Если бы было возможном повернуть все обратно: и тот теплоходик, и поезд…» Обратно? Необязательные слова. Он подумал вдруг, что дважды войти в одну реку нельзя. Впрочем, зачем он так строго? Зачем мерить другого человека, женщину тем более, на свой аршин? «В Москве еще стоит жара, на работу ездить совсем не хочется. Расклеилась, господи, после Полярного круга, подурнела даже, ты бы меня не узнал… Вчера вечером пошла в лес, у нас он близко от Волгоградского проспекта, насобирала, как ты просил, полевых цветов и положила к памятнику Есенина.
Ты ведь серьезно просил?.. Посидела на скамейке, почему-то все – все вспомнилось: куда залетела – в столицу! Страшно захотелось к березам. Напрасно ты завидовал, Витя…»
Шутишь, Нина, подумал он, вовсе не так завидовал! Спасибо за цветы! Да и вообще, что он придирается к каждому слову? Обидели тебя, дорогой? Думал, плакать будет, на шею бросится на пристани, а она вон как умно простилась, гордо, по-современному. Еще должен быть благодарен за нежность, за память. Да что говорить…
Куда-то надо было пойти, развеяться, забыться, что ли, успокоить душу. Он вышел на главную улицу к магазину, столкнулся с Мещеряковым. Леня набрал сетку сигарет и теперь направлялся к берегу. Там опять – «застоялись мышцы» – разминался на веслах Миша Заплаткин.
Виктор прошагал мимо зооветтехникума с рогатыми оленями на фронтоне здания, завернул в книжный магазин, потолкался у стеллажей: солидные издания по растениеводству и химической обработке металлов, брошюры о передовом опыте и еще завал всяких брошюр. В художественном отделе – несколько книжек Свердловского издательства, вязанка репродукций картины «Неравный брак» да стопка неразобранных стихов на незнакомом языке. Он еще потолкался у полок, купил карту мира: в каюте надо повесить! И, невесело размышляя: ладно хоть пластмассовых кукол не насажали на полки, как в гастрономе, вышел на улицу. Покурил у памятника борцу за Советскую власть Тихону Сенькину. Крепкое, широкоскулое, мужественное лицо с окладистой норвежской бородкой смотрело на него сурово и пристально.
Он вспомнил о Соломатиных. Как это он совсем забыл зайти к ним! Удастся ли еще свидеться с Нюрой, да и не улетела ли домой старушка? Ведь просила: «Заходи, батюшко, в любом случае попроведай, мы вроде не чужие теперь, заходи!»
И вот Нюра, она оказалась на месте, не улетела еще, встретила, заохала, засуетилась:
– Не улетела, не улетела ишо, батюшко мой!.. Минтай-то тебя не тронул за ноги?
Виктор удивился: что несет старушка?
Она поняла его недоумение, рассмеялась:
– Юрий напридумывал рыбьих имен собакам. Минтай! У него ишо сучка, ласкотная такая собачонка, дак он ее Пелядью назвал. Ну не выдумщик ли, батюшко! Я уж принялась ему выговаривать: пошто не наши имена собакам дал? Привышно ли животине с таким про – звишшем ходить? Ну, ладно, Шарик или там, прости господи, Жульбарс какой, а тут перед людьми неловко, будто мы непутевые какие! Говорю, ты уж не молоденький, слава богу, четвертый десяток пошел, а все придумываешь. А он, Юрий-то, смеетца: я, говорит, на нонешний манер, по-соврименному. Ага! По – соврименному… А ты проходи в куть-то, Виктор Александрович. Мы с тобой в кути и посидим, чаем напою тебя, батюшко. Как ты зайти надумал-то, я уж гадаю: уплыли? А Юрий-то сказыват: нет, ихняя оказия середь реки ишо стоит…
Виктор рад был и суете Нюры, и простецкой ее заботе, предупредительности, словно в свой родимый дом пришел к матери, но он подумал, что мать еще бы и разговорить надо, чтоб отрешилась хоть на часок от вечной домашней беготни, забот, расслабилась, присела с чайной чашкой к краешку стола, а эта старушка вовсе простенкая, «завсяко – просто» – точней и не скажешь – разболакает свою душу.
– Ага! Минтай! – продолжала, покачав головой, Нюра. – ™ Да, батюшко мой, беда прямо… Порядки-то и у нас завели – привозной рыбой народ кормить, будто в своих озерах не живет, не плават. Да и чё сказать, отвадили у нас стариков от рыбалки. У Никифора, ишо живой был, ряжовку прямо на глазах сожгли. Выезжает с озера, на Белом гонял карасей, а ево двое на берегу встречают. Оба при оружии, да и сами крепкие робята. Нельзя, говорят, закон нарушать. Белое-то озеро к чему-то там приписано, не наше стало. Ну, а Никифор Степанович, сам помнишь, какой обиходистый старик был, лишнево не возьмет и другим не даст. Почему, говорит, нельзя? А вот нельзя, и квитанцию ему выписывают. Много че-то завернули ему платить. А он как разошелся, как раскричигался! Хоть и до моево Афанасия доведись, не стерпел бы… Ну, а молодцы-то костер прямо на берегу разложили и ряжовку в огонь. Вот ведь че было у нас, не поверишь, батюшко!
Она пододвинула Виктору вазочку с моченой брусникой, покивала, мол, ешь – ешь, не стесняйся. У самой чай уже остыл, она и сделала два глотка, а теперь, расстроенная воспоминаниями, и вовсе отодвинула чашку.
– Я вот и Юрию здесь наказываю: ты, мол, везде леташь, не бери ниче лишнево. Он привезет когда то муксуна, то ишо какую холеру. Рыбаки, говорит, дали – угостили. Оно, копешно, не лишне в дому, а мне все кажется теперь, что не заработано, чужо берет. Сколь, спрашиваю, по рыношпым ценам стоит? Он только рукой махнет: дороже денег! Вот и сужу я, сама грамотна теперь, платят на Сиверу много, а купить че побежишь, одне банки на полках, вот и берут из-под полы за любы деньги…
Виктор вспомнил, как недавно подлетали к борту «Северянки» двое с мешком рыбы. Подрулили: «Эгей, земляки, муксунов надо?» Ваня Пятница поежил свой чубчик, переломился над леером: сколько, мол, стоит?
Заломили цену, у всей команды в те дни не наскрести было. II Ваня ответил: не треба, сыты по горло! И долго смотрел им вслед, чертыхаясь: живоглоты! Тогда и надумал, наверное, трал из куска сетки мастерить. Мол, хоть раз сбраконьерничаю, а?
Рассказывать об этом Виктор не стал, что толку расстраивать и без того расстроенную старушку. Усмехнулся: «Сама грамотна теперь!» Да, в долгие вечера во время «морской травли» в рубке, когда холодно, или на палубе, когда оттаивало небо и солнышко просторно катилось по горизонту, много всяких разговоров переговорено. Иной раз дед Глушаков испуганно тер лысину: «Полегче… Мы вот войну пережили. Молодежь!» А что молодежь? Взять Ваню Пятницу или Мещерякова? А Гена Бузенков с Мишей Заплаткиным – «джинсовые мальчики»? Ну, Миша – ладно, этот работяга из работяг, все родичи, каких знает, ни высшего образования, ни столичных проспектов и не нюхали. Все в мазуте, все у станков да на «теплых» местах – в кочегарках. А Гена – москвич, хоть и во втором поколении. Не дешевит, как Лапузин, не подчеркивает столичное превосходство. А уж за справедливость да за порядочность душу себе терзает. Бегает, суетится. Пацан еще, но…
– Тетя Нюра, а вы знаете, кто у нас на судне недавно был? – ах, не утерпел, ах, тянули тебя за язык, пожалел тут же Виктор. Но было поздно. Нюра нацеливалась выйти покормить собак, что лежали у подъезда – косматые, грозные с виду, но Виктор перешагнул, головы не подняли. Минтай и Пелядь! Пара – гусь да гагара!
– Кто был, батюшко, рассказывай…
– Нина Ермакова, которая из Еланки, – выдохнул Виктор.
– Обожди, обожди… Дай вспомнить. Ага! Дак это Михайлы Ермакова дочь, котора за инженером в Москву усвистнула? Она, она!
Виктор смутился: знает! Может, и другое что знает? В деревне были тогда все на виду, уж ясное дело, все обсудили, всех по косточкам перебрали: кто на кого посмотрел, о ком подумал. Деревня!
– Она, тетя Нюра! Из треста, где я сейчас числюсь временно, с проверкой приезжала.
– Далеко усвистнула девка!
Покоробило это – «усвистнула», и он, пряча глаза, подхватил с конфорки чайник, добавляя кипятку себе и Нюре.
– А что вам она не нравится, тетя Нюра? – бодренько так спросил.
– Пошто, батюшко? Добра девка, теперь уж кака девка, женшина. Только че-то ты неспроста завел разговор. К нам-то че не зашли вместе? Я бы уж и приняла, куда денешься. Я ить, бывало, хорошо ее знала. Спрошу эдак завсяко – просто: не пишет тебе, Нина, кто из робят – рыбаков? С Галиной-то Ерохпной, покойницей, вместе, бывало, они похаживали. Она совсем девчушка, помоложе была, а тоже – с карахтером… Вот, Виктор Александрович, че я тебе скажу. Не свел вас бог вместе, а теперь и не время похлебку заваривать!
Нюра как-то очень решительно поджала губы, и Виктор удивился внезапной в ней перемене: ничего себе, «карахтерная» старушка! Откуда она что и взяла, будто что известно ей? А Нюра с первых слов все поняла – и смущение его, и бодрячество, и заинтересованное любопытство: что, мол, ответит? А что отвечать, когда у него в глазах все написано. Так и не научился скрывать свои думки, так и остался красной девицей, хоть и возмужал, хоть и в года вошел… С Юрием они говорили тоже, всяко разговаривали.
– Знать, известие теперь получил от Нины-то?
– Все вы знаете, тетя Нюра! Ничего я не получил… Вы уж ругать вроде меня собрались?
Она упустила из внимания последние слова:
– Не получал, и не надо! Какая, батюшко, судья вам? Мне уж теперь одно – до дому бы скорей воротит – ца, Афанасий, поди, с ума сходит, убралась на такой Сивер!.. Только я советую тебе, будь потолковей. Ты уж, поди, сам знашь теперь: почем сотня гребешков? Оне, нонешние бабы, – с придурью.








