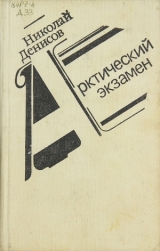
Текст книги "Арктический экзамен"
Автор книги: Николай Денисов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Annotation
Денисов Н. В. Арктический экзамен: Повести. – М.: Современник, 1988. 336 с. Николай Денисов – автор нескольких стихотворных сборников, изданных в Москве и Свердловске. В издательстве «Современник» выходила его книга «Вчера было детство». «Арктический экзамен» – вторая книга прозы Денисова. В нее вошли две повести: «Нефедовка» и «Арктический экзамен». Через произведения Николая Денисова проходит мысль о том, что человек силен кровной связью с родной землей. Это и помогает ему в самых трудных жизненных испытаниях.
АРКТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН
НЕФЕДОВКА
Арктический экзамен
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
notes
1
АРКТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН
НЕФЕДОВКА



1
Передние розвальни, которыми правил сам Чемакин, устало проскрипев полозьями, остановились у покосившегося заплота. В их поклажу меланхолично ткнулся Егренька, послушный и тихий мерин. За ним остановился и весь обоз.
С саней поспрыгивали, отряхивая с себя сенную труху. Затопали броднями о накатанную дорогу, разминая затекшие ноги.
Спит деревенька. Ни огонька, ни дымка. Лишь в морозном проеме неба покачивается луна, ярко освещая снежные козырьки крыш.
– Хозяин! Эй! Хозяин! – черенком кнута застучал в ворота Чемакин. – Никифор Степанович! Эгей! Отворяй, встречай гостей!
Ни со двора, где виднеется приземистая завозня и тощая поленница дров, ни из дома никто не ответил. Поодаль очумело залилась собачонка, но, побрехав в счет собачьей службы, смолкла. Чемакин пошарил щеколду рукой. Не нашел. Нажал на заиндевелые ворота плечом. Со двора они заперты надежно. Бригадир чуть не выругался на парней, что затеяли уже чехарду, но передумал. Дверь дома распахнулась на мороз, и на присевшее крыльцо вышагнул высокий старик.
– Счас отворю, счас… Как с лесу пали. Коней бы чем накрыли, потные, верно…
Старик отбросил в сумет кол, что подпирал ворота. Те с сухим треском откинулись внутрь двора. Чемакин помог отворить их пошире, без натуги прочертив в снегу глубокую борозду.
– Надо бы через огород заезжать. Я и прясло разгородил, прямо от поскотинки, от леска… Коней не поите, пусть остынут. – Старик был без шапки, и луна высвечивала его взлохмаченные после сна волосы, сухощавое бритое лицо.
После неторопливого ворчания, в котором угадывалась скрытая радость, старик затих. Пока приезжие распрягали лошадей и таскали в дом свои пожитки, Никифор стоял в сторонке, наблюдая за хлопотливой беготней.
– Застудишься, дедка, – сочувственно сказал кто-то из ребят.
На широком дворе тесно. Четыре воза – два с сеном, на третьем – сложенный пирамидкой невод, а на последнем моторчик с лебедкой, мешки с овсом и всякая мелочь – заняли чуть не всю ограду.
Акрам и Володя, порядком продрогшие, пытались увильнуть от разгрузки возов. Но Чемакин вручил им вилы-трехрожки.
– Уметывайте сено!
– Что так холодно, дед? – поднимая из саней куль с овсом, спрашивает Сашка Лохмач, выплюнув в жесткий снег окурок.
– Дак дровец маловато осталось. А то каждый день улицу натапливал, – серьезно ответил старик.
Сашка Лохмач гогочет:
– А ты ничего – деловой дед. Самогон не гонишь? А то бы вынес гостям по стопарику.
– Замолол опять, – одергивает Лохмача Чемакин, дававший указания, куда что складывать, сваливать, перетаскивать.
Пожилые рыбаки работают молча, сосредоточенно, злясь на бригадира за то, что тот не дал с дороги даже отогреться в тепле. После долгого пути всем так мечталось о печке, о кружке горячего чая. Хотелось уснуть, забыть о морозе и о том, что завтра опять предстоит работа на холоде, на ветру.
Витька тоже не может дождаться, когда разденется в доме, сбросит застывшие, твердые, как кирпичи, бродни, прижмется щекой к теплому опечку, как дома после поездки с отцом за сеном на Дворниково болото.
Ногам холодно, зато под гусем[1], – на груди, греет Витьку щенок. Он выпросил его перед отъездом у сторожа на рыбзаводе. В дороге щенок вел себя смирно, только иногда начинал повизгивать, просился на двор. В одной деревне, где рыбаки останавливались отдохнуть и покормить лошадей, хозяин избы предложил Витьке шерстяные рукавички за щенка, но Витька не согласился.
– Эх, язви тебя, никак, кобеля привез? – ворчит старик, остановив Витьку у крыльца. – В доме не дам держать. Страму и так хватает.
– Он ничего, он смирный. – Витька боком прошмыгивает в тепло, в раскрытую дверь, куда только что вошли парни.
Внутри – две просторные комнаты, треть их занимает печь с закопченным чувалом, с шестком, где стоит ведерный чугун. В таких чугунах варят картошку для поросят, налаживают пойло для теленка, кипятят воду для щелока в банный день.
В первой комнате неуютно и сумрачно. Старый, давно не скобленный стол освещает семилинейная лампа. От нее пахнет керосином. Запах этот перешибает все другие застоявшиеся запахи неприбранного стариковского жилья.
Кое – кто из рыбаков уже устраивается на ночлег. Отодвинув в сторонку ухваты и чьи-то валенки, угнездился и захрапел на печи Толя. Ввалились с мороза Акрам с Володей, бросив холодные рукавички Толе на лицо. Тот тихо матюгнулся и отвернулся к стене.
В горнице лежат хомуты, седелки, вожжи. Здесь же – деревянная дедова кровать с подушками и потрепанным одеялом. Сам хозяин вместе с пожилыми рыбаками куда-то ушел – вероятно, к Нюре и Афанасию Соломатиным, которые приняли часть прибывших на постой – в хороший и чистый пятистенник.
О постое Чемакин договорился раньше, неделю назад, когда вместе с дядей Колей – башлыком бригады – приезжал смотреть здешние озера. Поэтому появление приехавших в таежной деревушке встречено спокойно, без лишнего любопытства.
В доме прохладно. Витька бросает в «буржуйку» сухие еловые поленья, огонь схватывается быстро. И тепло набирается хорошо. Железные бока печурки заалели, запахло оттаявшими гужами, конским потом от хомутов и чем-то еще домашним, незабытым, отчего недавние Витькины воспоминания о родном доме наполняет печаль.
На рыбзавод и в бригаду Витька попал случайно. В десятом классе собирался поступать в мореходку. Писал письма в портовые города. Ответы приходили сухие, короткие: чуть ли не в каждом письме сообщалось, что нужен двухгодичный стаж работы на море или служба в армии. После выпускного вечера многих вчерашних десятиклассников пригласили в военкомат, сговаривали учиться на офицеров. Уехал в какое-то техническое военное училище и Витькин дружок, Витьку никто не приглашал. Может, потому, что по математике сдал на тройки?.. Обидно, конечно. Но вскоре Витька успокоился и стал вместе с другими ходить на наряд в контору. Вставал рано, брал в сумку бутылку молока, яички, заранее сваренные матерью в самоваре, срывал в огуречнике пару огурцов, шел к конторе. Потом на машине ехали на покос. В уборку его послали помощником к комбайнеру. Когда заболел молотобоец в кузнице, отрядили туда. Там было интересней. Мечта о море стала окутываться дымком горячего горна.
Кузнец Вавила кидал в лагунок с водой готовые поковки, откуда с шипеньем вырывалась короткая струя пара, отдавая затхлой водой. Вытягивал из горна клещами раскаленный кусок железного прута.
– Ну что ты шлепаешь, как по спине ладошкой, лупи сильней! – Вавила с боку на бок поворачивал прут, и Витька старался вложить в удар кувалды всю свою силу.
– Так – так ее, холеру, – хвалил кузнец.
Отец же за ужином снова ругал школу.
– Десять лет учили. А чему? Осенью поезжай на курсы трактористов, вернешься специалистом, – говорил он долго и как-то по-казенному, по-писаному. Витька молча слушал эти речи отца о том, что «в деревне надо учиться на технике работать», брал гармошку и уходил в клуб.
Играть приходилось все реже. На танцах теперь любили топтаться под радиолу, и Витька оставлял гармонь в гримировке, занимал очередь на бильярд. Шары в разбитые лузы лезли сами, поэтому проигравшие каждый раз спорили до драки.
На тополях возле клуба желтели листья, но держались на ветках еще крепко. Только иногда тяжелый с зелеными прожилками лист шлепался на слезящееся от мороси окно или на маленький бугорок затоптанной поповской могилы. Раньше на месте клуба стояла церковь. И под настроение отец рассказывал Витьке, как пел по праздникам на клиросе. Витька недоверчиво косился и спрашивал:
– В бога, что ли, верил?
– Верить не верил, а, помню, интересно было. Вроде как практику проходил. В роте потом запевал.
Сентябрь. Начались дожди. Девчонки больше не жмутся у ограды клуба, ожидая, пока побольше наберется народу, бегут сразу под крышу. Ребята оскабливают у крылечка сапоги, вваливаются в клуб в мазутных фуфайках: только что вернулись со смены.
В чистом – помощник пилорамщика Толя да двое незнакомых – из отпускников. На бывшем клиросе обломки кия и бильярдные шары. Толя веселится – он выпил.
– Ну разве это кий? – тычет он в обломки перебинтованным пальцем. – Дышло от конных граблей, – и поглядывает в сторону завклубши. – Дышло-о! Значит, имею я право ликвидировать упущения в культурно – массовой работе? – Толю пошатывает, дорогой плащ соскальзывает с руки. – Право имею! – куражится Толя.
Завклубша, высокая сухопарая женщина, зная незлобивый характер Толи, пытается урезонить его:
– Милицию вызову!
Топчутся танцующие, повизгивает радиола.
– Витюха, зачем без гармони? – заметив в дверях появление Витьки, возбуждается Толя снова. – Петь буду, хочу петь.
Петь Толя не умеет. Голос у него хрипловатый, несклеенный, будто неприработанные шестерни новой сенокосилки. Когда на репетиции хора завклубша пробует научить Толю вести вторую партию, он протестует:
– Мы, Руфина Ивановна, не певцы, а жеребцы!
От сего признания белесые ресницы завклубши поднимаются к надбровьям, в зрачках стынет испуг. Толю она больше не тревожит.
При разнице характеров и возраста – Толе уже девятнадцать – с Витькой его соединяет детская дружба. Но за жизнь Толя ухватился крепко широкими, темными от загара руками, привыкшими к тяжелой работе на дворе пилорамы. Так же уверенно и привычно обращается он с девчатами: каждый вечер уходит из клуба с новой подругой. Он будто бы выполняет необходимую работу, и девчонки прощают почему-то Толе его непостоянство.
Однажды, когда друзья ремонтировали в ограде велосипед, Толя ошарашил Витьку:
– Ты бы хоть проводил какую-нибудь, что ли!
Витька понял, смутился:
– Зачем?
– И-их! – Толя болезненно поморщился. – Ты же парень во! Десятилетку закончил…
– Что ты пристал, как батя? Десятилетку!
– Ну ладно… Чему вас только учили? Синусы, косинусы, а коснись до дела, одна романтика в башке… Если б я сумел высидеть до десятого…
– Тебя никто не гнал. Сам бросил.
– Сам, понятно. У тебя хорошо – отец с матерью да братовья большие, а я один мужик в доме, понял? Ишь какие пальчики у тебя, только девочек гладить. Мои как наждак.
– Пошел ты, знаешь, – вскипел Витька.
Но Толю провести непросто.
– Хошь помогу? Да Танька Вавилы-антихриста во все зенки на тебя пялится, когда ты на гармошке шпаришь.
Витька думает о Тане. Года три назад встречали вместе коров у поскотины. Стадо несло в деревню тучу комарья, пыли, запахи степи, дурманный дух полыни и отгоревшего зноя. Вавилина корова крутобокая, смирная, не в пример хозяину. Ласкова с ней и Таня: кусочек хлеба принесет на поскотину, завядшими ромашками отгоняет мошкару…
– А о чем ты разговариваешь с девчонкой, когда вдвоем остаетесь? – спрашивает вдруг Витька.
Толя даже камеру качать бросил.
– Как о чем?.. Ну, сначала, значит, завлекаешь всякими там разговорами, а потом…
– Что потом?
– Потом про любовь… и все такое прочее.
В окошко стучит Витькина мать:
– Ребятишки, идите поешьте.
– Сейчас придем, – откликается Витька. – Так сразу и про любовь?
– От бестолочь! Ну, не сразу. Сначала, значит, завлекаешь всякими… Да пошел ты. Что ты жилы из меня тянешь? Соображать надо!.. Когда это было? Каких-то полгода прошло.
…Запыхтел, заговорил на печке чайник. Акрам, стеливший в горнице на полу матрацы, пулей вылетел к нему, косясь на Володю.
– Не видишь, скипел, мог бы снять, читатель.
Володя оторвался от книжки, не обиделся.
– Чай – это хорошо. Попьем.
– Попьем, Акрам, попьем. Гуще заваривай, ты вроде мастак, с малолетства с рыбаками, – поддержал Сашка Лохмач. Он успел уже переодеться в отглаженные брюки, нацепить галстук, а теперь голенищем бродня драил полуботинки, пытаясь навести блеск.
Витька – его не тревожили – приподнялся на лавке, удивленно глядит на Лохмача: куда собирается человек?
– Сходим с населением познакомимся. – Лохмач, как маятник, раскачивается по избе, поминутно поправляя узел галстука. Форсит перед собой, в собственное удовольствие.
Объявился Сашка на стрежевом песке: в старых резиновых сапогах, в потертой телогрейке, без шашки. Появился утром, когда звенья выходили из барака, хрустя по утреннему инею – к Иртышу, к неводникам. Заросший по плечи, нечесаный, бойко сбежал на берег по кинутой с катера доске, быстро нашел бригадира, подал направление отдела кадров. Чемакин тогда хмуро посмотрел, покачал головой:
– Ну и грива!
– В парикмахерскую без намордника не пускают, – нашелся Лохмач.
Вечером, после смены, Сашка не снимал телогрейку.
– Не могу, мужики, – как-то виновато, бочком садился он за общий стол ужинать.
– Не бусурманин вроде, русский, – возмутилась повариха.
Под телогрейкой у Сашки ничего не было: ни майки, ни рубахи. Рыбаки качали головами, с расспросами не приставали. И это хорошо.
В пересказе Чемакина звучало это трогательно и горько: безродный, сирота, на пристани, где-то в Тобольске, раздели бичи. Жалко. Жалел он Сашку простой человеческой добротой, может, оценил в нем работника: когда формировались бригады для подледного лова, взял нестриженого Лохмача в свою. Взял вместе с приставшей к нему кличкой.
Стали пить чай, обжигая губы. Повеселевшая изба озарялась еще и багряными боками раскалившейся до предела «буржуйки». Горкой на столе бублики, печенюшки, пряники. Покупали в городе на общие деньги.
С мороза входит Шурка – конюх, бросает на Толю холодные рукавички.
– Сяю не оставили, – обиженно тянет Шурка – конюх. У Шурки немного не хватает. В детстве напуган. И Чемакин наказал не обижать его. Расторопный и исполнительный был мужик.
– Сяю хочу!
– Пей садись, Шурка, – Акрам заботится о всех. – Может, и Толю разбудим? – Но никто не отвечает. Володя опять занялся чтением, Лохмач полуботинками: куда собирается человек? Холодно за окном.
Воет и скоблит по стеклу разгулявшаяся пурга. Повизгивает Витькин щенок – захотел есть. Витька нажевывает пряник, щенок глотает неумело, лениво, пускает по полу ручей.
– Деду рукавичка хорошая растет, – гладит Лохмач щенка.
– Назвать как-то надо, – говорит Витька.
– Лохмачом и назови, – дает совет Акрам.
– Я те назову!
На крылечке, за дверью, заскрипели снежком, и в дверях показалась запорошенная снегом гостья.
– Можно к вам?
– О-о, входите, – Сашка Лохмач уже у дверей, встречает. – О, думали, живой души нет, кроме сивого деда.
Гостья откинула шаль на плечи, тряхнула мягкой копешкой волос, прихваченных на затылке лентой. На вид – лет двадцать, крепкая, полнотелая деревенская девица. В глазах ни тени смущения. Она обвела поочередно и откровенно всех взглядом, присела к столу.
– Вот хочу познакомиться, – сказала просто, тряхнув опять волосами, – и… кавалера выбрать.
Лохмач засиял:
– А для других почему подруг не привела?
– Я одна.
– Как одна?
– Да так. Деревня-то – старики, старухи. А я – одна.
Гостья расстегнула пальто, под ним было дорогое синее платье. Лохмач с готовностью шаркнул полуботинками.
– Темнота! Не догадались… Давай помогу… Вот так. У нас тепло.
Акрам кинул в печку свежее полено, запластала, защелкала сырая хвоя. Володя краем уха прислушивался к разговору. Витька с интересом хлопал большими глазами.
– Меня Галей звать, – сказала гостья.
– Александр, бывалый северянин, с геологами ходил, волей судьбы – злодейки переквалифицировался… Это – Володя – студент, с ним, правда, не разговоришься, Акрам, Витя – наш гармонист, Шурка – начальник конного транспорта… Шурка, где ты? Оседлал уже постель! Толя спит, будить? Все на виду, выбирай!
Галина засмеялась:
– Мне понравился вон тот беленький. – Галина пристально и игриво поглядела на Витьку, отчего он чаще заморгал, смутился.
– Не стесняйся, Витенька, сыграй, развлеки…
– Что играть-то?
– Цыганочку можешь?
– Может и цыганочку, и полечку, и русскую. Кого хошь! – подхватил Лохмач.
– Мотив хочу, – из горницы, с матрацов, подает голос Шурка – конюх.
– Мотив не могу, Шурка.
– Э, не можешь, а наш Васяня может.
Витька думает о Васяне, который может играть мотив, усмехнулся Шуркиной простоте, взял первый аккорд.
Ледяными когтями царапает стекла буря. Она замела уже санные следы на улице, конский помет, клочья сена, уметывает сугроб у крыльца. Где-то за огородами, в урмане, бродят волки, воют на холодную луну. Похрапывают лошади, звякая недоуздками.
Витька играет цыганочку. Тихо, без надрыва, с чувством. Играет, наклонив светлую голову к гармошке, словно прислушиваясь и к вьюге за окном, и к собственной грусти по дому, и к ударам сердца.
Плясать никто не решается. Лохмач ерзает на лавке, притопывая в такт полуботинками.
– Ну вот… Теперь, может, вальс? – спрашивает Витька.
Галина смотрит на него пристально и как-то бесстыдно-откровенно.
– Ой ты, как хорошо! – она подсаживается ближе к Витьке, прислонясь к нему тугим плечом. – А я тебя где-то видела.
– Меня? Нет, не может быть, – но тут же Витька думает, что она говорит это неспроста, ей хочется с чего-то начать разговор, ему и самому хотелось с ней разговаривать – только о чем?
– Может быть, и видела. В городе? – сказал он и про себя разозлился: «Не то говорю, не так».
В запечке громыхнули ухваты, и в полутемном проеме горницы возник Толя. Широкоплечий, босой, в помятой вельветке, заспанный.
– Самодеятельность… Спать надо, мордовороты. Чемакин ни свет ни заря разбудит… Здравствуйте, – он только теперь заметил Галину, пристально посмотрел. Та тоже с интересом глянула на него, зажглась румянцем.
Толя всунул босые ноги в Шуркины валенки, стоявшие у опечка, набросил на плечи полушубок, шагнул к двери.
– Проверю, почем мороз кусается… Наяривайте, мордовороты, пока я добрый. – С улицы врываются клубы холода.
Галина засобиралась:
– Мне – домой.
– Я провожу, – с готовностью сказал Лохмач.
– Не надо, мне через дорогу, рядом…
Минут через десять возвращается Толя.
– Не примерз там? – спросил Акрам.
– Ну и прорва девка, – жамкнул Толя в кулаке сушку. – А ничего, самый сок! Да…
Лохмач расшнуровывает полуботинки, сердито отпихивая щенка. Витька уже не слышит Толиных слов. Но долго еще ворочается под колючим суконным одеялом.
Трещит и рвется за окном буря, клочья ее сыплются на тесовую крышу, в трубу, просятся в тепло. Уже в полудреме Витька слышит, как вернулся Никифор. Скрипнула Никифорова кровать, и скоро смолкли все звуки.
2
У попа была собака,
Он ее любил.
Она съела кусок мяса,
Он ее убил.
Сашка Лохмач откапывает ворота. Во дворе уже протоптали тропинки: от калитки до крыльца, к завозне, к поленнице. Сошлась вся бригада, во дворе тесно.
– Ладно заклало, – налегает Лохмач на черенок лопаты.
– А ты смотри, певчий, не фулюгань с инструментом, ухайдакаешь – вычту в двойном размере, – говорит Лохмачу Никифор.
Шурка – конюх кормит овсом лошадей. Остальные тоже ищут заделья, проверяют пешни, лопаты, сачки. Моторист дергает шнуром ЗИД, моторчик застыл, не заводится. Норилыцик Яремин, как и вчера, нацепил на пояс охотничий нож. Важничает: как – никак начальник, звеньевой.
– Вот что, мужики, – говорит Чемакин, приглашая всех к разговору.
– Я собрал вас для того, чтобы сообщить… – проявив неожиданную прыть, ляпнул Володя и осекся, получив тычок Толи.
– Да, я собрал вас, – по-доброму улыбнулся Чемакин. – В общем, хочу еще раз сказать, что бригада у нас экспедиционного лова. Жить долго здесь не придется. От силы две, ну, три недели… А дело наше, можно сказать, государственное. Имению мы должны разведать, сколько в здешних озерах рыбы и какая… Мы первые, за нами придут па следующий год бригады промысловиков…
– Плакали, значит, наши заработки, – Лохмач кинул лопату в снег. – Тяни невод с травою морской.
– Может, и с травою, – оглянулся бригадир. – А может, как гребанем, а? Озера тут в округе никто не считал…
– Греб тут один, – не унимается Лохмач.
Зашумели, заговорили, запыхтели папиросами. Но утреннее бодрое настроение, освеженное морозам, торопит до дела: поскорей разогнать кровь, подразмять молодые мускулы. Угадывая эти желания, Чемакин уже на ходу дает свои бригадирские распоряжения.
– Я с дядей Колей поеду смотреть домашнее озеро, двое за сушняком в лес, остальными руководи ты, Яремин. Раскиньте невод, осмотрите, почините где надо.
Ехать по дрова отрядили Толю и Витьку.
– Топорами-пилой владеете? – спросил Чемакин.
– Тяпаем помаленьку, – обиделся Толя, раскрутил вожжу, замахнулся на Егреньку. – Туды вашу махры, но!
Витькины розвальни – следом. На выезде из ограды Толя остановил коня, подтянул чересседельник. У калитки стояла Галина. Она в фуфайке, в валенках с калошами, белозубая, стройная.
– До фермы подвезите.
Витька подумал: вот сейчас подойдет, сядет к нему. Он даже машинально отодвинулся в розвальнях, уступая место.
– Падай скорей. Но! Туды вашу, – за Толиными санями рванулся свежий след, вдоль улочки, мимо заснеженных палисадников, отодвинутых на окошках занавесок.
До Витьки долетел смех Галины.
Возле коровника, у околицы, он пустил свою лошадь первой. Толя, задержавшись возле базы, догнал, тихонько ехал позади.
В лесу было тихо, спокойно. У самой опушки дремали густые кедры, держа в мохнатых лапах тяжелые снега. Под ними жались жидкие березки, кустарник. Дальше лес редел. Сквозь тонкие сухие сосенки просматривались новые гривки кедрача – тоже в тяжелых снежных шлемах. Возле болотины, на которой проступали под сугробами высокие пеньки, остановили подводы.
Проваливаясь по пояс, Толя ходит от сосенки к сосенке, валит топором. Деревца падают, обламывая сучья. Витька молча трелюет их поближе к дороге, укладывает рядом с дровнями, чтоб затем распилить надвое.
Молчит и Толя.
«Почему не села ко мне?» – думает Витька о Галине. Ревнивое чувство подкатывает, щемит, не дает успокоиться. Он силится прогнать от себя это чувство несправедливости: вышло случайно, будь его сани первыми, вышло бы иначе.
Ну конечно, надо было сказать сразу: садись, Галя, ко мне!
Фу-ты, черт! Недоброе думает и о Толе: падай! Лучше слов не нашел, всегда он такой… И опять о Галине: матерится, пожалуй, на коров, как у нас на ферме Кланька. И мужики валят на солому, мнут, шлепают, тискают груди. Отбивается, смеется, а сама довольна… Потом поднимается, одергивает задранный подол: подойди еще, так оглоушу… На коров кричит: «Холеры окаянные, спасу на вас нет». Так думает Витька о Галине, а к груди подкатывает какая-то теплая волна, незнакомая, таинственная, непохожая на то, что знал в школе еще, когда во время игры в «ручеек» выбирал только Таню Вавилову. В шестом классе было. А в девятом! Целую весну страдал из-за кареглазой отличницы Ларисы. Отличница где-то в городе, в педагогический поступила. Перед отъездом Витьки из родной деревни прислала письмо: «Неужели Вы, Виктор, собираетесь так и остаться в деревне и похороните все свои мечты? Вы мечтали…»
Толя, прочитав это письмо, харкнул через прясло, прошелся перед Витькой, изображая Ларису:
– Как вы мечтали, жду вас на сеновале! Все они возвышенны, пока замуж не выскочат… Ухватятся – прощай, веселая жизнь. Не – е, мне вот бы что попроще…
– Откуда это в тебе? – петушился Витька.
– Что откуда?
– Цинизм твой.
– Набрался опыта, пока ты в школе штаны протирал. – Толя засмаливал папиросу, вскакивал на велосипед, крутил к своей пилораме…
Возы затянули веревками, вывели коней на дорогу. Повалил снежок, легкий, ласковый. Толя привязал повод Егреньки за передний воз, сел вместе с Витькой.
– Чё хорохоришься? Домой захотел, к мамке? Ну давай… А мне здесь нравится… Слыхал, Чемакин насчет рыбы толковал? А если и правда гребанем? Тонны «три сразу! И завтра и послезавтра! Трактора пришлют, самолеты… Деньги валом пойдут. Приоденемся. А в конце марта отпросимся и домой съездим. В городе зайдем к твоей отличнице. Сдохнет, как увидит!
Хитрит Толя, видит друга насквозь. Опытным взглядом уловил причину перемены Витькиного настроения. Но что делать, ему и самому нелишне с Галиной покрутить любовь.
– Убей меня бог лопатой, сдохнет, – продолжает Толя. – Ну, в мореходку, хочешь, вместе осенью пойдем? По направлению отдела кадров. Там старичок, помнишь, с орденом? Он даст направление как пить дать…
Скрипят полозья. Копыто в копыто ступает следом Егренька. Взмокли лошади, тяжела накатанная дорога, Витькина кобыла косит глазом, словно завидует Егреньке, – ему легче.
– Шел бы ты на свой воз, – говорит Витька, – тяжело…
– Пожалел волк кобылу, – хлопает Толя друга по плечу. Да… Ничего, – он доволен каким-то своим мыслям. – Учись… Меня, знаешь, тоже учили… Про походень я тебе не рассказывал?
– Да нет.
– Хо! Помнишь Семена Каргаполова? Ну, еще с ним работали двое: Петя красненький и Шабалкин. Мордовороты. Восьмой я как раз в ту весну закончил… с коридором. Значит, устроился ямки рыть под столбы. Гараж воздвигали. Ну, тот, что от электропроводки на Октябрьскую сгорел. Копаем, значит. Мордовороты чекушку в обед окожушили. Под мухой! Захотелось им надо мной поизгаляться. Не идет, мол, дело, землю лом не берет, суглинок угадал. «Сходи, – говорит мне Семен, – Толя, в аккумуляторную к Ефрему Макаровичу, он даст тебе походень». – «Что это, – спрашиваю, – за штука?» – «Инструмент такой», – говорит Шабалкин, а сам зубы скалит. Пошел. К Ефрему. У того глаза на лоб, не скумекал, видать, что к чему. Нету, говорит, у Орины, у сестры, значит, оставил. Пошел к ней. Собака за пятки ловит, готова живьем сглотить… Орина как раз крышку на погребе закрывает, квасу доставала. «Походень, – говорю, – у вас? Мужики, – толкую, – послали, ямки под столбы роем». Притворилась двоеданка: не помнит, видишь ли, где! Потом руками плеснула: «Павел Федорович забрал. Самой нужон, вторая неделя пошла, не несет». И так козырем смотрит, слышь, как бы крылечно не заследил. Но квасом напоила и кобеля успокоила… Да – а, дела, – тянет Толя, дышит в рукавички. – Ну, иду к Павлу Федоровичу. Сам знаешь, не близкий свет – на другой конец деревни тёнать… Опять та же песня: «Нету, – говорит, – к Вавиле к кузнецу на почшку отнес, забарахлил что-то инструмент. Может, гвоздей надо?» – «Зачем, – отказываюсь, – не надо, дедка». – «Смакованные, сто пиисят миллиметров», – хвалит. Ну, всучил мне горсть. Видишь ли, жалко ему моих трудов стало: намаял ноги по деревне.
К Вавилке уж на антихристову улицу не пошел. Глянул только – горн погашен в кузнице: на озере, стало быть, антихрист, сети ставит… Но! – гаркает Толя на кобылу. – Ну, вернулся, мордовороты ржут. Петя красненький месяц проходу не давал: принес походень? А у самого жилы от смеха лопаются…
Вот и Нефедовка – деревушка на двадцать дворов. От скотного двора несет силосом. За навозными кучами показалась и скрылась чья-то фигура в телогрейке… Не Галя? Нет, мужчина, на ногу припадает. Здешний управляющий. Утром гарцевал на коне. Приезжал здороваться. Воевал, сказывал Никифор.
Деревушку Витька только сейчас и сумел как следует рассмотреть. Старые почерневшие заплоты, венцы углов в трещинах, в смоляных подтеках. Прибиты жестянки с нарисованными ведрами, баграми, топорами. Это обозначено, кому и с чем бежать к месту пожара. У каждого дома двое ворот – с двух сторон.
– Зачем двое-то? – спрашивает Витька.
– Почем знаю! Наверно, чтоб легче было теку дать, если татары нагрянут.
– Все-то ты выдумываешь, Толька, – отмахивается Витька.
Толя соображает про себя, помалкивает.
На улице против Никифорова подворья рыбаки складывают невод. Сашка Лохмач, видать, несет какую-то ахинею. Яремин сверкает узкими глазами. Сердится. Суетятся Володя и Акрам. Не видать моториста и остальных, разошлись по квартирам.
– Сяй готов, пойдите, я распрягу, – встречает Шурка – конюх, озабоченно оглядывая запотевших лошадей.
– Сяй сяем, – передразнивает Толя, – а покрепше?
– Уха.
– Уха-а! Тоже родная сестра сяю.
Пока хлебали уху, обогревались, подступили ранние январские сумерки. В дом зашли Акрам с Володей. Они успели напилить с полкубометра дров из сушняка. Шурка – конюх управлялся с лошадьми. Нет только Лохмача. Не появился он и к ужину.
Толя лежит на печке. Скучно ему, нечем заняться. Попинал ногой ухваты, кинул варежкой в Володю, тот вздрогнул, уронил на пол книжку.
– Можно поосторожней.
– Ничего, я так… О чем там пишут? Почитай вслух, отчего деньги не ведутся. Ха!
– Тут не про это, Толя. Тут посерьезней вещи. Лукиан…
– Кто, кто?
– Писатель был такой во времена греко-римской империи, – серьезно объясняет Володя, – сатирик…
– Сатирик? Интересно. Ну и кого он бичует там?
– Тут не просто сатира, сложней все. Философская концепция… Показывает, в общем, нравственную несостоятельность рабовладельческой империи.
– Ишь ты! А тебе зачем знать про это?
– Каждый образованный человек обязан познакомиться с наследием прошлых…
– С наследием, – перебивает Толя. – Ты вот что – из одной чашки больше со мной не ешь. Соли набухаешь, скулы воротит. Второй раз заметил… Ладно. К слову я. Так про чё книжка-то?
– «Разговоры богов», например. «О смерти Перегрина», – читает Володя заголовки. – «Разговоры гетер», «Похвала мухе»…
– Мухе-е! – зашелся Толя в смехе. – Ты понял? Мухе! Витька, брось гармошку терзать. Мухе – похвала! Да за что ее хвалить? Давить эту тварь надо. Похвала!
Володя прикуривает от лампы папироску, ждет, пока Толя успокоится.
– Гетеры, или как их там, кто такие?
– Гетеры? Как бы популярней выразиться? – близоруко щурится Володя.
– Не надо популярно, шпарь в открытую.
– Ну, в общем, не совсем целомудренные женщины, в нашем понимании…
– В понимании!.. В моем понимании, наверно, обыкновенные б… Читай. О чем они там толкуют?
– Да вроде неудобно вслух-то, – жеманится Володя.
– Видали, ему неудобно, – Толя спрыгивает с печки, берет книжку, листает. – Так, так… так! Во! «С ума ты сошла, Филинна? Что это с тобой сделалось вчера на пирушке? Ведь Дарил пришел ко мне сегодня утром в слезах и рассказал, что он вытерпел от тебя…» Интересно! «Будто ты напилась и, выйдя на середину, стала плясать, как он тебя ни удерживал, потом целовала Ламприя, его приятеля…» Ишь ты! Ну, это пропустим, так. Ага! «…А Дафил задыхался от ревности при виде этого. И ночью ты, я полагаю, не спала с ним, а оставила его плакать одного, а сама лежала на соседнем ложе, напевая, чтобы помучить его».
Ну что я говорил? Так оно и есть… А про несостоятельность, Володя, ты верно ввернул. Лежит, понимаешь, на соседней перине баба, а он плачет. Это не-е, не по-нашему, – Толя, кажется, расстроился всерьез. Вышел на кухню, зачерпнул кружку холодной воды из чугуна, жадно выпил. Прильнул к оттаявшему окошку. Там, над лесом, поднималась луна.








