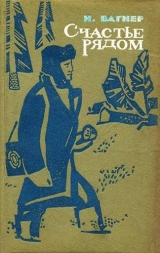
Текст книги "Счастье рядом"
Автор книги: Николай Вагнер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
5
Вскоре Андрей получил письмо от Аглаи Митрофановны. Она спрашивала о сроках выздоровления, предлагала отвезти Широкова в Северогорск. По ее мнению, для больного человека лучшего транспорта, чем ее неизменная кошевка, придумать было невозможно. И вот дни выздоровления наступили. Сразу после утреннего завтрака Андрей брался за костыли и ковылял по длинному больничному коридору. Следом за ним выбирался из палаты Кожевников. Закусив нижнюю мясистую губу и широко раздувая ноздри, он старался не отставать, но всегда первый просил пощады.
– Может, перекурим? – отдуваясь, спрашивал он, и они останавливались в дальнем конце коридора у большого светлого окна.
Однажды во время перекура к ним подошел Липкин со своей гипсовой ношей на груди. Он смотрел грустными глазами в окно и молчал.
– Не горюй, Липкин! – сказал ему Кожевников. – Скоро и ты выпишешься. Не пропадать же тебе здесь.
– Уж лучше бы я пропал. Там меня ничего не ждет.
– Быть того не может! Приходи в наш клуб и читай лекции о вреде табака. Проверяй, как твой «как-нибудь» обслуживает посетителей. Дела, при желании, найдутся.
– А ведь верно, Натан Исаакович, сейчас повсюду создаются советы пенсионеров, – поддержал Андрей. – Вот бы и вам включиться в их работу. И вам интересно, и людям польза.
– Сейчас нам пропишут пользу, – перебил Кожевников, заметив в коридоре Анастасию Николаевну.
Она подошла поближе и раздраженно спросила:
– Я вижу, указания врача для вас не существуют?
– Что вы, Анастасия Николаевна? – добродушно пробасил Кожевников.
– То, что слышите. Вам, кажется, предписано вставать в случаях крайней необходимости, а вы вон куда выбрались!
– Мы мечтаем, как бы совсем выбраться отсюда, – сказал Андрей. – Обещанные две недели прошли.
– И еще две пролежите! – оборвала Анастасия Николаевна.
– Ну это мы предоставим кому-нибудь другому. А меня прошу выписать на этой же неделе!
– Отправляйтесь в палату и ложитесь в постель!
Не сказав ни слова, Андрей резким движением руки поставил костыли к стене и, сжав кулаки, прихрамывающей, но твердой походкой пошел по коридору.
Уступив просьбам Андрея, Анастасия Николаевна выписала его, но в случае осложнений просила винить самого себя.
В крохотном вестибюле больницы его провожали Апполинария Александровна, Кожевников и Липкин. Натан Исаакович стоял в сторонке и часто мигал воспаленными веками. Обо всем этом Андрей вспомнил теперь среди ослепительно белых снегов, сидя в кошевке рядом с Кондратовой. Белесый жеребец Буян, на котором уже пришлось ездить Широкову год назад, теперь перестал быть буяном – шел ровной рысью, как заведенный автомат.
– Укатали сивку крутые горки, – сказала Кондратова, подбирая вожжи и щуря на солнце глаза. – Скоро, небось, и нас укатают. Это мой последний конь, больше объезживать не берусь.
– Нас не укатают, – возразил Андрей, посматривая на Аглаю Митрофановну. Глубже прорезались морщины у ее глаз, а волосы из-под шапки выбивались совсем белые. А может, это куржавина: мороз лютый. Только голос, твердый и энергичный, молодые глаза и вся ее крепкая мужская стать вселяли несбыточную мысль о том, что она будет жить долго-долго – вечно.
– Но-но, но! – прикрикнула она на Буяна, и он понес еще быстрее, выбивая подковами плотный снег.
Сани неслись ходко, повизгивая на мерзлом снегу. Ветер жег лицо. Андрей сидел вполоборота, укрывая лицо поднятым воротником. Больше всего мерзли ноги. «Скорее бы добраться до «Светлого пути», – думал он, – скорее бы попасть в тепло, отогреть онемевшие ноги».
– До «Светлого пути» далеконько, – как бы угадывая мысли Андрея, сказала Аглая Митрофановна. – Сначала обогреемся на лесной ферме, у Харитоши. А там и до «Светлого пути» – рукой подать.
В разговоре о Харитоше Андрей вспомнил летчика Фролова.
– Аглая Митрофановна, не припомните ли вы полное имя Фролова?
– Ивана-то? Как не припомнить! Чай, с детства его знала. И мать знала, и отца.. Мать учительствовала в нашей школе. Иван Тимофеевич врачом был. Только уехал он от них. В году так в тридцатом-тридцать первом... И раньше встречались ветреные люди, – заключила Кондратова, – только реже, чем теперь. Война и тут сказала свое слово, это уж так... Ноги-то, чай, совсем застыли? – спросила она как бы между прочим и подтянула сползший тулуп.
– Я нарочно кинула тулуп – мороз. И на обратном пути сгодится. В Северогорске-то у меня делов дня на два, а погода – навряд ли переменится.
Несколько минут ехали молча, но словоохотливая Кондратова заговорила опять:
– Старичок-то этот, рыжий, никак плакал? Неужто он так привязался или, может, одинокий?
Андрей сказал, что война отняла у него жену и дочь.
– Тогда понятно. Уж лучше одному прожить всю жизнь, чем на полдороге потерять близкого человека. Как фамилия-то ему, Липкин? Надо подсказать нашим старикам, чтобы нашли ему занятие. Без интереса к жизни пропадает человек ни за что ни про что...
Мороз затуманил солнце. Вскоре оно растворилось в сером мареве и исчезло где-то за вершинами притихших елей. Опустились сумерки. Внутренний озноб колотил Андрея. Он с надеждой вглядывался вперед, стараясь разглядеть шлагбаум узкоколейки и строения лесной фермы. И вот спасительный огонек. Сторожка глядела на дорогу красноватым немигающим глазом. Свет в оконце, казалось, притих под натиском морозного ветра. Притих, но не сдавался – не вздрагивал и не тускнел, обещая тепло и отдых.
Аглая Митрофановна дернула дверцу. Испарина и спертый воздух пахнули навстречу. Но там, в сторожке, было тепло, и Андрей, не раздумывая, шагнул через порог. Он увидел Харитошу, сгорбившегося возле дощатого стола у керосиновой лампы, железную печурку, гудевшую посередине пола, и девушку лет семнадцати, забравшуюся на лежанку. В свете лампы на струганой бревенчатой стене виднелся поблекший и стершийся, как давным-давно переведенная картинка, портрет человека в мундире.
Тепло приветило и отвращало. Застывшие руки и ноги приятно отходили, а в ноздри все острее напирал смрад...
– Откуда у вас такой дух? – спросила Кондратова, глянув на Харитошу. – Подохнуть можно...
Харитоша захлопотал. Он вскочил со скамьи, забормотал, неистово крутя головой, и откинул брезент, сгрудившийся у стены. На полу с оскаленными мордами и торчавшими вверх копытцами лежали туши издохших свиней.
– Чего вы их квасите? Взять да выкинуть на мороз.
– Фельдшера ждем, – объяснила девушка. – Обещал вчерась приехать, а все нет. Пять ден, как подохли. Только выкинем на улицу – из бригады звонят: размораживайте, фельдшер едет, вскрывать станет. Ан и так ясно, что с голоду подохли.
– Какой на ночь глядя фельдшер? А ну, Катерина, тяни их отсюда. Развели ароматы!
Девушка спрыгнула с лежанки, затянула у горла платок.
– А что, Харитоша, может, и верно выбросить?
Харитоша растерянно замахал руками, запричитал: «Что скажет начальство!» – а Катя, поколебавшись немного: «Опять же крысы их могут на улице пожрать, потом отвечай», – решительно натянула рукавицы. Она ухватилась за хвосты двух околевших свиней и поволокла их к двери. Потом столь же бесцеремонно выбросила двух других и распахнула дверцу. «Бу-бу-бу-у», – забормотал Харитоша, потирая руки. «Ничего, ничего, – успокоила Аглая Митрофановна, – такую баню не выстудишь!» Она взяла березовое полено и просунула в прожорливую пасть печурки. И все-таки холодный воздух подбирался к ногам и поднимался к низкому потолку хибары. Он вытеснял тепло и вместе с ним сладковатый трупный настой.
Наконец Катя прихлопнула низкую тяжелую дверцу, бросила на лежанку брезентовые рукавицы, сняла платок.
– Помогаете дежурить? – спросил Андрей.
– Сама себе помогаю, – усмехнулась Катя. – С утра свиней кормить надо, вот и сижу тут с Харитошей.
– Катя у нас свинарка. На ней да на ее матери вся ферма держится.
– Так держится, что свиньи дохнут.
– Свиньи... Знала бы ты, Катя, кто подложил тебе этих свиней. И тебе, и всем нам...
– А чего знать-то? Бригадир Зеленин кормов не припас. Вот и подложил.
– Эх ты, Зеленин... Головушка ты садовая.
– А кто?
– Кто-кто. Нет его ноне. Был, да весь вышел. Ан не весь? Ну да ладно, нечего тебе голову дурить. Будешь много знать, скоро состаришься. Вообще-то плохи дела в этой бригаде, – обратилась Кондратова к Андрею. – Земля не родит, да и любовь к ней поотбили. Ладно хоть со «Светлым путем» укрупнились. Не то бы совсем беда.
– А им с нами беда, – вставила Катя. – Нахлебниками кличут. Робишь, робишь, а все нахлебники.
Харитоша ходил по избушке, подбирал поленья в одну груду, наклонялся над брезентом, где недавно лежали туши свиней, и все покачивал головой. Словно жалел, что их выбросили.
– Да уймись ты, Харитоша. Ничего тебе не будет, – сказала Катя. – Мы тут ни при чем. Не с нас и спрос. Но Харитоша все равно не находил себе места. Сложив аккуратно брезент, он нахлобучил вислоухую заячью шапку и побрел к двери.
– Чудной! – сказала Аглая Митрофановна. «Не чудной, а какой-то забитый», – подумал Андрей и вспомнил свой спор с Антониной Подъяновой. «Не такая уж тут глухомань», – говорила она. Но от Харитоши, робкого и одичавшего, все-таки веяло глухоманью и стариной. Облик его никак не вязался с сегодняшним и тем более с завтрашним днем.
Андрей стоял возле печки, грел ноги и смотрел на Аглаю Митрофановну, на то, как ворошила она книжонки на полке, прибитой над столом, и переговаривалась с Катей.
– Сплошь животноводческие, – ворчала она. – Хотя бы одну художественную принесли. Ты ведь совсем молодая, а читаешь что?
– А мне некогда. Я в техникум поступать хочу. Мне бы учебники одолеть.
Кондратова расставила книги в том же порядке, как они стояли до этого, и присела на скамью.
– Ну, как, Андрей Игнатьевич, ожили?
– Хорошо! – ответил Андрей. – Тепла теперь до самого Северогорска хватит.
– Как сказать. Хватило бы до деревни.
Аглая Митрофановна начала собираться. Она застегнула крючки тулупа. Туго завязала шапку. Взяла кнут.
– Ну, Катюша, спасибо за постой! Читай свои науки. Не тоскуй.
Они простились с Катей и вышли на улицу. Здесь столкнулись с Харитошей. Он хлопотал возле околевших свиней и, как только открылась дверца, поволок их в избу.
– Чудак человек! – крикнула Аглая Митрофановна. – Чего ты возишься со своими покойниками?
– Бу-бу-бу, – лепетал Харитоша, затаскивая свиней. Потом выскочил на улицу, низко поклонился, прижав руку к груди, и тяжело хлопнул дверцей.
– Чудак... – повторила Кондратова, усаживаясь в санях. – Раньше в каждой деревне был свой дурак. И теперь, видно, не перевелись. А переведутся, обязательно переведутся.
«Не в них дело, – подумал Андрей. – Не чувствует себя Харитоша человеком». И еще подумал: «Не было в передачах Розы Ивановны ни дохлых свиней, ни низких удоев. Они обязательно росли, как и поголовье скота. Не хочет осложнять себе жизнь».
Остальную часть дороги говорили о Федоре Митрофановиче и любимой племяннице Кондратовой – Але.
– Небось, облюбовал Алюшку-то в невесты? – с плутоватой ухмылкой спросила Аглая Митрофановна. – А что, девушка ладная растет. Душой чистая и добрая. Пальцем никого не тронет и за себя постоит. Егоза только, ох, егоза!..
Глава шестнадцатая
1
– Ну-ну, – приговаривал Хмелев. – Значит, явился! Значит, нашего полку прибыло! Можно сказать, приехал в самый раз. Мальгин совсем зашился, да и Буров портит его, на корню. В портфеле ни одной оригинальной передачи. Дает выступления всевозможного начальства. Сплошная цифирь, сухие отчеты. А жизнь-то идет!.. Спасают немного репортажи с митингов. Конечно, чего проще записать речи на пленку и получить гонорар. Мальгина это устраивает, Бурова тоже. Глядя на них, так же работает Фролов. Вроде бы начал браться за ум, но ведь это здорово соблазнительно – потрафить начальству и не обременять себя хлопотами. Услышав о Бурове, Андрей ощутил такое чувство, будто он натолкнулся на какую-то преграду. Подобно тому, как в первые дни, когда он только переступил порог радиокомитета и когда его восторженность сменилась недоумением, а затем растерянностью, возвращение к прежней обстановке неприятно насторожило. Только не было теперь недоумения, потому что все представлялось достаточно ясным, несмотря на контрасты той жизни, которую он видел в лесоозерской тайге и с которой соприкоснулся здесь.
А Хмелев своим рассказом подливал масла в огонь.
– Однажды смотрел почту и натолкнулся на письмо главного врача лесоозерской больницы. Что, думаю, за штука? Оказалось – ответ на запрос Бурова. Ты понимаешь, до чего он докатился? Он, видишь ли, усомнился, что ты действительно покалечил ногу, выполняя задание. На партийном собрании я дал ему разгон и за это, и за срыв передач, и за Плотникова.
– Ну и что?
– Что! Все молчат, как воды набрали в рот. Насчет Плотникова говорил в обкоме. Его можно было бы восстановить, да не захотел он сам. Не могу, говорит, смотреть на Бурова. Жаль Ивана Васильевича, но, видно, сдает – не те годы.
– Мудрено не сдать. Вместо дела такая чепуха.
– Это тоже дело! – упрямо возразил Хмелев. – Работать мы должны независимо от Бурова и его прихлебателей. Работать и разоблачать их. А кто же будет за нас?
...Когда Андрей вошел в промышленную редакцию и увидел удивленное лицо Мальгина, голос Хмелева все еще звучал в его ушах. Он протянул руку Мальгину, и тот, дивясь изменившемуся виду своего редактора, запричитал. Не таким болезненным и измученным видел он его два месяца назад, значит, рано поднялся, перегружает себя, а это может повредить. Андрей в самом начале оборвал разглагольствования Мальгина.
– Рассказывай лучше, как идут дела.
Петр Петрович засуетился, достал из стола имевшиеся в запасе рукописи, говорил о тех, которые должны были вот-вот поступить. Мальгину помогали все – начиная от Хмелева и кончая техником аппаратной Олей Комлевой. Она часто приходила в редакцию, стенографировала по телефону сообщения из городов и даже организовала тематическую передачу.
– Все это хорошо, – перебирая рукописи, говорил Андрей. – Но ничего нет о людях. Об обыкновенной жизни. – Он аккуратно сложил рукописи и, опираясь на палку, встал из-за стола. – Ты, Петя, конечно, не виноват. Только засиделся ты на месте. Отсюда человека не увидишь. Ни строителя, ни прокатчика... Надо ехать. К металлургам, в бассейн, в лес.
Мальгин не удивился. Он знал беспокойный характер Андрея, однако возразил: «Сразу все города и заводы не объездишь».
– Не одному тебе.
– А кому еще? – недоумевающе спросил Мальгин.
– Ты что, меня на инвалидность списал? Вприсядку я тебе плясать не буду, но ходить и тем более ездить – могу. Но сначала поедешь ты, а я разберусь с делами. А теперь давай выбирать маршрут. Дай карту области.
В дверь неуклюже протиснулся Фролов. Улыбаясь ленивой, ничего не выражавшей улыбкой, поздравил Андрея с выздоровлением.
– С вами как будто ничего и не случилось. Выглядите молодцом, право. А мы вот крутимся! Я даже премьеру в оперном пропустил, правда, был на просмотре, но ведь это совсем не то, совсем не то...
– Вот именно! – раздраженно ответил Андрей, но сразу взял себя в руки. – Конечно, кому что нравится. Только непонятно, как может нравиться человеку, когда он теряет время.
– Почему теряет, наоборот, – оживился Фролов. – Гиппократ говорил: искусство обширно, а жизнь коротка. Это же замечательно! Можно встать, когда почувствуешь, что выспался, лечь, когда заблагорассудится, словом – любые желания подвластны тебе. Оптимум медикаментум квиес эст [2]2
Оптимум медикаментум квиес эст – наилучшее лекарство – покой (лат.).
[Закрыть].
– Оциа дант вициа [3]3
Оциа дант вициа – праздность рождает пороки (лат.).
[Закрыть], – ухмыльнувшись углами рта, ответил Андрей.
– Не будем мудрствовать, Виктор Иванович, – заговорил он с живым интересом и дружелюбно. – Не объединить ли нам усилия? Сделаем несколько совместных передач. Обеим нашим редакциям надо показывать людей, их мысли, труд. Съездите к шахтерам, а я за двоих поработаю здесь. Не подведу!..
Фролов еще не сказал ни слова, но по выражению его лица уже можно было прочесть, насколько неприятным и неприемлемым для него было это предложение. Андрей в упор смотрел ему в глаза, и надо было отвечать.
– Видите ли, много дел. Потом – стоят морозы, а у меня здоровье, сами знаете... Промерзнешь и свалишься – кому это надо? Теперь не то время, чтобы выезжать на одном энтузиазме. Это было бы наивным.
Он встал со стула, на которого удобно сидел, закинув ногу на ногу, и, переваливаясь, приблизился к дверям. Наступила тишина. Андрею страшно захотелось разорвать ее отборной бранью или броситься на Фролова, тряхнуть его изо всех сил и заставить отказаться от сказанного, но он не двинулся с места. Только еще больше обострились скулы на его лице, еще лихорадочнее заработала мысль, а взгляд оставался спокойным и даже безразличным. И лишь когда створки двери сомкнулись за широкой спиной Фролова, он словно очнулся и зло крикнул:
– Вернись!
Фролов открыл дверь и, подчеркнуто строго опустив руки, спросил официальным тоном:
– В чем дело? Что за манера разговаривать?
Андрей, прихрамывая, шагнул к Фролову и встал перед ним, уничтожающе глядя в глаза.
– Ты знаешь, как погиб твой брат?
– Какой брат? – растерянно спросил Фролов. – И вообще, что это за комедия?
– Ах, у тебя нет братьев!? Брат по отцу?..
– Ну и что? Что из того?..
– То, что он погиб, а ты даже не знаешь как.
– Это не ваше дело. Вы к этому не имеете никакого отношения.
– К чему ты вообще имеешь отношение? К чему?! – закричал Андрей, наступая на побледневшего Фролова. Решительное выражение его лица и крепко сжатые кулаки не оставили и следа от напыщенности Фролова. С несвойственной ему легкостью он выскочил из кабинета и торопливо захлопнул за собой дверь.
– Вот наши враги! – бросил Андрей оторопевшему Мальгину.
– Кто? – все еще недоумевая, спросил Мальгин.
– Все, кто живет для себя. Понятно?!
Мальгин поспешил согласиться, но внутренне засомневался – так ли это? Кто не живет для себя? Каждый несет в свой дом заработанное и купленное, каждый хочет жить в достатке и далеко не каждый станет возмущаться несправедливостью сильного, если она не задевает тебя самого. Разве только один Широков и другие одиночки – не живут для себя. Но это пока, до поры до времени: женится, появятся дети – и задумается. Уверившись в этой мысли, Мальгин решился высказать ее вслух.
– Андрей Игнатьевич, а кто не живет для себя?
Он спросил и приготовился к незамедлительному разносу, но был неожиданно озадачен, когда услышал:
– Например, ты.
Петр Петрович был польщен, и он не растерялся:
– Ну да, ясно, я не говорю о нас, журналистах, а вот, если взять вообще, в массе?
– Говоришь о собственной сознательности, а уразуметь не можешь – массы построили социализм и, уж конечно, не за счет того, что каждый жил для себя! Андрей ловко схватил трость, как будто проходил с ней всю жизнь, и направился к двери. – Идем! Идем к Хмелеву насчет командировки.
В коридоре они неожиданно столкнулись с Олей Комлевой. Оказалось, что она уже не менее получаса ходила здесь и не решалась заглянут в кабинет.
– Вот ведь какая я трусиха, – призналась она Андрею и Мальгину. – И разве это трусость? У человека, можно сказать, решается судьба. Я еще не знаю, как вы, Андрей Игнатьевич, посмотрите, а для меня – это мечта... мечта всей жизни.
Комлева говорила сбивчиво, с трудом подыскивая слова, на ее белом лице проступили розовые пятна. Широков даже и не догадывался о том, что эта, на первый взгляд, легкомысленная и не задумывающаяся о жизни девушка еще несколько лет назад решила стать журналисткой. Для этого она поступила на курсы стенографии и теперь думала об учебе в университете, а работа в аппаратной ее, как она выразилась, не захватывала.
– А кого работа не увлекает, – закончила Оля, – тот мало приносит пользы.
– Что верно, то верно, – согласился Широков. – Однако надо подумать и поговорить с начальством. Заходи через недельку и не теряй надежды. – Андрей ободряюще улыбнулся и, кивнув Оле, открыл дверь кабинета Хмелева.
Глава семнадцатая
1
Воскресный день в доме Кондратовых начинался с аппетитного аромата уральских картофельных шанег. Этот приятный запах, напоминавший о поджаристых, с тонкой хрустящей корочкой изделиях Веры Ивановны, доносился даже в комнату Андрея, самую отдаленную. И он знал, что нежиться в постели уже не придется, вот-вот раздастся в дверь осторожный, но настойчивый стук, а затем последует приглашение хозяйки. Знал Андрей и то, что отказаться от воскресного завтрака не удастся. За стуком Веры Ивановны послышится царапающий звук тонких пальцев Али, подражающей шуршанию мыши, а потом безо всякого предупреждения в комнату явится сам Кондратов и, собрав под усами всю суровость, на которую он только способен, скомандует: «Подъем!». Затем Федор Митрофанович будет выжидающе ходить из угла в угол, брать попадающиеся под руку книги и журналы, класть их на место, останавливаться посредине комнаты и снова грозно повторять свою команду. И тогда придется при нем вылезать из-под одеяла.
На этот раз он предвосхитил даже стук Веры Ивановны. Когда она только приблизилась к двери, Андрей вышел ей навстречу и, пожелав доброго утра, поспешил к умывальнику.
Вскоре все четверо сидели за столом. Он был накрыт белой накрахмаленной скатертью с широкой розоватой каймой и уставлен сверкавшими на солнце стаканами, сахарницей, пузатым электрическим самоваром и большим круглым блюдом, на котором высилась гора румяных шанег.
– Берите, какая понравится, – предлагала Вера Ивановна. – Вот эта так и смотрит на вас.
Андрей взглянул на блюдо и понял, что выбирать не имело смысла, – шаньги были одна красивее другой.
– Как в детстве! – сказал он, надкусив воздушный душистый край.
Вера Ивановна тем временем разливала в стаканы крепкий чай, по вкусу каждого накладывала сахар. Напоминали детство и яркие лучи солнца, которые падали на стол. Вот так же в северогорской квартире пробивались они через белесые заросли папоротника, которые переплетали стекла и прозрачной наледью сбегали вниз. Сквозь голубые просветы в окне виднелись обросшие изморозью ветви сирени, над соседним домом неторопливо поднималась прямая струйка белого дыма. Январские морозы сковали уральскую землю прочно и надолго.
Как бы угадывая мысли Андрея, Федор Митрофанович сказал:
– Зима нынче по всем правилам. В шесть утра было тридцать пять. В ближайшие два-три дня, – продолжал он, отхлебнув горячего чая, – существенных изменений не ожидается.
– Значит, будет все наоборот, – озорно сверкнув глазами, вставила Аля. – По радио всегда так: скажут дождь – будет сушь, скажут сушь – будет дождь.
– При чем здесь радио, это дело метеорологов.
– Погода от них не зависит, – упорствовала Аля.
– Погода не зависит, а предсказывают они.
– Пусть тогда правильно предсказывают!
– Предсказывают! – выходя из равновесия, буркнул Кондратов. – А если циклон?
– Что циклон?
– А вот то – взял и возник, неожиданно...
– Пусть вставляют слово: возможно; может, дождик, может, снег, может, будет, может, нет. Спасибо! – улыбаясь, выкрикнула Аля, встала из-за стола и скрылась в соседней комнате.
– Егоза! – добродушно сказал Кондратов и, отодвинув блюдце со стаканом, принялся разминать папиросу. Не торопясь зажег спичку, выпустил клубящуюся струю дыма.
– Да... У нас морозы, а где-нибудь в Крыму или на Кавказе теплынь. Уж до чего мы хорошо отдохнули прошлым летом. Жарковато, правда, но зато какое море!... Стихия! Лежишь на песке и смотришь, смотришь – и не веришь глазам, что может быть столько воды. Красота! А вечером прохладно и такой воздух – дышишь и не надышишься. Мы с Веруней каждый вечер в палисадничке просиживали. Кругом темень, небо черное, а на нем вот такие звезды. И музыка доносится невесть откуда.
Вера Ивановна убрала со стола и мыла на кухне посуду. Кондратов и Андрей продолжали сидеть на прежних местах и завели разговор о работе. Андрей всегда был в курсе дел кузнечного цеха, знал не только, как он справлялся с планом, велик ли задел, но и представлял, кто из кузнецов, их помощников, мастеров и бригадиров – в какую смену работал. Известны ему были и дни профсоюзных, партийных собраний, какие вопросы на них обсуждались, ну и, конечно, мнение по каждому вопросу, которого придерживался Федор Митрофанович. Мнение это было чаще всего самым правильным не только с точки зрения Кондратова, но и Андрея. А вот сегодня он не мог решить, прав ли Федор Митрофанович.
– Представь себя на моем месте, – горячился Кондратов. – Я рабочий человек, к тому же – председатель цехкома. И вот приносят мне на подпись шпаргалку. Это значит, я должен заверить, что Илья Борисович Килин действительно прочитал лекцию рабочим нашего цеха и присутствовало на ней четыреста человек. Спрашиваю: для чего такая бухгалтерия? А мне говорят – совершенно правильно понимаете, Федор Митрофанович, – бухгалтерия, а значит, документ должен быть подписан по всей форме. И вот ты скажи мне, Андрей Игнатьевич, как эго понимать? Этот самый Килин читал в цехе лекцию о решающем периоде перехода к коммунизму за деньги?! Да ведь, узнав об этом, потомки нас засмеют! Ну хорошо, – не успокаивался Кондратов, – пусть Килин получит свои пятьдесят рублей – не жаль. Денег не жаль, но сам-то Килин как выглядит? Его-то сознательность где? И где то понимание агитационной работы, которое было в двадцатых годах? Не по бедности же своей мы не платили деньги первым партийным пропагандистам. Чего молчишь?
– Не знаю, что и сказать, – ответил Андрей, поглаживая примостившегося у него на коленях кота.
– То-то и оно. Бумагу я подписал, а надо ли было ее подписывать – не уверен и по сей час. Ты спроси у своего Кравчука, откуда повелась такая политика, может быть, он тебе объяснит.
– Может быть, обязательно спрошу, – отозвался Андрей, подумав о том, что рано или поздно неугомонный кузнец непременно напомнит о сегодняшнем разговоре, задаст этот же самый вопрос и не ответить ему будет нельзя.
– Или вот еще, – продолжал Кондратов. – Есть у нас один инженер. В технике безопасности. Когда он работает – не поймешь. Целыми днями торчит в завкоме, делегации разные по заводу водит, успевает на все совещания и на каждом речь держит. Глядишь на него и думаешь: нет человека нужнее. Незаменимый! А никому и в голову не приходит, что он пустоцвет и нету от него никакой пользы. Ты понимаешь – нет пользы?! А живет, хлеб ест. Все свыклись с его суетой, все думают, что без него и обойтись-то нельзя и что премия ему обязательно положена. А уж придет время отпуска – подавай путевку; вернется с курорта – гони безвозвратную ссуду. Вот и скажи, есть у такого понятие о совести и как вообще изжить эту породу людей? Категория людей, о которых говорил Кондратов, Андрею была знакома. Вот и Ткаченко с Розой Ивановной не утруждали себя работой, а на курорт за счет профсоюза ездили ежегодно. Но говорить о них не хотелось, чтобы не ворошить неприятные воспоминания.
– У них не хватает скромности, – сказал он, – а у нас прямоты. Отказывать надо. Пусть о товарищах думают. В самом-то деле – не одни они членские взносы платят.
– Такие подумают...
В комнате со свежими газетами и письмом появилась Аля.
– Заставила бы поплясать, – сказала она, размахивая конвертом, – да жаль вашу больную ногу.
– Стоит ли плясать? – стараясь быть равнодушным, спросил Андрей.
– Это уж вам виднее! – многозначительно произнесла Аля и положила письмо на стол.
На конверте прямым крупным почерком был написан адрес, под фамилией Андрея спокойно легла двойная волнистая черта, в углу стоял штамп Харьковского почтамта.
Письмо от Жизнёвой пришло после долгого перерыва. За время болезни Андрей ни разу не написал ей и теперь понял, что молчание Татьяны Васильевны объяснялось обыкновенным женским самолюбием. Не получив ответа на два письма и на телеграмму, она сочла неудобным напоминать о себе. Только узнав из открытки Кедриной о беде, случившейся с Андреем, сразу же отправила вот это полное тревоги письмо. Она требовала немедленно сообщить о состоянии здоровья и о том, в чем он нуждается, выражала готовность в случае необходимости прилететь на самолете, спрашивала, не мог ли он сам приехать на юг.
Андрей долго сидел молча, не выпуская из рук письма. Не сразу он ответил и на вопрос Кондратова. И только спустя несколько минут, как бы очнувшись, сказал:
– От друга, Федор Митрофанович. От хорошего друга.
– Ну, ну, а тут тоже неплохие вести, – он протянул газету. – Только вчера слушали по радио, а сегодня – пожалуйста, полное описание. Представь: вторая космическая скорость, первый межпланетный полет. Вот куда шагнула Россия! Чего молчишь?
– И я говорю – здорово! Жаль только, что одни прорываются к звездам, а другие не могут оторвать нос от земли.
Он рассказал о столкновении с Фроловым и выговоре, который последовал на другой день в приказе председателя. Андрей понимал, что поступил опрометчиво и глупо, что он просто-напросто сорвался, и все-таки был глубоко убежден в неправоте Бурова. Стиль его работы, приспособленцы, которые тянулись к нему, – не могли оставаться не замеченными всеми, кто соприкасался с жизнью радиокомитета. По какому же праву он продолжал занимать свое место, служил живым напоминанием о прошлом, омрачившем жизнь всей страны? Или в самом деле это прошлое настолько живуче и цепко? Или ему на смену действительно пришло равнодушие?..
– Не знаю, – задумчиво проговорил Федор Митрофанович. – У нас такого вроде не водится. Видно, эти самые культы больше живучи среди начальства, в учреждениях. Рабочий класс, он прямо вопрос ставит. Сфальшивит кто, напрямую ему выложат. Вот и моргай перед собранием да мотай на ус. А в зале-то, может, все пятьсот человек сидят. Нет, у нас культа быть не может, а если и вынырнет – все равно он сам себя изживет. «Пока изживет, – подумал Андрей, – многие еще наплачутся. Вот и Оля Комлева. Ни за что не захотел Буров зачислить ее в штат: «Не надо нам финтифлюшек!» А ведь она способная и с завидным желанием работать».








