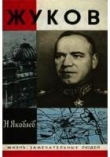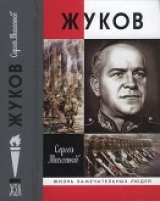
Текст книги "Жуков. Маршал на белом коне"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 48 страниц)
Глава сорок шестая
В отставке
«Он оказался политически несостоятельным деятелем, склонным к авантюризму…»
Он был единственным Маршалом Советского Союза, уволенным в отставку. Первое время жил надеждой, что успокоятся, призовут. Готов был принять любую, самую скромную должность, лишь бы снова вернуться в армию. Постановление октябрьского пленума теплило в нём надежду: «Секретариату ЦК КПСС предоставить т. Жукову другую работу».
Из воспоминаний Эллы Георгиевны: «Первое время отец надеялся, что не останется не у дел. Ведь ему было чуть за шестьдесят, он сохранил силы и здоровье, стремление использовать свой колоссальный опыт для военного строительства. Однажды, вернувшись домой из института, я увидела отца в столовой. Он сидел в кресле у окна, держа в руках какой-то листок бумаги, и был явно удручён. На мой вопрос: “Пап, что случилось?” – он ответил, что уже не первый раз пишет на имя Хрущёва просьбу предоставить любую работу. Готов командовать округом, готов возглавить военную академию, стать, наконец, рядовым преподавателем. И вот получил очередной отказ: “В настоящее время предоставить вам работу представляется нецелесообразным”».
Жукову оставили порученца Ивана Прядухина, двоих охранников – Николая Пучкова, Сергея Маркова и солдата, который занимался хозяйством. Чистил снег на дорожках, убирал листву.
Зимой маршал порой выходил в сад и сам брался за лопату. Осенью вместе со всеми окапывал яблони. Любил собирать грибы.
Однажды, это случилось вскоре после злополучного пленума, вместе с Николаем Пучковым он бродил по лесу в окрестностях Сосновки. Набрали полные корзины грибов. Возвращаться на дачу не хотелось. Он остановился на опушке и сказал охраннику:
– Посмотри-ка, Николай Иванович, какой красивый дубок растёт… – И погладил кору молоденького дуба. – Знаешь что… Сходи-ка за лопатой, а я тут посижу.
Вскоре Пучков вернулся с лопатой. Корень оказался довольно глубоким, и им пришлось основательно поработать, чтобы не загубить саженец. Копали по очереди. Выбрасывали из довольно глубокой ямы серую лесную землю, добрались до глины, а корень всё уходил в глубину. Это восхищало Жукова.
– Николай Иванович, копай глубже, – передавая лопату, сказал он Пучкову. – Корень не потревожь.
Дубок посадили под окнами напротив столовой. На следующий день Жуков оградил саженец колышками и первое время заботливо поливал.
В следующем году на Поклонной горе закладывали первый камень будущего монумента Победы. Устроители торжества позвонили маршалу накануне и пригласили на закладку. По воспоминаниям Николая Пучкова, он, по распоряжению Жукова, вызвал из гаража к 10.00 автомобиль. Машина прибыла, и хозяин дачи, стоя в прихожей перед зеркалом, уже застёгивал маршальскую шинель, когда раздался телефонный звонок. Звонили из Министерства обороны. Порученец Малиновского коротко известил: приезжать на Поклонную гору не надо. Николай Пучков, принимавший это распоряжение, мгновенно отреагировал:
– Пусть с маршалом свяжется тот, кто его приглашал на мероприятие. И хотя бы извинится.
Спустя несколько минут расстроенный Жуков вышел из кабинета и сказал Пучкову:
– Николай Иванович, отпустите машину.
В 1960 году отключили телефон.
Потом начались перебои с подачей воды. Зимой водопровод перемерзал.
Комендантом дачи в Сосновке был подполковник Иван Александрович Прядухин. Он ездил в Москву, договаривался со старыми сослуживцами маршала, и те, тайком от начальства, производили некоторые работы, чтобы облегчить семье Жукова жизнь в Сосновке. Военные связисты отремонтировали телефонную линию, курсанты Военно-инженерной академии им. Д. М. Карбышева пробурили артезианскую скважину и обеспечили жильцов госдачи питьевой водой.
Между тем в прессе шла травля.
Жукова сняли с партийного учёта в Министерстве обороны. Учётную карточку направили в Краснопресненский район, в одну из заводских парторганизаций. Теперь на партийные собрания он должен был ездить на завод. Видимо, расчёт делался на то, чтобы как можно плотнее блокировать общение опального маршала с бывшими сослуживцами и вообще с военными. Его возможное влияние на сотрудников аппарата Минобороны считали нежелательным и даже опасным.
Однако на пресненском машиностроительном заводе новоприбывшего члена партии сразу полюбили. Правда, выступать на партсобраниях ему было категорически запрещено.
В это время Жуков был окружён роднёй. Захаживали и бывшие сослуживцы – из самых верных. Генерал Крюков с Руслановой. Баграмяны. Генералы А. П. Белобородов и И. А. Плиев. Но чаще всех бывал генерал Н. А. Антипенко. С Николаем Александровичем, бывшим своим заместителем по тылу, он мог говорить откровенно. Знал: не выдаст, не предаст. Несколько раз Антипенко писал в Президиум ЦК и Брежневу. Писал смело. Не просил, а требовал реабилитации боевого товарища и друга: «Приближается 20-я годовщина победы над фашистской Германией. У миллионов людей естественно возникает вопрос – долго ли будет продолжаться состояние дискриминации одного из прославленных советских полководцев Маршала Советского Союза тов. ЖУКОВА Г. К., заслуги которого перед народом в минувшей войне трудно переоценить?
Имя Жукова произносилось и поныне произносится советскими людьми с большой любовью, несмотря на самую “сгущённую” и порой надуманную ситуацию.
Иностранная печать и радио явно перебарщивают в прославлении своих, часто незадачливых военачальников периода минувшей войны, но даже и там имя Жукова занимает подобающее место. Советская же печать и радио как бы предали забвению имя этого заслуженного человека, что вызывает ещё большее недоумение и возмущение.
Политическая реабилитация Маршала Советского Союза Жукова Г. К., которой ждут миллионы людей, прозвучала бы на весь мир как долгожданное восстановление справедливости».
На даче в Сосновке к тому времени полноправной хозяйкой стала Галина Александровна. В Москву Жуков по-прежнему отправлял порученца Ивана Прядухина. Тот вспоминал: «Мне приходилось возить продукты из жуковской дачи в Сосновке в Москву к первой жене Георгия Константиновича Александре Диевне. Она спрашивала: “Как там живёт Георгий Константинович?” В свою очередь Галина Александровна тоже выведывала: “Как там?” Моя дежурная фраза: “Не знаю” вызывала женские упрёки: “Всё не знаешь и не знаешь…”».
Хозяин дачи стал много возиться с землёй. Всколыхнулось родовое, мужицкое. Пересаживал, делил кустарники, сажал клубнику. Во всём знал толк. Когда Иван Прядухин привёз саженцы молодой клубники, с восхищением посмотрел на них и спросил:
– Где такой хороший сорт достал?
– На выставке.
Яблоневый сад занимал два гектара – 200 деревьев различных сортов. За садом присматривали специальные работники, знавшие толк в садовом деле. Но хозяин во всё вникал сам. Порой торопил то с обрезкой, то с побелкой штамбов, то с опрыскиванием от вредителей: «Зимой сани не готовят…»
С некоторых пор Жуков стал ценить тишину и немногословие домашних. Даже Галине Александровне мог сказать: «В двух словах можно изъясниться, а ты тарахтишь…» И Прядухину: «Короче, Иван Александрович. Мог бы в дороге в машине обдумать, что говорить».
Похоже, Жуков наслаждался тем, что наступила пора в его жизни, когда можно спокойно подумать, что никакой порученец не окликнет тебя срочно подойти к телефону на звонок Верховного, министра, Генерального секретаря…
Галина Александровна после декретного отпуска вышла на работу. Жуков, ещё будучи министром обороны, устроил её в госпиталь им. Бурденко. Выхлопотал квартиру на улице Горького. Галина перевезла к себе мать Клавдию Евгеньевну. Теперь Клавдия Евгеньевна нянчила внучку Машу.
Жуков пытался привести в порядок, так сказать, юридическую часть своих семейных отношений. Надо было зарегистрировать брак с Галиной Александровной. Но Александра Диевна не давала развод. По-женски, видимо, ещё надеялась, что муж одумается и вернётся к ней.
Маршальскую квартиру в доме на улице Грановского Александра Диевна разменяла. Летом жила на даче в Лесном городке. Её Жуков купил для Галины Александровны. Но потом решил остаться в Сосновке. А дом в Лесном городке отдал первой семье. Кроме того, выплачивал Александре Диевне ежемесячно 200 рублей и передал кремлёвскую продовольственную карточку. Продовольственную карточку отоваривал Иван Прядухин и сразу же пакеты с продуктами увозил Александре Диевне.
Откровенничать Жуков мог только с самыми близкими – с женой, Крюковым и Руслановой. И то – во время прогулок по саду и в лесу. Дача была нашпигована «жучками», и он об этом знал. Это, конечно, раздражало. Заметил: в доме даже думать было тесно, неуютно – как будто что-то давило, угнетало. С одной стороны – жил затворником («Я нигде не бываю, вообще ушёл от мира сего и живу в одиночестве…»), с другой – как в прозрачном аквариуме…
Время от времени звонили из газет и журналов, просили о встрече для интервью. В том числе иностранные журналисты. Жуков отказывал.
Не заживала рана от публикаций, которые посыпались сразу после пленума. Секретное постановление ЦК КПСС «Об улучшении партийно-политической работы в Советской Армии и Флоте» от 29 октября 1957 года как закрытое письмо ЦК зачитывали на партийных собраниях во всех армейских и флотских партийных организациях, на предприятиях, во всех учреждениях, колхозах и совхозах.
Партийцы есть партийцы. Сразу по прочтении закрытого письма в газеты пошли их отзывы. Негодовали. Поддерживали линию партии: «…т. Жуков Г. К. не оправдал оказанного ему партией доверия. Он оказался политически несостоятельным деятелем, склонным к авантюризму как в понимании важнейших задач внешней политики Советского Союза, так и в руководстве Министерством обороны». Через строки партийного документа, спущенного в низовые партийные организации, проглядывал этакий батька Махно с троцкистским уклоном…
«Правда», «Известия», «Красная звезда», областные, краевые и республиканские газеты – все старались не отстать и пнуть побольнее. Даже на родине.
Газеты Жуков в руки не брал долгое время.
Отмашку к началу травли дала флагманская «Правда». В секретариате ЦК быстро заготовили текст статьи под названием «Сила Советской армии и Флота – в руководстве партии, в неразрывной связи с народом». Основная суть: Жуков – зарвавшийся бонапартист, наделавший много ошибок в руководстве вооружёнными силами Советского Союза, и главной его ошибкой стала недооценка роли партии в победах армии. Хрущёв нашел подходящую кандидатуру на авторство – Конев! Вот кто подпишет статью! Хоть Иван Степанович и заверяет, что он не друг Жукову, но в Министерстве обороны маршалы заправляли дружной парой. И было время, когда Жуков предлагал на должность министра МВД Конева. Вдвоём бы эти покорители Берлина дел наворотили… Хрущёв потирал руки – сюжетец он придумал классический.
Статью нарочным послали маршалу Коневу. Тот сперва заартачился. Потом, когда припёрли, попросил время, чтобы прочитать и внести некоторые правки.
Говорят, Конев просидел над статьёй всю ночь.
Хрущёву постоянно докладывали: сидит, правит. «Старайся, не старайся, всё равно статья завтра выйдет за твоей подписью», – злорадствовал Никита Сергеевич.
Когда подписанный Коневым текст привезли в Кремль, Хрущёв позвонил «автору» и сказал:
– Завтра в «Правде» читай свою статью. И без фокусов. Понял?
Говорят, что в печать пошёл не тот вариант, над которым работал Конев, а тот, который был заготовлен в секретариате ЦК.
Вскоре после публикации Жуков и Конев встретились на улице. Конев, чувствуя вину, извинился.
– Ну раз так, Иван Степанович, напиши опровержение! – предложил Жуков.
– Георгий Константинович, ты же понимаешь, что это невозможно. Не напечатают. Это ведь решение партии, в нашей стране это закон.
Вскоре Хрущёв уберёт и Конева. Для него он был человеком Жукова.
Когда победители делили лавры, Хрущёв, довольный исходом схватки и в порыве благодарности маршалу за спасение, высказал слова благодарности за наведение должного порядка и дисциплины в Министерстве обороны.
– Вот бы нам ещё и в МВД порядок навести, – сказал Никита Сергеевич, – да нет подходящего человека.
– Есть такой человек! – простодушно и по-солдатски мгновенно отреагировал Жуков.
– Кто? – спросил Хрущёв.
– Мой заместитель – Конев.
Ещё тогда Хрущёв призадумался: танки, обращение к армии и народу, а тут ещё и, похоже, заранее подготовленная кандидатура на пост второго силового ведомства, значит, и об этом он думает…
Трудно теперь сказать, кого из маршалов больше угнетала та статья в «Правде», которую можно было расценивать как предательство. Конев до конца жизни мучился от своего малодушия. Жуков негодовал. Предательство! И кто предал?
Но всё же они помирились.
В декабре 1968 года Конев праздновал своё семидесятилетие. Был приглашён и Жуков. Свои дни рождения Иван Степанович отмечал каждый год и всегда приглашал своих боевых товарищей. Но Жуков приглашения с некоторых пор не принимал. А тут – приехал! Маршалы обнялись. Слёзы стояли в их глазах.
Константин Симонов вспоминал: «Среди приглашённых и пришедших на эту встречу был Жуков. И его приглашение в этот день, в этот дом, и его приход туда имели особое значение. Судьба сложилась так, что Жукова и хозяина дома на долгие годы отдалили друг от друга обстоятельства, носившие драматический характер для них обоих, для каждого по-своему. А если заглянуть ещё дальше, в войну, то и там жизнь, случалось, сталкивала их в достаточно драматической обстановке. Однако при всём том в народной памяти о войне их два имени чаще, чем чьи-нибудь другие, стояли рядом, и в этом всё-таки и состояло самое главное, а всё остальное было второстепенным.
И когда на вечере, о котором я вспоминаю, после обращённой к хозяину дома короткой и полной глубокого уважения речи Жукова оба эти человека обнялись, должно быть, впервые за многие годы, то на наших глазах главное снова стало главным, а второстепенное – второстепенным с такой очевидностью, которой нельзя было не порадоваться.
А потом на этом же вечере один из присутствующих[197]197
Этим «присутствующим» был А. А. Епишев – генерал армии, начальник Главного политуправления. Именно он душил мемуары фронтовиков: «Кому нужна ваша правда, если она мешает нам жить?»
[Закрыть], считая, что он исполняет при этом свою, как видно, непосильно высокую для него должность, вдруг произнёс длиннейшую речь поучительного характера.
Стремясь подчеркнуть свою причастность к военной профессии, он стал разъяснять, что такое военачальник, в чём состоит его роль на войне и, в частности, что должны и чего не должны делать на войне командующие фронтами. В общей форме его мысль сводилась к тому, что доблесть командующего фронтом состоит в управлении войсками, а не в том, чтобы рисковать жизнью и ползать по передовой на животе, чего он не должен и не имеет права делать.
Оратор повторял эту полюбившуюся ему и, в общем-то, в основе здравую мысль долго, на разные лады, но всякий раз в категорической форме. С высоты своего служебного положения он поучал сидевших за столом бывших командующих фронтами тому, как они должны были себя вести тогда, на войне.
Стол был праздничным, а оратор был гостем за этим столом. В бесконечно отодвигавшемся конце своей речи он, очевидно, намерен был сказать тост за хозяина. Поэтому его не прерывали и, как это водится в таких неловких случаях, молчали, глядя в тарелки. Но где-то уже почти в конце речи при очередном упоминании о ползании на животе Жуков всё-таки не выдержал.
– А я вот, будучи командующим фронтом, – медленно и громко сказал он, – неоднократно ползал на животе, когда этого требовала обстановка и особенно когда перед наступлением своего фронта в интересах дела желал составить себе личное представление о переднем крае противника на участке будущего прорыва. Так что вот, признаюсь, было дело – ползал! – повторил он и развёл руками, словно иронически извиняясь перед оратором в том, что он, Жуков, увы, действовал тогда вопреки этим застольным инструкциям. Сказал и уткнулся в свою тарелку среди общего молчания, впрочем, прерванного всё тем же оратором, теперь перескочившим на другую тему.
Даже сам не знаю почему, мне так запомнился этот мелкий штрих в поведении Жукова в тот вечер. Скорее всего потому, что в его сердитой иронии было что-то глубоко солдатское, практическое, неискоренимо враждебное всякому суесловию о войне, и особенно суесловию людей, неосновательно считающих себя военными».
Жуков и на склоне своих лет оставался Жуковым. Хотя тот довольно резкий выпад в сторону генерала Епишева, начальника Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота, мог дорого стоить ему. Его мемуары и без того чрезвычайно тяжело, с потерями, с многочисленными претензиями к автору, проходили через минное поле Главпура. «Кому нужна ваша правда?..»
Глава сорок седьмая
Мемуары
«Один из величайших документов нашей эпохи…»
В Сосновку к Жукову частенько стал наведываться Константин Симонов. Разговаривали о войне. Вспоминали. У них было много общего, хотя в жизни, как известно, занимались разным делом.
В мае 1956 года у них состоялась долгая беседа. Встретились они по случаю трагическому. Застрелился секретарь правления Союза писателей СССР Александр Фадеев, «писательский министр», как его называли. В годы войны он был редактором «Литературной газеты», военным корреспондентом. Ходили слухи, что перед смертью Фадеев написал письмо, адресованное ЦК, но письмо было изъято сотрудниками КГБ…
Письмо действительно существовало. Его опубликовали лишь в 1990 году: «…Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из жизни. Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже 3-х лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять. Прошу похоронить меня рядом с матерью моей».
Последняя просьба Фадеева выполнена не была.
Из воспоминаний Константина Симонова: «…я встретил Жукова в Колонном зале, в комнате президиума, где собрались все, кому предстояло стоять в почётном карауле у гроба Фадеева. Жуков приехал немного раньше того времени, когда ему предстояло стоять в почётном карауле, и вышло так, что мы полчаса проговорили с ним, сидя в уголке этой комнаты.
Тема разговора была неожиданной и для меня, и для обстоятельств, в которых происходил этот разговор. Жуков говорил о том, что его волновало и воодушевляло тогда, вскоре после XX съезда. Речь шла о восстановлении доброго имени людей, оказавшихся в плену главным образом в первый период войны, во время наших длительных отступлений и огромных по масштабу окружений.
Насколько я понял, вопрос этот был уже обговорён в Президиуме ЦК, и Жукову как министру обороны предстояло внести соответствующие предложения для вынесения по ним окончательного решения. Он был воодушевлён предварительно полученной им принципиальной поддержкой и говорил об этом с горячностью, даже входившей в некоторый контраст с его обычной сдержанностью и немногословием… Видимо, этот вопрос касался каких-то самых сильных и глубоких струн его души. Наверное (по крайней мере, мне так показалось), он давно думал об этом и много лет не мог внутренне примириться с тем несправедливым и огульным решением, которое находил этот вопрос раньше. Он с горечью говорил: “Мехлис додумался до того, что выдвинул формулу: каждый, кто попал в плен, – "предатель родины" и обосновывал её тем, что каждый советский человек, оказавшийся перед угрозой плена, обязан был покончить жизнь самоубийством, то есть в сущности требовал, чтобы ко всем миллионам погибших на войне прибавилось ещё несколько миллионов самоубийц. Больше половины этих людей были замучены немцами в плену, умерли от голода и болезней, но, исходя из теории Мехлиса, выходило, что даже вернувшиеся, пройдя через этот ад, должны были дома встретить такое отношение к себе, чтобы они раскаялись в том, что тогда, в 41-м или 42-м, не лишили себя жизни”.
Не помню уже в точности всех слов Жукова, но смысл их сводился к тому, что позорность формулы Мехлиса – в том недоверии к солдатам и офицерам, которая лежит в её основе, в несправедливом предположении, что все они попали в плен из-за собственной трусости.
“Трусы, конечно, были, но как можно думать так о нескольких миллионах попавших в плен солдат и офицеров той армии, которая всё-таки остановила и разбила немцев. Что же, они были другими людьми, чем те, которые потом вошли в Берлин? Были из другого теста, хуже, трусливее? Как можно требовать огульного презрения ко всем, кто попал в плен в результате всех постигавших нас в начале войны катастроф?..” Снова повторив то, с чего он начал разговор, что отношение к этой трагической проблеме будет пересмотрено и что в ЦК единодушное мнение на этот счёт, Жуков сказал, что он считает своим долгом военного человека сделать сейчас всё, чтобы предусмотреть наиболее полное восстановление справедливости по отношению ко всем, кто заслуживает этого, ничего не забыть и не упустить и восстановить попранное достоинство всех честно воевавших и перенёсших потом трагедию плена солдат и офицеров. “Все эти дни думаю об этом и занят этим”, сказал он…»
Реабилитация пленных была для него не служебным, а скорее, нравственным долгом. Кое-что сделать он успел. Но потом, с уходом от дел, с отставкой, всё приостановилось.
Симонов появился снова. И снова Жукову вспомнился недавний разговор.
Маршалы и генералы писали мемуары. Жуков читал и покачивал головой. Порой взрывался – враньё!
На предложение самому засесть за мемуары он вначале махал рукой. Но всё чаще думал о погибших, о претерпевших муки плена и, убеждая себя в том, что именно через книгу, через печатное слово, он сможет привлечь внимание и общества, и правительства, и партии к тому делу, которое оставил незавершённым, наконец, решился. В предисловии к западногерманскому изданию «Воспоминаний и размышлений» он напишет: «Я должен был это сделать в память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину…».
Осенью 1957-го Жуков приказал адъютанту съездить в Министерство обороны и привезти ему из машбюро пачку писчей бумаги.
Весной 1958 года, как вспоминал Анатолий Пилихин, «на рыбалке, в самый разгар клёва, Жуков что-то вспомнил и, бросив удочку, направился к моей машине. Записав пришедшее ему на ум, он вернулся и сказал: “Надо быстро написать книгу”. Жуков частенько трудился над своими “Воспоминаниями и размышлениями” в уголке столовой за низким столиком, пользовался диктофоном».
Прежде чем засесть за рукопись, маршал перечитал горы литературы. Искал нужные статьи по интересовавшим его темам в различных журналах, в том числе в военных. Делал пометки на полях. Записывал. С особым интересом читал немцев – фельдмаршалов, генералов. Многих из них он встречал на поле боя. Знал цену их словам. Различал, где солдатская правда, а где политика.
На даче в Сосновке ему и жилось спокойно, и работалось хорошо. Ничто не отвлекало.
Работа над книгой настолько увлекла, что он не замечал хода времени. Изредка выходил в сад. Завидев дворничиху Валю, спрашивал: «Валя, какой лист огурец пустил?» – «Да по четвёртому и пятому уже», – отвечала Валя. Жукову нравилось разговаривать с ней, слушать её ярославский говорок. В другой раз начинал расспрашивать о деревне. Она пускалась в рассказы. И вдруг он ей: «А у нас на Протве…» Потом прибегал приблудный пёс Стёпка, улыбался, ласково и просительно тёрся о ногу хозяина дачи. «Валя, принеси ему колбаски», – уступал он просьбе Стёпки и трепал его за холку. Немного подышав лесным воздухом, снова уходил к столу.
В 1965 году шестым заключительным томом Воениздат завершил публикацию фундаментального труда – «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг.». Сейчас это издание называют «зелёной историей» войны. Жуков после ознакомления с ней сказал в одной из частных бесед: «…Лакированная эта история. Я считаю, что в этом отношении описание истории, хотя тоже извращённое, но всё-таки более честное у немецких генералов, они правдивее пишут. А вот “История Великой Отечественной войны” абсолютно неправдивая. <…> Это не история, которая была, а которая написана. Она отвечает духу современности. Кого надо, прославить, о ком надо, умолчать…»
Авторы статей и составители «зелёной истории» о Жукове попросту умолчали. В этом смысле издание действительно вполне отвечало «духу времени».
Постепенно режим запретов и тотальной слежки слабел. В 1964 году, на октябрьском пленуме Хрущёва сместили более молодые и энергичные партийцы. Страну возглавил Л. И. Брежнев. Внешне он старался демонстрировать своё уважение к Жукову, но, по большому счёту, в жизни маршала мало что изменилось. Правда, ему разрешили появляться на публике. В 1965 году в Кремлёвском дворце на торжественном заседании, посвящённом двадцатилетию Великой Победы, публика встретила Жукова овациями. В тот же вечер его пригласили писатели в Центральный дом литераторов. Когда он вошёл в переполненный зал ЦДЛ, люди встали и аплодировали с возгласами «Жукову – ура!». После выступления на торжественном банкете он сидел за столом с Константином Симоновым, Сергеем Михалковым, Сергеем Смирновым и Борисом Полевым.
Вскоре Жукова начали публиковать в периодике – статьи о битве за Москву и Курской дуге. И тут поступило предложение от агентства печати «Новости» (АПН) издать его воспоминания отдельной книгой.
Возможно, АПН и не сделало бы такое предложение Маршалу Победы, поскольку его руководство тоже прекрасно понимало полузапретное положение своего будущего автора. Но дело в том, что Международное агентство печати «Орега mundi» (Франция, Париж) подготовило глобальный издательский проект – публикацию двадцати книг крупнейших советских политических и военных деятелей периода Второй мировой войны. В список имён, одной из основных позиций, вошло имя маршала Георгия Жукова. В то время в Советском Союзе только АПН обладало правом «публиковать советских авторов за рубежом».
Издательство АПН назначило Жукову редактора – журналиста Анну Миркину. По этому поводу недоброжелатели потом прохаживались не раз: мол, мемуары маршала написала баба…
В августе 1965 года Анна Миркина, предварительно созвонившись, приехала в Сосновку с экземплярами издательского договора. Жуков внимательно изучил его и внёс одно, но существенное изменение: книга вначале должна выйти в СССР, а потом уже за рубежом. Поправка была принята, и договор он подписал.
Издательство выполнило этот пункт договора: книга вышла в Советском Союзе в марте 1969 года. Потом – по всему миру.
Восемнадцатого августа 1965 года Анна Миркина записала в своём дневнике: «Только что вернулась из Сосновки. Сегодня подписан с маршалом договор (за № 381) на издание книги. Уже есть рабочее название – “Воспоминания и размышления”. Галина Александровна была дома. Встретила очень приветливо – милая, очень русская женщина, под стать Жукову, обаятельная, открытая».
Когда слухи о работе над мемуарами «под договор» расползлись по Москве, свои услуги в качестве литературных редакторов и в какой-то мере соавторов маршалу предложили и Константин Симонов, и Сергей Смирнов. Анна Миркина, чтобы ускорить процесс, тактично предложила Жукову надиктовывать текст на диктофон, а потом расшифровывать. Дочь Элла, тоже журналист, в то время работавшая на Всесоюзном радио, вызвалась заниматься «расшифровкой» диктофонных записей. Жуков выслушал все эти предложения и сказал:
– Нет, писать буду сам, а там посмотрим.
Анна Миркина вспоминала: «В тот первый год, когда он работал над рукописью, я всего несколько раз приезжала в Со-сновку. Георгий Константинович был полностью погружён в работу: собирал архивные материалы, встречался со своими боевыми соратниками – бывшими командующими фронтами, членами Военных советов, просматривал выходящие в свет новинки военно-исторической и военно-мемуарной литературы. Писал увлечённо, страстно, азартно, обычно вечерами и далеко за полночь, а в последний период, перед сдачей рукописи в издательство, по 15–16 часов в сутки. Не любил диктовать, писал от руки – “так лучше формулируется мысль, уходит всё лишнее”».
Ему помогали записные книжки, которые он вёл всю войну и которые, к счастью, сохранил. А вот дневники 1940–1942 годов уничтожил во время первой, сталинской опалы.
Привлечённый материал был очень обширным и богатым. По тем временам – сенсационно-новым. Многие документы публиковались и пускались в исторический и научный оборот впервые. «Анна Давыдовна! – писал он редактору в июле 1971 года, когда готовилось к выпуску второе, исправленное и значительно дополненное издание. – Посмотрите мои вставки и поправки. Архивные документы пометьте обязательно без сокращений и правки…»
В эти дни у него на даче в Сосновке частенько собирались бывшие сослуживцы: заместитель по тылу 1-го Белорусского фронта генерал Н. А. Антипенко, член Военного совета фронта генерал Ф. Е. Боков, маршал И. X. Баграмян.
Когда писал первые главы – о родителях, детстве, школе, юности, земляках, – ездил на родину. Побывал в Стрелковке, в Угодском Заводе, Чёрной Грязи, Огуби и окрестных деревнях. Походил по берегам Протвы. Смотрел на степенное течение реки. От истока к устьям…
Его книга композиционно так и выстроена: от малой родины – к великой Родине, от Стрелковки – к России, от Протвы – к двенадцати морям, омывающим СССР.
В марте 1966 года, точно в означенный договором срок, маршал передал в редакцию АПН машинописную рукопись объёмом 1430 страниц. Это – 65 авторских листов.
Но дальше началось самое главное и, как оказалось, трудное.
Рукопись должна была визироваться в Главлите, а потом в ЦК.
Для работы с рукописью маршала Жукова в Военном отделе ЦК КПСС была в срочном порядке создана специальная комиссия в составе ответственных товарищей из Военно-научного управления, Генерального штаба Вооружённых сил СССР, Института военной истории. Рукопись размножили и отдали рецензентам.
Первая рецензия была по сути дела смертным приговором для «Воспоминаний и размышлений»: «Издание книги Г. К. Жукова признать нецелесообразным. Маршал Жуков преувеличивает свою роль в истории Великой Отечественной войны, недостаточно показывает роль партии, книга сможет принести вред советскому народу». Эту убийственную рецензию подписали маршалы А. Гречко, М. Захаров, К. Москаленко, генерал армии А. Епишев.
Такого рода резюме можно было написать и не читая рукописи, а исходя из прежних «заслуг» маршала перед ЦК. Но рукопись всё же читали с большим интересом. Среди экспертов и членов специальной комиссии начались разногласия. В конце концов разум возобладал, и в адрес издательства из ЦК пошло письмо: «Работайте над ошибками и исправлениями, а там посмотрим». К письму был приложен список «ошибок» и рекомендаций – на пятидесяти страницах.