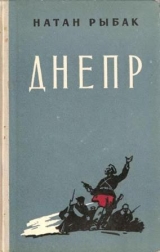
Текст книги "Днепр"
Автор книги: Натан Рыбак
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
X
…Когда прощались, Петро Чорногуз сжал руку Марка и долго не выпускал ее из своих сильных пальцев. Косой осенний дождь лил не переставая. Туман обложил степь, горбатился над оврагами.
– Может, не скоро встретимся, – сказал Петро, – жизнь как море. Никогда не отгадаешь, с какой стороны ждать непогоды. А к непогоде всегда будь готов. Сплоховал ты малость. Одно знай: сломаем мы эти порядки. Скоро сломаем. Голос матроса окреп, он заговорил громче, все еще не выпуская руки парня: – Сильным надо быть, Марко! Ты еще молодой, а горя уж столько узнал, что другой человек жизнь пройдет и половины этого не узнает. Отца своего помни. За правду он где-то кандалами гремит. Воля, Марко, кого не приманит. У нас вся страна в кандалах. От моря до моря, везде звон. Сбить их надо, самим сбить… Погоды не долго ждать. – Он помолчал и уже тише добавил – Спросят про меня, скажи – не знаешь.
Марко Закивал головой.
– «Не ведаю», мол. Думают – покорюсь я им. Ерунда! Меня заберут – останутся тысячи таких. Ну, живи, браток, сведет еще нас судьба. Верю, сведет, а я подамся в Екатеринослав, там у меня дружки на заводе… Как-нибудь…
Он крепко поцеловал Марка, повернулся и пошел быстрыми шагами.
– Дождь, – пробормотал растерянно Марко, – проклятый дождь…
Марко долго вглядывался в ночь, словно все еще видел стройную фигуру Петра, слышал его шаги, его прощальные слова.
Ушел Петро. Осталась в сердце Марка неисцелимая рана. И долго – многие дни и месяцы – жило в его памяти прощание в степи за селом… Жизнь за это время не однажды налетала нежданными грозами, и каждый раз, вспоминая слова Петра, Марко чувствовал себя крепким и верил в свои силы. Не один раз за эти годы ходил Марко на сплав. Стал мастером своего дела. Пошла о нем среди плотовщиков хорошая слава. Везде по селам – от Дубовки до самого Александровска – знали Марка Высокоса. Весною 1916 года он сам повел караван плотов… И через пороги проходил тоже сам, обошелся без лоцмана.
Другим стал Марко. Ходил задумчивый. Где-то далеко от Дубовки началась страшная война. Тревога билась черным крылом под каждой кровлей. В сердцах дубовчан затаился и рос страх перед войной… Феклущенко каждое. утро хвастался:
– За царя-батюшку постоим. Покажем нашу православную силу!
А горе и нужда еще крепче вгрызались в каждую хату. Из соседних сел взяли в солдаты уже немало знакомых. Оставались дома только старики, женщины да дети. Кашпур условился с войсковым начальником, что пока не сплавят весь лес, дубовских плотогонов на фронт не возьмут. Пришлось дать начальнику хорошую взятку, но что значила взятка по сравнению с огромной прибылью от сплава?
Марко раздобыл в Александровске газету «Южный край». Десять раз прочитал все, что писалось в ней про войну. Все, что творилось там, за сотни верст от Дубовки, пока было для него неясно, но сердце чуяло: скоро и ему придется нырнуть с головой в темную пучину бурных событий. Он не раз жалел об отсутствии Петра: был бы здесь матрос – посоветовал бы. Только где ж он теперь? В каких краях? Уж не на войне ли? Ведь он когда-то говорил: «Люди, рабочие и крестьяне, за царя воевать не станут. Царь, помещики, буржуи – одна шайка». Разве не так? Глянь только на Кашпура. А кому скажешь? С кем словом сердечным перекинешься? Антон стал чужим, да и, по правде сказать, не лежит к нему душа. Не будь его – Петро остался бы здесь. Легче было бы, яснее. С Ивгою поговорить? Да нет, и она – не Петро… Нет!
Две дрожащие морщинки залегли у Марка на переносье. Ивга допытывалась: что с ним, о чем грустит? Вечерами сидели среди густых кустарников, за оврагом, и Марко слово за слово изливал ей душу. Девушка слушала горькие слова, принимала к сердцу, гладила огрубелыми пальцами шершавую руку Марка. Как и прежде, собирались иногда у Веры Спиридоновны. Приходил и Марко с Ивгой, Орися Окунь. Учительница радовалась, сажала к столу, накрытому старенькой с заштопанными дырками скатеркой, доставала со знакомой этажерки книжки и читала. Когда она уставала, читали Марко или Ивга… Учительница, закрыв глаза за очками, казалось, спала, не слушала. И в самом деле – мысли ее были далеко, в прошлом.
А последнее время Марко зайдет, попросит новую книжку, посидит немножко, скажет: – Надо идти, у меня еще работа, – возьмется за картуз и, неуклюже нагнув голову в дверях, выйдет, пряча неловкость под сведенными бровями. Учительница понимала, что с ним. Однажды, когда зашел прощаться перед сплавом, сказала:
– Знаю, скучно вам у меня. Думаете – читает книжки, а какой прок? Тут бы за живое дело взяться.
Марко не ответил. Это была правда.
– Вы правы, Марко, – продолжала Вера Спиридоновна. – Я и сама так думаю. Никому бы этого не сказала, а вам скажу. Только стара я уже. Поздно мне…
Она сгорбилась, отошла к окну, облокотилась на подоконник. Под платком задрожали плечи. Учительница плакала. Марко хотел успокоить, утешить ее, но слов не было. Он беспомощно мял в руках картуз. Пересилив волнение, стараясь не смотреть Марку в глаза, Вера Спиридоновна отошла от окна, долго рылась в ящике комода. Достала книжечку без обложки, подала Марку.
– Едете сегодня. Возьмите почитать. Только никому не показывайте. Это запрещенное. Прощайте, Марко. Идите, Я лягу, мне нехорошо.
– Спасибо, – сказал Марко, – спасибо вам, Вера Спиридоновна.
Ему вдруг захотелось попрощаться с нею потеплее, но она, пряча слезы, отвернулась, и Марко вышел.
Через день на плоту, свесив ноги в прозрачную, теплую воду, подставляя солнцу спину, Марко читал:
Во дни фельдфебеля-царя
Капрал Гаврилович Безрукий
Да пьяный унтер Долгорукий
Украйной правили. Добра
Они немало натворили,
Немало в рекруты забрили
Людей сатрапы-унтера.
За спиной скрипел дубком в железной уключине долговязый скупой на слова Оверко. Архип растягивал гармонь и хрипло выводил песню. Ее подхватывали плотовщики со всех плотов, и в отлогих берегах раздавались слова:
Где ты бродишь, моя доля,
Доля горькая моя?
А Марко жадно листал странички, пересохшими от жажды губами шептал:
Так досталась ему навсегда в собственность старенькая, без начала, без конца, книжечка. Впоследствии Марко узнал от Веры Спиридоновны многое о том, кто написал эти печальные, строгие и правдивые песни, глубоко западающие в душу. Так вошел в жизнь Марка «Кобзарь».
* * *
Летом того же года призвали на военную службу весельчака Архипа, хворого Оверка, Антона, Марка да взяли и старого Кирила Кажана, который считался в бессрочном отпуску. Марко принял призыв как неизбежность. Даже не видно было, чтобы он грустил. Война, бушевавшая за много сотен верст от Дубовки, казалась ему не такой ужасной и безжалостной, какою он вскоре увидал ее. Архип запил, двое суток ходил по селу и в неуверенных руках его вздрагивала гармонь. До хрипоты в горле выводил он унылые солдатские песни. Феклущенко накануне отъезда новобранцев из села позвал их в контору.
– Царю-батюшке служить едете, не подведите, пусть знают враги, какое есть лоцманское племя. Хозяин жалует вам на проводы по рублю.
Марко денег не взял.
– Не пью, – объяснил он Феклущенку.
Управитель подозрительно посмотрел на парня и ткнул его пальцем в лоб.
– Мысли у тебя несоответственные, знаю. Все же выпей – хмелем отобьешь. Н-да, юноша, так-то.
– Я за него возьму, – сказал Архип и положил деньги в карман.
Ночью сидели с Ивгой за господским парком, молча смотрели на чистое синее небо. Там горели мерцающим светом звезды. Ивга, не таясь, плакала. Марко протянул к ней руки. Она припала к нему, и ее тревожное сердце забилось на его груди.
На другой день Дубовка провожала новобранцев. Кирило Кажан долго целовал дочку и, смахивая кулаком слезы, приговаривал:
– Одна ты у меня, одна… Феклущенко обещался, в нужде не оставит…. А вернусь, Бог даст, – заживем.
Он смотрел вокруг жадными глазами, старался все запомнить: и кривую улицу в селе, и покосившиеся хатки, и остроконечную Половецкую могилу, и крепкие яворы над Днепром, – словно прощался со всем этим навек.
Через несколько дней новобранцы, выбритые и одетые в солдатскую форму, сидели в красном товарном вагоне, сжимали в неумелых руках винтовки и смотрели, как пролетали перед глазами полустанки, села, поля. Марко, прижавшись щекою к стене, пахнущей свежей краской, с тревожным вниманием вглядывался в новый для него мир…
* * *
Ивга недолго была одна. Через несколько дней ее позвали на барскую кухню. Домаха внимательно осмотрела девушку и певучим своим голосом сказала:
– Будешь в хозяйстве помогать. Жить будешь тут, – и показала около кухни каморку.
В тот же день Ивга перенесла в барский дом сундучок со своими пожитками. Домаха почти не разговаривала с девушкой и не допускала ее в комнаты, а однажды заглянула к Ивге в каморку и, ласково улыбнувшись, посоветовала:
– Как мать, говорю тебе – барину на глаза не попадайся. Девка ты в самом соку, любому приглянешься, до греха недалеко. А барин у нас такой…
– Что вы, Домна Федоровна, – испуганно воскликнула Ивга и густо покраснела.
Успокоенная, Домаха вышла, оставив девушку в смущении.
Дни проходили, похожие один на другой, засушливые, обдуваемые суховеем. Безоблачное небо смыкалось над селом, над лесом, над полями. Ночью, отворив окно в сад, Ивга в одной сорочке облокачивалась на подоконник. Густой запах наливных хлебов дурманил. В море зеленой листвы играли отблески серебряного месяца. Парк застыл недвижный, молчаливый. Ивга думала об отце и тоска охватывала ее. По щекам скатывались слезы. Она ловила их пересохшими губами. Дождей не было. Тянулось горячее лето.
* * *
Хлеба в полях пожелтели. Во ржи беззаботно стрекотали кузнечики.
Кашпур ходил озабоченный, хмурый. Часами просиживал он в конторе, негнущимися пальцами перебрасывал косточки на счетах. Пот обильно струился по его лицу и терялся в бороде. Феклущенко от жары едва дышал, чмокал губами, как выброшенная на берег рыба.
Данило Петрович большими глотками пил стакан за стаканом хлебный квас. Раздражало все: и жара, и штабели бревен вдоль обмелевшего Днепра, и недостаток в хороших сплавщиках, и глупое, как называл он про себя, письмо от Миколы, который вдруг захотел на войну.
– Дурак, голова садовая, – жаловался Кашпур Феклущенку, – бес его мозги вывернул. Мне наследник нужен, а он смерти голову подставляет. Я самому губернатору, чтоб не брали на войну, взятку давал, а он черт знает что придумал… Для кого все собираю, тружусь, ночи не сплю?
Он послал депешу сыну, чтобы и думать не смел о фронте, звал его в Дубовку.
В конце июля Микола приехал, а на другой день после его приезда вспыхнул лесной пожар. Горела одна из лучших делянок кашпуровских лесов. Высоко в безоблачном небе стояло огненное зарево. Запах горелой древесины и смолы тяжелыми волнами полз над землей, дотекал до имений. От злобы Кашпур кусал губы, заперся у себя и не показывался. Феклущенко ходил на цыпочках по дому, под глазами залегли синяки. Микола томился в комнатах с опущенными шторами, вздыхал. Три дня горели леса, и огонь погас так же внезапно, как и загорелся.
С неделю еще тянулся над пепелищем дым. Кашпур ездил с Миколой смотреть пожарище. Кое-где тлели еще стволы коренастых дубов. Данило Петрович скинул картуз, хотел перекреститься и – махнул рукой.
– Зло причинил мне господь, – сказал не то грустно, не то гневно, – а за что? Сотни тысяч рублей огонь пожрал, – и, отвернувшись от выгоревшего леса, пряча взгляд под густыми бровями, пошел к экипажу. Кони резво помчались. Наклонившись вперед всем корпусом, Кашпур сказал сыну:
– Новое дело задумал, может, и выгорит. Если выйдет по-моему, война много денег мне принесет. Ты, сынок, к работе присматривайся. Кончил свой политехникум и будет. О войне нечего думать! Тебе славу не погонами добывать. Род наш торговый. Рубль славу тебе принесет, вот что!
Через несколько дней Кашпур повеселел. Все обернулось к лучшему. Из Киева пришла депеша. И он, как пришпоренный, помчался туда. Вызвал и Миропольцева. Выяснилось, что, кроме леса, можно купить фабрику обуви. Снова загудела земля под ногами Данила Петровича. Он появлялся всюду, крепкий и шумливый: в банках, на бирже, на пристани, в военных присутствиях. И вслед ему неслись похвалы. А он будто и не слышал ничего и шагал все так же твердо, стуча подковами каблуков, наматывая на пальцы черную смолистую бороду.
В сентябре задымленный паровоз потянул на фронт длинный эшелон вагонов. В них стройными рядами лежали тысячи пар сапог. Данило Петрович и Миропольцев стояли ночью на безлюдном перроне, провожая в дальний путь первую партию обуви. Дней через пять прибыло с фронта подтверждение, что сапоги получены. На текущий счет фирмы интендантство перевело восемьсот восемьдесят пять тысяч рублей.
Кашпур на радостях решил отпраздновать первую удачную пробу. Ночью позвонил Миропольцеву и с ним отправился в ресторан.
Они едва протиснулись через заполненный людьми зал. Им освободили кабинет, выпроводив из него пьяную компанию.
Скоро туда набилось много всякого народа. Стреляя, вылетали из бутылок шампанского пробки.
– Пейте! – кричал Кашпур. – Я ставлю. Я – Данило Кашпур.
К нему тянулись десятки рук с полными бокалами. Он чокался, пил и не пьянел. Миропольцев откуда-то вытащил пьяного седоусого полковника. В кабинете затихли. Перед полковником расступились. Ему освободили место рядом с Кашпуром. Миропольцев шептал полковнику на ухо:
– Миллионер… душа-человек Данило Кашпур… в деле пригодится, не скуп…
Полковник подтянулся, откинул саблю, которая путалась между ногами, звякнул шпорами и протянул руку Кашпуру, рекомендуясь:
– Полковник интендантства Африкан Михайлович Осман-Дивиловский.
– Непосредственно с театра военных действий, – добавил Миропольцев, придерживая пенсне, – награжден за боевые заслуги… – остальные слова потонули в гуле приветствий.
Кашпур налил полковнику шампанского и низко поклонился ему.
Полковник одним духом осушил бокал. Кашпур расчувствовался. Ему показалось, что он собственными глазами видит, как вокруг полковника пронизывают воздух вражеские пули; он шагнул к нему и по-старинному обычаю обнял его и трижды поцеловал. Какой-то пьяненький гость со слезами на глазах проверещал растроганным дискантом:
– Господа, истинно величественная картина. Художника сюда, фотографа, увековечить для потомков братские объятья христолюбивого воинства и столпов империи…
Через несколько минут про полковника забыли. Он сидел между Кашпуром и Миропольцевым, пил водку, чмокал губами, глотал устриц и вращал налитыми кровью белками. Вены на его висках напряглись и посинели. В морщинах на лбу скопился пот.
Когда он захмелел, Кашпур позволил себе завязать беседу: -
– Позвольте, господин полковник, спросить, каковы надежды на счастливое завершение войны?
Полковник удивленно выпучил глаза, наклонился к Данилу Петровичу и, дыша пьяным перегаром, оказал:
– Никаких! Это вам, как другу, по секрету. На фронте беспорядок, развал, шпионаж, измена… – И вдруг, оттолкнув Кашпура обеими руками, спросил: – Да-с, а на что это вам, ясновельможный капиталист?.. Да, на что?
– Должен знать… – сказал упрямо Кашпур. – В войну капитал вложил, и немалый… И еще хочу, чтобы вы пошли навстречу… Сено лошадям вашим нужно, а у меня его вдосталь. Слышал, будто какой-то Марголин поставляет вам по контракту… так я… знаете, хотел вашей помощи…
Полковник мгновенно протрезвел.
– Что ж, можно… – сказал он тихо, – только…
– Понимаю, все будет как следует, – перебил Кашпур, – не беспокойтесь.
– Десять, – сказал полковник, разминая в руках салфетку и следя за лицом Кашпура.
Данило Петрович слегка побледнел. «Десять тысяч – много», – подумал он.
Заметив его колебания, полковник быстро добавил:
– Имейте в виду, Марголин даст больше.
– Хорошо, – сказал Кашпур, – по рукам. – И протянул руку полковнику.
Но тот не торопился. Глядя куда-то в угол потолка, он сухо сказал:
– Двенадцать – это окончательно.
И звякнул шпорами, словно собираясь встать. Миропольцев толкнул Кашпура в бок.
– Ладно, – процедил сквозь зубы Кашпур, – будь по-вашему.
Полковник пожал ему руку.
Получив тут же, незаметно для окружающих, задаток, полковник Осман-Дивиловский выпил на радостях лишнее. Интимно подмигивая Кашпуру, он признался:
– Я, думаешь, на фронте был? Вот те крест, – и он перекрестился, – и в глаза фронта не видал…
Тронув пальцами кресты на груди, он убежденно сказал:
– Здесь их легче достать.
* * *
…В ту ночь, когда Данило Петрович так удачно завершил задуманное дело с поставкой сена и достойно отметил получение денег за первую партию солдатских сапог, на маленькой галицийской станции, до которой долетала пушечная канонада с линии фронта, шла лихорадочная подготовка к маршу. Среди тысячи серошинельников нашел свое место и Марко Высокос. Долгополая шинель хорошо облегала плечи. Под околышем фуражки блуждал беспокойный взгляд темных глаз. Батальон Марка стоял у пакгаузов. Перед отправкой на фронт солдаты получали новую обувь. Они выстроились в длинную очередь, держа в руках старые, стоптанные, в дырах и заплатах сапоги, башмаки и еще какую-то чудную самодельную обувь. Недалеко от Марка стоял Архип. Он оброс, исхудал, и веселое выражение исчезло с его лица. Солдаты тихо говорили между собою. В стороне прохаживался офицер, попыхивая папироской. Наконец Марко дождался своей очереди. Кто-то вырвал у него из рук старые сапоги и ткнул новые с залихватски вздернутыми носками. Примостившись под фонарем, Марко начал надевать обнову на распухшие от ходьбы ноги. Сапоги налезали туго. Пришлось растягивать руками. Сосед посоветовал:
– Ты, землячок, голенища выверни, тогда пойдет.
Марко послушался, вывернул. На глаза попалось круглое клеймо на полотняной подкладке: «Данило Кашпур и сын».
Он опустил руку с сапогом.
– Ты что, – спросил тот же сосед, усатый солдат, – не натянешь?
– Натяну… – отозвался Марко. – Да гляди, что прочитал, – и он показал солдату круглое клеймо на голенище.
– Неграмотный я. А что там написано?
– Фамилия моего хозяина. Служил я у него.
– Сапогами промышляет?
– Нет. Плоты гонит по Днепру.
– Видно, к новому делу приспособился, – сказал солдат, – выгоднее, – и, словно что-то припомнив, довольно воскликнул: – Да еще какая выгода! Солдатам-то сапог много надо… Оно и способней, чем плоты гонять.
Позади прозвучала команда. Марко заторопился. Шагал в новых сапогах неуклюже. Они едва сгибались, жали в пальцах.
В ушах гулко отдавался топот сапог по каменистой дороге.
Придерживая ремень винтовки, Марко вперил глаза в затылок переднего солдата. Его клонило ко сну. Время от времени он сбивался с шага. Тогда задние наступали ему на ноги. В голове не было ни единой мысли. Только в уши настойчиво врывался скрип новой кожи.
Подошвы кашпуровских сапог быстро стирались на острых камнях прифронтового шоссе.
XI
Жизнь Ивги как колесо, пущенное с горы. Катилось колесо ровно, безостановочно, да наскочило на ухаб, свернуло, закрутилось на месте и упало на запыленную дорогу. В мареве жаркого дня в последний раз мелькнули перед глазами сутулая спина отца, красная рубаха Марка, и не стало никого.
В придорожном бурьяне бил крыльями перепел. Никли пожелтелые травы, хрустели высохшие стебли под ногами.
Сомкнулся свет для Ивги в низенькой, тёмной, похожей на подвал каморке. Изредка лишь урвет часок вечером и сбегает к Вере Спиридоновне в село.
Однажды она возвращалась в сумерках от учительницы. Шла неторопливо и возле беседки в парке замедлила шаги. Оттуда долетел шепот. Она узнала басовитый голос Кашпура. Он несколько дней назад вернулся из города, и не один, а с какою-то молодой красивой женщиной. Ивга видала ее в парке. Верно, с нею и говорил теперь. Голоса смолкли. До Ивги долетало тяжелое дыхание, прерываемое глухим шепотом. Она собралась было обойти беседку, но боялась пошевельнуться, чтобы не поднять шум и не выдать своего присутствия. Притаившись, кусая от стыда губы, ждала. Через несколько минут ступеньки заскрипели. Оправляя костюм, прямо на Ивгу шел Кашпур. От неожиданности она вскрикнула и побежала.
– Стой! Кто такой? – крикнул Данило Петрович.
И девушка услышала за спиной тяжелые шаги.
– Стой! – крикнул он снова. – Стрелять буду!
Ивга остановилась, едва переводя дух.
– Тяжелая рука барина легла на ее плечо.
– Это ты, девка, тьфу! А я думал злодей какой, – сказал Кашпур, пряча револьвер в карман пиджака. Вдруг у него в голове мелькнула догадка:
– Подглядывала? – спросил он сердито. – Подслушивала?
– Нет, барин. – Ивга глядела себе под ноги.
Рука Кашпура неприятно сжимала плечо.
– Шла я мимо… и вдруг – вы, ну и перепугалась.
– Гм, – усомнился Кашпур, – перепугалась… – Голос его смягчился. Он ближе подошел к девушке и, притягивая ее к себе, переспросил: – Перепугалась, говоришь? А меня нечего пугаться. Я ведь когда-то плясал с тобою.
– Плясали, – подтвердила Ивга.
Взяв девушку двумя пальцами за подбородок, он медленно поднимал ее лицо, заглядывая в глаза.
Пустите, – взмолилась Ивга, – пустите!
Но Кашпур не пускал – Вот что, – сказал он, – ты, девка, где ночуешь?
– Данило Петрович! – раздался в беседке звонкий женский голос.
– Иду! – недовольно отозвался он. – Хороша ты, – тихо сказал он Ивге и, пошарив пальцем в кармане, сунул девушке в руку какую-то бумажку. Затем, обхватив ее обеими руками, с силой притянул к себе, поцеловал, порывисто повернулся и ушел…
Ночью Ивга не спала, тревожно прислушиваясь к каждому шороху. Скомканная трехрублевка лежала на подоконнике, напоминая о неизбывном позоре. Широко раскрытыми глазами смотрела Ивга на узенькую дверь, запертую легонькой задвижкой и заставленную двумя стульями. Губы ее горели от поцелуя. Она то и дело вытирала их концом сорочки и, покусывая тугое полотно, дрожала от страха. Ей все мерещилось, что кто-то подкрадывается к двери. Не выдержав, она открыла окно, накинула на себя платье и, выпрыгнув в парк, побежала по темным аллеям. Каждый куст, каждое дерево казались ей живыми существами. Пробравшись через дыру в каменной ограде, она очутилась в поле и, прижав руки к сердцу, быстро пошла в село.
Трудно было справиться со своим отчаянием, и она заплакала. Губы сами собою раскрылись и тихо произнесли:
– Марко!.. Марко мой!..
Никто не ответил. Молчала ночь, сторожа глухую степь.
А в эти минуты Марко, сжимая в руках винтовку, лежал в окопе, глубоко втянув голову в плечи. Низко над линией фронта пролетали снаряды, взрывы и неистовые вспышки пламени обратили ночь в ад. Марко не думал и не мог ни о чем думать. Единственное, что он остро чувствовал, – это вкус ржавчины во рту и подымавшийся с земли запах горькой полыни.
…Ивга добежала до школы. Учительница, взволнованная ее ночным появлением, засыпала девушку вопросами. Стараясь не плакать, та рассказала обо всем. Вера Спиридоновна обняла ее, усадила на постель, сама села рядом и нежно гладила ее растрепанную голову. Учительнице хотелось успокоить девушку, но не было слов утешения. Слишком уж все было неумолимо-жестоко на этой земле. Так и застало их утро вдвоем на узенькой кровати.
Ночью Кашпур приходил в каморку Ивги. Он стучал и звал, но за дверями было подозрительно тихо. Тогда он изо всей силы нажал плечом на дверь и очутился в комнатке. Сделал шаг и наткнулся на пустую постель. Данило Петрович бросил взгляд на открытое окно и все понял. Он нашел на столе кредитку, положил себе на ладонь, точно взвешивая ее, и спрятал в карман.
«Сбежала, – думал он, возвращаясь к себе. – Жаль! Ну, ничего, вернется. Куда денется без отца?»
Проскользнув неслышно в кабинет и примостившись на кушетке, где спала новая, привезенная из города, подруга, Кашпур еще несколько минут думал об Ивге. Вдруг он зло выругался, подошел к раскрытому окну и облокотился на подоконник.
У ворот однообразно постукивала колотушка Киндрата. Данило Петрович глубоко вздохнул.
«Сено собрали, – подумал он, – а барж до сих пор нет. Все Феклущенко… Плоты надо гнать – дубовиков знающих нет. Опять-таки Феклущенко… А ловко я тогда полковника на поставки склонил… Правда, Миропольцеву спасибо… Только он что-то больно подлизывался… Верно, ему полковник тысячи две отвалил, а может, и больше. Крадет, наверно. Обкрадывает меня. Тьфу ты!» – и Кашпур сплюнул за окно. Чувствуя, что теперь уже не уснет, он оделся и вышел на террасу. Не торопясь спустился с лестницы, прошел на двор, заглянул в коровник, в конюшню и приблизился к сторожке; оттуда доносилась чья-то негромкая хриплая речь:
– Известно, война – смерть нам. Только, может, и лучше. Тут из тебя жилы век тянут, а там сразу. Жмык – и нету.
– Небось страшно? – узнал Данило Петрович голос Киндрата. – Тебе руку вон как жмыкнуло.
Кашпур догадался, что первым говорил Окунь, однорукий солдат, которого Феклущенко недавно нанял сторожем.
«Не спят, ироды, – подумал Данило Петрович, – вот я им покажу!» – Но солдат снова заговорил, и Кашпур притаился, прислушиваясь к его словам:
– Что – рука? Бог дал, он и взял. Душа болит, Киндрат, вот что! Исходил я много мест, везде побывал, думал, найду, где лучше, а оно одинаково всюду. Нашему брату везде ад. – Голос солдата оживился. – Возьми к примеру войну. Кому опять-таки погибать? Видал бы ты, сколько народу гибнет, а зачем, спроси, за что – так никто и не скажет. На фронте читал я книжечку, там все по справедливости написано. И про царя и про богатеев.
– Ты вот что, – несмело возразил Киндрат, – ты эти слова брось. Не дозволено такое…
– Почему ж так?
– Молчи лучше, – посоветовал сторож. – Чай, поумней тебя есть. От бога это, бог терпенье любит. Терпи!
– А ежели я не хочу? – повысил голос солдат. – Не хочу терпеть!
– Не хочешь? – крикнул Кашпур, выходя из кустов. – Как так не хочешь?
Киндрат чуть не перекрестился, увидев барина. Он испуганно мямлил что-то под нос и растерянно дергал себя за бороду. Солдат сел на лавочку и, опустив глаза, молчал.
– Молчишь? – сказал Кашпур, подходя к нему. Язык откусил? Умник нашелся. Терпеть не хочешь? А по какому… такому праву? А? – Кашпур уже не сдерживался. Размахивая руками над головой солдата, он кричал: – Ты заработай, зубами выгрызи. Землю рой носом! Копейку к копейке… А то на чужое зенки пялишь. «Народ гибнет!» А за что он гибнет? За царя-батюшку, за Русь святую. Бунтарь! Да тебя в острог, в Сибирь! Смуту сеешь!..
– Я на чужое зенки не пялю, – сказал Окунь тихо. – Мне заработанного не дают.
– Ах ты, подлюга! – рассвирепел Кашпур. – Быдло!..
– Вы не кричите! – глухо вымолвил солдат, поднимаясь. – Вы не кричите на меня. А то и я крикну… Так крикну, что везде слышно будет!..
Окунь сжал в кулак единственную свою руку, заложив ее за пояс, но вдруг повернулся и, вытянув шею, дергая безруким плечом, пошел к воротам.
– Рассчитать его, – решил Кашпур, – на все четыре стороны!
– Это от калечества он, – подобострастно оправдывал солдата Киндрат, – калека, он завсегда злость копит.
– Все вы калеки! – заорал Кашпур, следя глазами за солдатом, который вышел за ворота, и скрылся в темноте.
* * *
Целые дни сидела Ивга на кухне, а когда смеркалось, шла к новой кухарке Мисюрихе, появившейся в имении незадолго до того. Ивга сидела у нее допоздна и оставалась ночевать. Со временем она совсем переселилась к Мисюрихе. Иногда среди ночи в дверь стучали. Ивга испуганно вскакивала. Мисюриха шептала:
– Спи, спи! – и выходила за дверь.
Раз кто-то пришел в комнату. Зарывшись лицом в подушку, Ивга слышала короткий разговор Мисюрихи и Окуня. На другой день она избегала встречаться глазами с кухаркой, а вечером Мисюриха сказала ей:
– Не гляди на меня исподлобья, Ивга! Такая уж доля наша бабья…
И она стала рассказывать о себе, откровенно, ничего не скрывая. Вытерла кулаком слезинку, вспомнив Архипа:
– Сердешный! Сгинет он там!
Тогда Ивга, покоряясь какой-то неодолимой силе, раскрыла и свое сердце. Она долго говорила о Марке.
Мисюриха усмехнулась в темноте. Потягиваясь на твердой кровати, скрестив руки над головой, едва слышно спросила:
– Сладко было с ним?
Ивга зарделась.
– Ну, ну, не стыдись… Я прежде тоже не любила таких разговоров… Все-то мы в девках этак, а потом свыкаемся.
Тут вспомнилось Ивге, что говорила о женщинах Вера Спиридоновна, и, приподнявшись на локте, она повторила чужие слова:
– Женщина должна одну судьбу с мужчиной иметь. Есть такие женщины, что и учеными, и докторами бывают и даже против царя поднимаются. Мне учительница рассказывала…
– Ты ее слушай– наслушаешься! – перебила Мисюриха. – Она тебя научит! Сама она сухая, как полено, страшенная. Все они, эти худые клячи, языками чешут…
Ища в темноте лицо Ивги, Мисюриха вдруг переменила разговор:
– Слыхала я, барин тебя добивается. Дура девка! Зря носом крутишь… Будешь поумнее, еще и барыш наживешь. Он не отступится. Увидишь.
Пораженная Ивга не могла и слова вымолвить. Она закрыла лицо ладонями и скорчилась на матраце. Все были против нее, все толкали ее в какую-то пропасть. Она заплакала, часто вздрагивая плечами, орошая слезами подушку.
– И я когда-то плакала, – прозвучал равнодушный голос Мисюрихи. – Думаешь, легко мне было? А жизнь скрутила в три погибели. Одна у бабы доля…








