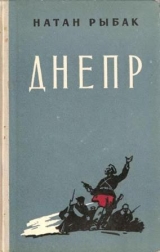
Текст книги "Днепр"
Автор книги: Натан Рыбак
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
VII
Поезд остановился на станции ночью. В раскрытые двери теплушек потянуло ароматом прелого листа. Паровоз фыркнул несколько раз и ушел в депо.
Вдоль платформы стояло десятка два вагонов. В темноте они казались суровыми и таинственными. Было тихо. Из-за станции доносился тоскливый шорох тополей. Кирило Кажан выскочил из вагона. Поправил пояс на смятой шинели, повыше подтянул узелок за плечами и зашагал вдоль перрона. Он искал бак с водой.
Ехал Кирило издалека, из плена. Ехал, полный неясных надежд и забот. Высокая шапка была надвинута на лоб. Под нависшими бровями прятался болезненный блеск глаз. Кажан шагал осторожно, неуверенно – так обычно ходят люди после долгого пути в поезде или на подводе.
Бака с водой нигде не было. На деревянных козлах, где он должен был стоять, лежал вверх лицом человек. Кажан наклонился, но сразу же поспешно отошел от мертвеца и повернул к станции. В полутьме бросился в глаза грязный лист бумаги с кривым росчерком: «Комендант Директории УНР на ст. Стремянная».
Кажан колебался, держась за медную ручку дверей. Сзади, совсем близко, послышались шаги. Кажан дернул ручку и вошел в вокзал. Там, внутри, было еще темнее, чем снаружи. Кирило стоял у порога, стараясь разглядеть, что делается в темноте. Внезапно дверь за спиной его отворилась. Кто-то, войдя, поднял высоко фонарь. Желтоватый язычок пламени осветил кучу тел на цементном полу. В углу закричал ребенок. Кажан посмотрел на вошедших и прислонился к стене. Их было несколько. В темных чумарках, в высоких смушковых шапках со шлыками, держа в руках винтовки, они разглядывали человеческие тела на полу.
Тот, что держал фонарь, был в шинели и фуражке – видимо командир. Командиров Кирило Кажан за годы войны научился распознавать с первого взгляда. Несколько минут человек с фонарем стоял молча, точно кого-то разыскивая, потом, передав фонарь другому, крикнул:
– Встать!
Люди на полу зашевелились, закашляли. Вторично приказывать не пришлось. Кажан крепче прижался к стене, точно желая слиться с нею.
– Проверка документов, – сказал военный в шинели. – Живо!
Люди будто вырастали на полу. Станционный зал наполнился глухим недовольным бормотанием. Зазвенело стекло, и в окне мелькнула тень человека. Тотчас же треснул выстрел, и уже за окном раздался стон.
– Выходи по одному, – кричал военный, – по одному!
Нехотя, боязливо озираясь по сторонам, люди двинулись к двери. Кажан отступил на несколько шагов, отдаляясь от выхода. Как будто обращаясь к нему, командир пригрозил:
– Эй, там, по стенам, шевелитесь, а не то я вас пошевелю!
– Покою не дают, – пожаловался кто-то.
– Я тебя успокою, – пообещал солдат.
Очередь дошла до Кажана. Его схватили за рукав шинели. К самым глазам поднесли фонарь.
– Документы!
Кирило почесал спутанную рыжую бороду и хрипло объяснил:
– Из плена я…
– Обыскать и задержать! – приказал командир.
Кажана подтолкнули прикладом. Он послушно переступил порог. Снова в ноздри ударил запах прелого листа. Кирило догадался, что это земля парует. Он еще оглядывался вокруг, мечтая о побеге. Но толпу окружили со всех сторон и повели от станции прочь.
До утра арестованных продержали в портовом сарае. Рядом, за стеной, хлюпали о деревянную дамбу днепровские волны. Кирило Кажан сидел, прижавшись спиной к стене. Волны Днепра плескались о берег. Кирило глубоко вдыхал знакомый запах воды, и ему казалось, что сердце бьется у него в груди быстрее. А заснуть не мог: мешали мрачные думы, и мысль о дочери была тяжелее всего.
Шел он из плена. На незнакомых дорогах встречались ему разные люди. В теле своем нес он нудную дрожь вагонов, а в ушах застыл предостерегающий звук паровозных гудков.
В дороге Кирило научился не думать о том, что творилось вокруг. Он любил устремляться мысленно вдаль, обгоняя поезд, перелетать, как быстрокрылая птица от жилища к жилищу. И когда это удавалось ему, сидел, забившись в угол вагона, смиренно прислушиваясь всем существом к своим радостным мыслям. Ему хотелось и теперь обрести это спасительное равновесие, но напрасно.
Шел он из плена и попал снова в плен. Но больше всего пугала его неизвестность. Кирило слышал, как у пристани шумели люди. Не затихал грохот колес на мостовой.
Утром арестованных повели к пристани. У крыльца комендатуры стоял человек, одетый в синюю чумарку, в островерхой смушковой шапке с длинным синим шлыком. «Комендант…» – пробежало в толпе.
Человек в синей чумарке нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Чуть повыше, на лестнице, стояло еще несколько человек в такой же одежде. Комендант протянул руку, и говор в толпе затих. Только из затона доносился звонкий перестук молотков, и где-то совсем близко весело чавкал катер.
– Вот что, братцы, – заговорил комендант, пряча руки за спину и пытливо вглядываясь в серые, стоящие перед ним фигуры. – Именем директории Украинской Народной Республики объявляю вам, что все вы подлежите, согласно универсалу, мобилизации. Все собранные здесь! – Он взмахнул рукой и описал ею круг. – Сегодня вам выдадут форму и направят в курень. А кто надумает бежать, того… – комендант выразительно дотронулся рукой до деревянной кобуры маузера, которая, казалось, приросла к его бедру. – Микеша! – позвал комендант.
Со ступенек крыльца быстро сошел низенький человечек с папкой в руке и стал смирно.
Комендант молча кивнул ему. Человечек торопливо раскрыл папку и, облизывая тонкие синеватые губы, стал читать:,
– «Согласно универсалу Директории, граждане фронтовики мобилизуются в армию Директории и вооружаются с целью…»
Затем были прочитаны фамилии мобилизованных. Кажан услышал и свою фамилию. В ту же секунду комендант впился взглядом в толпу фронтовиков. И тут Кирило узнал его. Перед ним было слегка исхудалое, но все же знакомое лицо Антона Беркуна. Кирило чуть не вскрикнул. Антон точно искал кого-то глазами, и Кирило сразу догадался, что искал он его.
Кирило Кажан, попав из плена на родину, не мог сразу как следует разобраться в том, что творилось вокруг. Но уже в первые часы пребывания в родных местах он почувствовал, где скрыто зерно правды и на какой почве оно взойдет.
Недаром он старательно обходил города и станции, о которых узнавал, что они взяты петлюровцами. Он рвался к Днепру, лелея надежду, что по реке скорее доберется до дому. В дороге, на коротких остановках, он больше прислушивался к разговорам, больше спрашивал, чем рассказывал. Так, постепенно, шаг за шагом, погружался он в новую жизнь. Но счастье изменило ему.
Теперь, попав в неожиданную беду и меньше всего желая воевать за директорию, Кирило решил было воспользоваться встречей с Беркуном. Но тут же вспомнил происшествие, свидетелем которого он был на фронте. Однажды утром, когда в окопах устроили обыск, охотясь за нелегальными большевистскими газетами, Кирило, лежа в окопе, слышал, как Антон Беркун рассказывал офицеру, что газеты спрятаны у Высокоса, который откуда-то их приносит. Через несколько минут Марка арестовали, а полк погнали в атаку. В этот же день Кирила взяли в плен. Вспомнив это, Кажан сообразил, что Марка Высокоса среди этих синежупанников никак быть не может.
Между тем список был прочитан. Комендант подошел ближе к мобилизованным и скомандовал:
– По два стройсь!
Люди построились в две шеренги, со страхом поглядывая на коменданта.
Со ступенек сошел офицер. До сих пор он стоял незаметно у входа в комендатуру. Офицер наклонился и зашептал что-то на ухо Беркуну.
Мимо колонны мобилизованных тянулись длинной вереницей подводы, доверху нагруженные мешками. На берегу шла разгрузка. Грузчики бегом таскали мешки по трапу на пароход.
Выстроив мобилизованных, Беркун прошёл вдоль фронта, зорко заглядывая каждому в глаза, словно проверяя что-то. Остановившись, он неожиданно крикнул:
– Кто тут Кажан? Два шага вперед!
Кирило, стоявший во второй шеренге, обдумывал в эту минуту, стоит ли ему обращаться с просьбой к Беркуну. Не придя ни к какому решению, он вышел из строя.
Приблизившись, Беркун всматривался в вытянувшееся, обросшее бородою лицо, потом, скользнув взглядом по всей фигуре Кажана и задержавшись на больших австрийских ботинках, тихо спросил:
– Узнал меня?
– Как не узнать? – смутился Кажан, не зная, как ему дальше вести себя с Антоном.
– Встретились, – сказал Антон, и что-то похожее на усмешку промелькнуло на его губах.
Старый Кажан сразу понял, что Беркун не очень-то обрадован этой встречей.
– Рассказывай, – почти скомандовал Антон.
– Что сказать? В плену был, а теперь домой надо, в Дубовку… Дочка ведь там у меня… – Кажан запнулся, и замолкал, не зная, как ему обращаться к Беркуну – на «ты» или на «вы».
Антон отвернулся и пошел назад к крыльцу, а Кирило все еще стоял на месте, растерянно оглядываясь.
Вечером Кажана вызвали в комендатуру. В комнате, куда его привели, сидел Антон Беркун. Дубовик перешагнул порог и нерешительно остановился.
– Подойди ближе! – сказал Антон и показал рукою на стул: – Садись!
Кирило кряхтя опустился на стул и, положив, на колени большие узловатые руки, приготовился слушать. Антон, листая на столе бумаги, украдкой поглядывал на него, видимо ожидая, что тот заговорит первым. Кирило молчал.
На столе зазвонил телефон. Беркун, недовольно закусив верхнюю губу, взял трубку.
– Слушаю. Да, говорит сотник Беркун. Да, да, хорошо… – Повесил трубку и сказал: – Так что сегодня на фронт отправляем вас…
Кажан завозился на стуле.
– А я было хотел просить тебя, Антон, – начал он робко.
– Проси, проси, – милостиво отозвался Беркун, – старым приятелям никогда не отказываю.
– Стар я уже воевать и так все силы порастряс на фронте. Ты бы меня отпустил. В Дубовку пойду. Мне туда непременно надо. Дочка там.
Беркун с минуту молчал, устремив глаза в угол комнаты.
Кажан тревожно перебирал пальцами на коленях.
Антон, будто проснувшись, сказал:
– В Дубовку хочешь?.. И мне бы туда не вредно. Родителей повидать! Только зря ты туда рвешься: нету Дубовки. Всю, говорят, большевики сожгли. Да и дочки Твоей там нет.
– Бога побойся! – вскрикнул Кажан. – Что ты говоришь? Да может ли такое быть?
– Может. Теперь все может быть, – убежденно проговорил Беркун. – Время такое, Кажан. Воюем мы за мать Украину, и ведет нас сам Петлюра…
Беркун осекся. Он почувствовал, что слова его отскакивают от Кажана, как горох от стены.
– Никуда я тебя не отпущу. Поедешь на фронт воевать с большевиками. А командует у них Высокос – закончил Беркун и зорко посмотрел на Кажана.
– Высокос? – переспросил тот и поднялся со стула. – А, может, дозволите домой?
– Так что, добродию Кажан, – Беркун тоже встал, – мать Украину выручать надо. Пойдешь на большевиков, казак!
Кирило, втянув голову в плечи, пошел к двери, толкнул ее рукой и очутился в узком темном коридоре.
Растерянный, он долго стоял на крыльце.
Мимо сновали военные. Грохотали по мостовой подводы. Все казалось охваченным лихорадкой. А у него перед глазами вставала Дубовка, Ивга, зеленые ковры камышей. Ветер с Днепра касался мягким крылом щек, и от этого мысли становились еще безысходнее.
VIII
Судьба играла с ним, как с котенком.
Все оказалось жалким, смятым. Сдержать развитие событий он не мог. Чего именно недоставало – сил или умения – Антон Беркун не знал и до сих пор. И встреча с Кажаном всколыхнула в памяти давние дни, прошлое, к которому не было больше возврата.
Антон упирался, пытаясь обрести внутреннее равновесие. Но тщетно. В конце концов он бросился в прорубь воспоминаний, угрызений и жалких самооправданий. Единственно, к чему он никогда не обращался мысленно, это была ранняя молодость – Дубовка, Марко, днепровская весна, убранная в шелка трав, напоенная морским ветром. Все это жило отдельно, вдали, занесенное губительной пылью дней.
Душа походила на ящик с сором. Взять бы жесткий березовый веник да вымести.
Вспоминалось недавнее прошлое.
Шепот в густых сумерках ночи. Предательский шепот. Благосклонный Феклущенко. Фамилия Марка Высокоса, история с запрещенной книжкой. И оплата за услугу – шелестящая трешница в горячей руке. Недвусмысленный совет управителя. Обещание – оставить в имении, освободить от призыва. В ответ на это – доносы о нехитрых и откровенных беседах плотовщиков,
И все-таки потом фронт…
Осень. Дождь. Облачная пелена. Плеск воды в окопах. Адский вой снарядов. Снова шепот – теперь на ухо офицеру – про Марка, про листовки с призывными, опасными, как огонь, словами.
Он бросался в это, как в омут, хватаясь скользкими пальцами за хрупкие былинки. И так же, как дома, легкий шелест десятки в руке. Потом неожиданно выбросило на поверхность, вынесло, как щепку, и прибило к берегу. Полковой комитет. Он – во главе, а рядом тот самый офицер, которому он выдал Марка.
А Марко уже где-то далеко, в тылу. Может, в в земле, под холмиком, насыпанным равнодушными, торопливыми руками… Так думалось…
Перед мысленным взором сверкал конек железной крыши на отцовском доме, возвышавшийся над бедняцкими кровлями, побитыми ветром и дождем.
Задиристый петух на коньке вечно бил растопыренными крыльями, глядя единственным глазом, мастерски сработднным рукою жестянщика, вдаль, туда, где высилась над степью Половецкая могила.
И могло случиться так: сметет железную кровлю вместе с петухом и вместе с ютящимися под ними достатком и покоем вихрь свободы и революции. Падет петух наземь и не встанет никогда…
Но могло быть и по-другому. Значительнее. Величественнее. Содержательнее. Путь к этому другому лежал через кровавую ниву. Через грабежи.
Антон Беркун выбрал этот путь.
Встреча с Кажаном ворвалась, как ненужное воспоминание, заставила искать в себе что-то растаявшее, как последний клочок снега в мартовский полдень, впрочем, он сам вызвал Кажана, вызвал с надеждой услышать из его уст осуждение и сразу же бросить в лицо ему, а с ним и всему племени дубовских плотовщиков давно заученные слова, едкие, оскорбительные и злорадные…
Но Кажан, пожилой, всеми дубовчанами уважаемый лоцман, только слушал да просил. Лишь в старческих глазах его читал Беркун то, чего не произносили губы.
И когда тот ушел, оставив в грязной комнате коменданта немотную тишину да запах немытого солдатского тела, Антон в злобе хватил кулаком по шаткому столу и разразился проклятиями.
Он перекипел и затих. А затихнув, распознал в себе пугающий холодок обреченности и неуверенности, не раз уже посещавший его по ночам, противное ощущение бессилия и предчувствие недоброго.
Тогда, испуганный, он позвал часового, приказал вернуть Кажана и оставил его в своем отряде.
«Так лучше», – утешал себя Беркун.
…Скупые, неясные и противоречивые известия из Дубовки только сбивали с толку. Поэтому Антон торопился и подбивал своих ближайших помощников на особенно ревностное выполнение петлюровского приказа «о добровольном изъятии ценностей у граждан на нужды Директории».
Вместе со своим молчаливым помощником Молибогой он реквизировал у населения ценности, не брезгуя ничем, неумолимо применяя в случаях малейшего отпора решительные меры. Охрана зорко стерегла три сундука, полных золота, серебра, часов и прочих сокровищ, три сундука награбленного, именуемого «реквизированным». Изворотливый и практичный Молибога, а с ним и Антон постепенно опоражнивали эти сундуки и прятали вещи в землю в условленных потаенных местах.
И у каждого из них всякий раз по возвращении из такого тайника возникали тревожные мысли: а не вздумается ли одному из них избавиться от другого, чтобы завладеть всем?.. Не потому ли они всегда держались друг за друга, прикрывая подозрительность и ненависть разговорами об искренности? Молибога был недурным наставником для Антона. Поповский сын, недоучка-семинарист, хмурый и неуклюжий, он во время разговора беспрестанно сгибал тонкие пальцы, словно сгребал что-то. На его раздвоенном подбородке всегда дрожала тень плохо выбритой бороды.
Он размахивал руками и кричал Антону в самое ухо про особую миссию директории и атамана, призванных что-то возродить, но что именно они возродят так и не мог сказать. Потея от натуги и старательности, он засыпал собеседника стертыми медяками слов, но вызывал только удивление.
Согласно его мелкой философии, вызревшей на поповском достатке, для мирового спокойствия необходима прежде всего мужицкая покорность.
Судьба свела его с Беркуном на фронте. Сблизили их события. С течением времени Антон все больше убеждался, как много значит для него присутствие этого человека. Хотя командовал отрядом Антон, но он, как и все, понимал, что верховодит Молибога. Сидя в Стремянной со своими двумя сотнями казаков, Беркун и Молибога выполняли несложную задачу: быть аванпостом, чтобы предупредить прорыв большевиков, провести дополнительную мобилизацию для петлюровской армии и установить в городе и в округе петлюровскую власть.
Повезло им во втором, что же касается первого и третьего – дела были плохи. Известий о продвижении большевистских отрядов не поступало, а окрестные села точно вымерли. Устанавливать власть директории было негде.
Два невзрачных пароходика стояли у пристани под парами. Сизые дымки курчавились над ними круглые сутки, вызывая у перепуганных жителей радостное предположение, что гайдамаки скоро уйдут.
* * *
Вечерами в красном кирпичном здании портовой конторы захлебывался баян. Шторы на окнах скрывали от любопытных прохожих то, что происходило в доме. Вокруг с винтовками ходили часовые. Неизвестно для чего, они время от времени постреливали в небо, а иногда и прямо перед собой, целясь в темные окна домов напротив. В ночной тишине тоскливо звенели разбитые стекла.
Гайдамаки стреляли не столько для забавы, сколько для успокоения нервов. Они похаживали вокруг дома, сосредоточенные и хмурые, избегали разговоров между собой. Возле портовых складов выла собака.
А в доме не слышали ни стрельбы, ни воя. Над столом, заставленным бутылками, качались пьяные головы. Всхлипывал баян, пели хриплые мужские и визгливые женские голоса.
Не пил только Молибога. Он сидел в углу как безмолвный свидетель дебоша и беспорядка. Сухой блеск его глубоко запавших глаз раздражал Антона.
– Если я пью, – проговорил Антон, тыча ему в рот чашку водки, – и ты должен пить…
Молибога отвел руку и встал.
– Я не пью, – сказал он, – ты же знаешь.
Теряя спокойствие, Молибога оттолкнул Антона и хлопнул дверью.
Антон бросил на пол чашку и непослушными пальцами стал уже отстегивать кобуру.
– Брось, – подскочил к нему вертлявый Перебендя.
– Брось, – засмеялся сотник и схватил его за руку. – Молибога правильно делает. Он у нас министр. Его скоро сам Петлюра к себе заберет.
– Высоко метит, – не успокаивался Беркун.
– Низко сядет, – добавил Перебендя и сам засмеялся своей остроте.
Молибога вышел из дому.
IX
Степь весною – безбрежное море. Молочные облачка тают на глазах.
…Степан Паляница притаился в густых кустах тростника. Степь и закат радуют глаз. Манят сизые дали. А мысли крутятся вокруг своего.
Дума что шмель, пробужденный весной. Но если бы пустить их – думу и шмеля – в полет, дума устремилась бы ввысь, а шмель реял бы над самой землей, в пыли, в утренних росах.
Но, как шмель, напоена целебной росой дума Степана. И кто скажет, над какими вершинами реет она?
На отлогом берегу – пять дней туда пешком, вверх по реке, – вросла в землю Степанова хата, и мучится в ней, терпя невзгоды и нужду, Степаниха. Не выйдет она из дома, не глянет на пыльную дорогу. Пропал ее Степан Паляница в гуле неведомых дней…
Остановись, время! Не воркуйте по-голубиному, талые воды! Отряхни, шмель, запыленные крылышки. Хочется Степану припасть ухом к земле и жадно слушать растущий грохот шагов, что доносится издалека, с востока.
Идут полки на подмогу (Кремень сказал). Скоро уже разорвется проклятое кольцо, лопнет ненавистная петля! Новые пути откроются в степи.
Цигарка прилипла к нижней губе. Пушинки пепла прячутся в бороде, и вьется дымок тоненькой лентой. Вьется и быстро тает в прозрачном воздухе. Сбросить бы с плеч этак лет тридцать, чтобы, как дымок самокрутки, растаяли они.
Сидит Степан в секрете. Привычным ухом ловит малейший шелест. А мысли сами собой плывут, уходя в простор. Любит Степан одиночество, когда можно вольно подумать.
Через густые заросли в плавнях ведет брод тайная, никому не известная партизанская тропка. Стережет ее Степан и слушает, как задумчиво шелестит высокий густой тростник.
За плавнями, за желтыми песчаными косами играет в берегах мелкая, словно изрезанная тысячами ножей, оловянная днепровская волна.
Сжимая коленями винтовку, Паляница клонит голову набок, прислушивается.
Тишина. Неподвижность. Покой. Но за тропкой надо смотреть в оба, так приказал Кремень. По тропке можно зайти в тыл партизанам, и по ней же можно совсем неожиданно выскочить во фланг врагу и засыпать его ливнем пуль…
Степан мечтает…
…По весне зацветет степь, и вихрастые березы за его селом прольют струйки своей сладкой душистой крови… Выйти бы тогда за ворота, окинуть хозяйским оком хату, степь и курчавые леса вдали и закрутить самокрутку, следя, как клубится горький табачный дым.
Не выйдешь, не глянешь.
Легким толчком языка Степан сбрасывает окурок с губ в воду.
День умчался за сизый горизонт и пропал… Стремительно надвигались сумерки.
Где-то совсем близко тихо и призывно прозвучал басовитый гудок.
Боец выпрямился над тростником. И сразу увидел белые борта парохода. Степан снял винтовку и трижды выстрелил. Над плавнями раскатилось эхо, а через несколько минут где-то впереди, как бы в ответ, прозвучали еще три выстрела.
В эту минуту у него за спиной захлюпала вода. Степан быстро обернулся.
Отводя руками камыши, к нему верхом приближался Марко. Поравнявшись, соскочил в лодку.
– Здорово, Паляница. – Марко снял кубанку, отирая локтем вспотевший, запыленный лоб.
– Пароход наши берут, – после короткого молчания сказал Степан, – слышишь?
Марку показалось, что совсем близко, почти рядом, рвутся гранаты.
Перестрелка нарастала, и вскоре треск выстрелов заполнил всю вечернюю степь.
Паляница и Марко вглядывались туда, где вспыхивали огоньки и захлебывался говорливый пулемет.
На минуту пальба утихла, но уже в следующий миг партизаны, подброшенные необычайной силы толчком, упали на колени в лодку.
Раскатистый гром потряс плавни, вечер, степь. Вода в Днепре закипела, запенилась, забушевала.
Вцепившись руками в борт челнока, Марко и Степан озабоченно смотрели друг на друга, еще как следует не понимая, что произошло.
Но вот за песчаной косой поднялся в небо столб пламени, и Марко сразу все понял. Расставив широко ноги, держась руками за камыши, он поднялся и увидел охваченный огнем пароход.
Перестрелка затихла. Из сумерек долетали неясные крики.
Марко молча выпрыгнул из лодки и очутился по пояс в воде.
Конь, запутавшись в камышах, тянулся ему навстречу. Марко вскочил в седло и натянул уздечку. Конь нерешительно топтался на месте.
– Давай, давай, Бехмет, – ласково потрепал его по гриве Марко. Покоряясь теплым словам, Бехмет стрелой пролетел сквозь камышовый заслон и очутился на дороге.
Прискакав на Лоцманский хутор, Марко разыскал отца. Тот стоял у хаты, окруженный партизанами. Вокруг было людно, но тихо. Марко понимал, почему все молчали… Он привязал коня к воротам, протиснулся к отцу. Кремень позвал сына в хату. За столом, склонившись над картой, сидел Матейка, освещенный мерцающим огоньком.
– Отец, пароход взорвался! – и Марко подтянулся, словно отдавая рапорт. – Я только что оттуда.
– Знаю, – кивнул Кремень. – Садись! И ты, Ян, послушай!
Матейка отодвинул планшетку.
– Теперь дело сложнее. Видно, взять в плен было невозможно, если Чорногуз решил взорвать их. Это тоже не плохо. Все лучше, чем петлюровцам отдать. Но хуже то, друзья, что, кажется, Петро Чорногуз убит.
Кремень знал об этом наверное, но, как бы на что-то надеясь, сказал «кажется».
Марко робко взглянул на отца, на его высокий, изборожденный морщинами лоб, на пожелтевшие, словно опаленные порохом, щеки, встал и затем снова сел, почувствовав, как застучало в висках.
– Не может быть, – отозвался Матейка. – Это ошибка…
Кремень покачал головой и умолк. На миг он ощутил сильное утомление и закрыл глаза.
– Теперь вот что, – сказал он после короткого молчания. – Надо обезоруживать вражеские эшелоны. Любой ценой! Это единственный способ добыть снаряды и оружие. Единственный…
Он не договорил. Жалобно скрипнула дверь. На пороге показался Максим Чорногуз.
Он прошел как-то странно, боком, на середину хаты и остановился, теребя шапку. Всем сразу стало понятно, что Максиму до боли трудно вымолвить безжалостные слова.
– Садись, – сказал Кремень.
– Садись, Максим, – зачем-то поднимаясь, предложил и Матейка.
Максим не сел, он порывисто повернулся и пошел к порогу. И уже откуда-то из глубины сеней долетело в хату:
– Петра убили!..
Сквозь открытые двери с улицы ворвался шум, снова появился Максим, а за ним, осторожно ступая, партизаны внесли на шинели Петра Чорногуза. Матейка и Марко замерли у стены. Хата сразу наполнилась народом. Казалось, никогда еще не было под этим низким потолком столько людей.
Петра положили на постель. Максим оперся на спинку кровати в ногах убитого и сверлил глазами стену.
Непомерно широкий в плечах, в расстегнутой на груди кожанке, Петро Чорногуз лежал с вытянутыми вдоль тела руками, будто лег на минутку отдохнуть и заснул, побежденный усталостью. На бледное лицо с черными, как смоль, вихрами, на лоб, на небритые щеки и пухлые, чуть приоткрытые губы ложились слабые отблески огня. И если бы не черное пятнышко на виске да не узенькая полоска запекшейся крови через всю щеку, верно, никто бы и не поверил в смерть командира Чорногуза.
Никто не заметил, как вышел и вернулся Кремень. Он принес знамя отряда и осторожно накрыл им тело друга.
Не проронив ни слова, стали у постели четыре партизана.
А Максим все стоял, опершись на ветхую спинку кровати, только слезы тяжелыми каплями катились по его щекам, теряясь в бороде.
Петра похоронили на-рассвете…
Выкопали на склоне Горы-Резанки могилу, и вскоре над ней вырос холмик свежей земли. Партизаны положили в гроб закупоренную бутылку с бумагой, на которой была описана бурная и честная жизнь алешкинского матроса Петра Чорногуза.
Марко с партизанами поставили на могиле камень. Выбили на камне день, месяц и год, когда Петро погиб.
Предрассветную тишину разорвали залпы последнего салюта.
Пасмурное неспокойное небо сеяло тихий дождь.
В то же утро, через час после похорон, Марко с отрядом кавалерии в двести сабель выступил из Лоцманского хутора.
Кремень решил занять узловую железнодорожную станцию.
Силы партизан на Лоцманском хуторе возрастали, но давал себя знать недостаток оружия и боеприпасов. К тому же, как назло, связь с Центром прервалась. А между тем было ясно, что надо любой ценой ускорить наступление на Херсон. Пока там оккупанты, красные отряды в опасности.
Смерть Петра Чорногуза, утрата отважного и опытного товарища глубоко поразила командира партизан.
Сосредоточенный и молчаливый, Кремень присматривался к знакомым лицам, прислушивался к разговорам, изучал людей, проверял, как будут они вести себя в предстоящих боях. И все партизаны, собранные на хуторе и в плавнях, хорошо понимали, что час наступления близится.
Отряд разбили на сотни для лучшей маневренности частей.
Марку дано было двое суток: следовало добыть оружие и немедленно вернуться. Это был опасный рейд. Почти в пасть зверя. Но выход был только один, и Кремень решился.
Для операции отобрали бывалых, опытных бойцов и лучших коней. С отцом Марко говорил недолго. Сухими отрывистыми словами Кремень изложил суть дела. Только выходя из хаты, сын прочитал в глазах отца что-то такое, от чего чаще застучало сердце в груди.
– Иди, иди, – сказал изменившимся голосом Кремень.
Марко приложил руку к кубанке, звякнул шпорами и очутился за дверью.
Когда отряд Марка ушел, Кремень собрал командиров сотен. В хате было дымно и душно. Окна запотели от дождевых капель. Ветер низко нес оловянного цвета тучи над первой весенней листвой.
Речь шла о предстоящем наступлении на Херсон. Людей собралось столько, что их едва вместил Лоцманский хутор.
В напряженной тишине командир разъяснял, какая задача стоит перед партизанами. В тот вечер решили объединить отряды в дивизию и назвать ее Первой Днепровской краснопартизанской дивизией.
Днем Кремень с несколькими партизанами выбрался на лодке, за плавни, на место, где отряд Петра Чорногуза потопил греческий пароход. По реке плавали обломки. Вода прибила к берегу спасательные круги и несколько трупов.
Степан Паляница сидел на корме, поглядывал на реку…
– А что, если нырнуть? – проговорил он задумчиво. – Может, на дне что найдем?
– Попробуйте, – согласился Кремень.
Вызвалось много охотников.
Партизаны ныряли, и некоторые выплывали с винтовками в руках. На берегу разложили костер. Вынырнув, выбирались на берег, грелись, сушились у огня.
Сеялась мелкая изморось, и хворост едва горел.
Вокруг костра сушили одежду, щелкая зубами от холода.
Все же удалось достать несколько десятков винтовок. Но Кремень приказал прекратить поиски. Вернулись на хутор, расставив вдоль плавней удвоенные патрули.
Кремень предвидел, что исчезновение греческого парохода заставит оккупантов принять меры против партизан. Наибольшая опасность грозила с воздуха. Поэтому командиры сотен следили, чтобы люди нигде не собирались толпой.
В полдень над Лоцманским хутором появились самолеты. Покружились и исчезли, оставив за собой затихший шум моторов. Это были два французских истребителя. Они вернулись в Херсон ни с чем.
* * *
Греческий пароход как в воду канул. Пилоты доложили, что на Днепре его не видно. Спуститься к лиману, впрочем, разведчики не отважились, но об этом они решили молчать.
Генерал Ланшон рвал и метал. Творилось невероятное! Эти партизаны поистине обнаглели! Но он научит уважать армию держав Согласия! Генерал приказал созвать внеочередное заседание городской думы. Он прибыл в думу в сопровождении Форестье, британского консула Притта и представителя директории Миколы Кашпура. Вокруг здания думы выстроили две роты греческой пехоты. Через просторные окна гласные видели их штыки…
Генерал, дергая аксельбанты, кричал на испуганных депутатов:
– Мы пришли сюда для поддержания порядка, как цивилизованные люди, но я вижу вокруг только дикарей и варваров!.. Даю вам двадцать четыре часа, чтобы внести золотом стоимость утраченного нами парохода и оружия. Иначе я расстреляю думу!
Переводчик скороговоркой довел до сведения депутатов это требование.
В городе объявили осадное положение. На улицах появились усиленные патрули. Был вывешен приказ о сдаче оружия под угрозой смерти.
– Я их всех перестреляю! – горячился генерал Ланшон.








