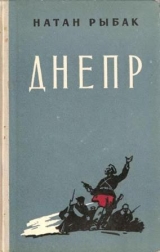
Текст книги "Днепр"
Автор книги: Натан Рыбак
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
XI
Март – месяц журчащих ручьев, первого робкого цветения.
Весна шла с юга. Она реяла над лиманом, и пьяный, соленый на вкус ветер ее не нравился грекам, немцам и французам.
Дымили на рейде трубы эскадры, Но Ланшона это не успокаивало. Тревога оставалась и все выразительнее отражалась в путаных приказах, объявлениях и постановлениях командования. Шифрованная телеграмма об эшелоне 209 оказалась ложной. Эшелон не прибыл ни в назначенный день, ни позднее. И вскоре выяснилось, что эшелон захватили большевики. Генерал Ланшон притих. Он не кричал, не кромсал обозленно длинные душистые папиросы, не называл идиотом Форестье. К нему вернулась рассудительность и наполнила его расчетливой, холодной жестокостью.
Из Одессы ни гонцов, ни известий. Точно сгинул в Черном море генерал д’Ансельм.
Опасность уничтожила преграду недоверия между представителями союзных государств. Каждое утро у генерала собирались полковник Форестье, Маврокопуло, майор Ловетт, Тареску и Вильям Притт.
Это был штаб командования и одновременно трибунал. В углу неизменно Сидел Микола Кашпур, прислушиваясь к разговорам, а иногда и сам отваживаясь вставить слово.
Он давно почувствовал себя лишним, а свою миссию представителя директории – фальшивой и нелепой.
Как и генерал, Кашпур знал, что Красная Армия громит петлюровские курени, а сам головной атаман обивает пороги генштаба Речи Посполитой, выпрашивая, как нищий, помощи против большевиков. Скоро на молодого Кашпура совсем перестали обращать внимание, а полковник Форестье прозрачно намекнул, что его присутствие на заседаниях штаба необязательно.
Микола вскипел и напомнил французу о соглашении, которое подписал Ланшон.
– Не говорите глупостей, – рассердился полковник. – Какая цена вашим соглашениям?. Блеф! Где ваше правительство, где ваша армия?
Представитель директории скрежетал зубами, в бессильной злобе сжимал кулаки и молчал. Полковник был прав.
Выброшенный из штаба союзных государств, Микола развернул кипучую деятельность. Добыв фальшивые документы на имя кооперативных работников, он снабдил ими Остапенка и Беленка и спровадил их из Херсона – восстанавливать связь с директорией.
Оставшись один, он быстро сблизился с американским майором Ловеттом и вскоре сделался его ближайшим помощником. Кашпура привлекала жестокость по отношению к мирным жителям, которую проявлял майор по самому незначительному поводу. Оба приятеля пришли к соглашению, что единственное спасение от восставшего народа – это расстрелы, виселицы, смерть. И когда штаб назначил майора комендантом Херсона, Кашпур по праву счел себя его заместителем, хотя приказ об этом появился гораздо позже.
Над морем нависло загадочное молчание. С суши приходили вести, одна тревожней другой.
Генерал Ланшон уведомил думу, что городская квартира его не удовлетворяет, и переселился на военный корабль.
Связь с городом поддерживалась по телефону и с помощью катера. Майор Ловетт по-своему расценил эту перемену:
– Французы все такие трусы… – и он выругал последними словами Паркера, бросившего его здесь на произвол судьбы.
Городская дума еще существовала, но она была похожа скорее на место, где можно спрятаться, чем на учреждение.
Поселившись на корабле, командующий немного успокоился и потребовал от своих коллег предложений по ликвидации красных частей. Мнения расходились. Отсутствие единства во взглядах волвовало Ланшона.
Британский консул Притт настаивал на высадке десанта и форсировании верхнего Днепра. Полковник Форестье советовал не торопиться. Капитан Маврокопуло был солидарен с ним. Ланшон решил выждать.
* * *
Тем временем, город жил своей, непонятной для оккупантов, жизнью.
Ежедневно на заборах и стенах домов появлялись листки большевистских прокламаций.
Если раньше казненных за революционную деятельность регистрировали в специальных списках, то теперь от этого пришлось отказаться: повешенных и расстрелянных считали десятками.
Генерал Ланшон, сидя у себя в каюте и кутая в плед ревматические ноги, в тысячный раз обдумывал способы выпутаться из этой истории.
Полковник Эрл Демпси молчал. На все депеши майора Ловетта – ни слова. Ловетт задумался: не пора ли выбираться отсюда?
Наконец Кашпур добился свидания с генералом. Не таясь, он сразу открыл цель своего прихода.
Ланшон слушал его внимательно, прикрыв глаза. Его скрещенные на груди руки ритмично поднимались и опускались.
Кашпур закончил и, ожидая ответа, мял в пальцах погасшую папиросу.
– Ну что ж, – раскрыл наконец глаза генерал, – все, что вы сказали, несомненно, правильно, но выступать против большевиков мы не будем. Мы примем бой. И тогда разгромим их. Вы говорите о Петлюре, но где его войска, где ваши обещания ликвидировать красных? Наоборот, они ликвидируют вашу армию. Они обнаглели до того, что прислали мне письмо, требуя немедленно оставить Херсон.
Кашпур съежился в кресле. В его выпуклых с красными прожилками глазах генерал прочитал озабоченность труса. На мгновение ему стало жаль Кашпура.
– Вы слышали о генерале Галифе? – спросил он, оживляясь.
– Конечно.
– Чтобы задушить революцию в вашей стране, нужны десятки тысяч Галифе.
Ланшон высказал то, о чем не раз в последние дни думал. Затем он откровенно спросил Кашпура:
– Каковы ваши намерения в случае нашей эвакуации?
– А разве предполагается?
– Я интересуюсь вашими намерениями, – уклонился от ответа генерал.
– Я останусь здесь, – глухо ответил Кашпур, – я буду биться до последних сил, грызться зубами. Там, за Днепром, моя земля, мои пароходы, мои лесопилки. Я не знаю, где мой отец. Я стал нищим, и моя ненависть к ним, господин генерал, не имеет границ. И я не один, господин генерал. Нас много.
– Такая решимость похвальна, мой молодой друг. Но помните о генерале Галифе.
Беседа с командующим вызвала у Миколы чувство обреченности. Ему осточертели пустые херсонские улицы, линялые, хмурые, исцарапанные пулями дома, запущенная, грязная гостиница. Остапенко и Беленко точно в прорубь канули.
Город был отрезан от суши. Неуверенность и страх мучили не только Кашпура. В ночь после разговора с генералом Ланшоном покинул Херсон британский консул Притт. Англичанин выехал, никого об этом не уведомив, ни с кем не попрощавшись. Это событие долго затем обсуждалось в среде командования союзных войск. Но Притта это мало трогало. Он сидел на палубе греческого торгового судна, взявшего курс на Константинополь. Консул придерживался того взгляда, что лучше сойти с арены на день раньше, чем на минуту позже.
Попыхивая гаванской сигарой, он презрительно думал о своих коллегах, оставшихся в Херсоне.
Старый пароход шел со скоростью семи миль в час, имея на борту британского консула, десяток херсонских фабрикантов, одного киевского сахарозаводчика, двух архиереев. В трюме были свалены ящики с награбленным золотом, церковной утварью, мешки сахара, муки, картины из местной галереи и поповские ризы – все это было реквизировано капитаном парохода.
XII
Тяжелый сон оставил Ивгу. Тело освобождалось от него, словно разжимая сдавивший виски железный обруч.
Девушка впервые увидела над собой щербатый, с небелеными балками потолок, а в окне клочок голубого неба. Она пришла в сознание, но думы о виденном во сне все еще не оставляли ее.
Долог был этот сон, слишком долог. Ивге даже казалось, что просто она жила в каком-то ином мире, очень уж много горького и неутешного было в этом сне! Вот и сейчас, стоило ей только закрыть глаза, опаленные ярким дневным светом, и она оказывалась посреди широкой реки. Волны ласково укачивали ее. И как ни силилась она разглядеть берега, они маячили вдали только неясной полоской и были все также далеки от нее. Это опечалило бы Ивгу, не баюкай ее волны так нежно.
На одном из берегов остался Максим Чорногуз, утлый челнок и все остальное, оставленное там позади.
Ивга пыталась восстановить в памяти, что же именно там еще осталось, но потом отказалась от этой мысли, покорилась волнам и снова погрузилась в глубокий сон, лишенный на этот раз видений.
Ветер хлопнул дверью. Ресницы у Ивги дрогнули. Сон отлетел от нее. В хате было темно и тихо.
Вспомнилось все. Лоцманская Каменка, рокочущий голос пушек, похожий на гул запоздалой осенней грозы. Максим Чорногуз. Бегство. Трое суток в камышах, в комарином аду. Жгучая жажда, муки голода и, наконец, долгий путь на лодке по Днепру.
Дальше все пропадало. И никакими усилиями этот провал в памяти нельзя было восстановить…
Ивга зашевелилась на постели, ощутив странную легкость тела. Ей послышалась приглушенная речь.
Тогда она чужим голосом окликнула:
– Кто тут?
Никто не ответил. Она попробовала встать и не смогла.
Ветер хлопал дверью. В сенях что-то шуршало. За окнами синела ночь.
Ивга гладила руками лицо, словно хотела найти на нем что-то новое.
Она опустила руку, коснулась стоявшего на полу кувшина и, приподнявшись, припала губами к воде. Держала кувшин у рта, пока хватило сил. Потом он выскользнул из рук, она услышала, как вода пролилась на глиняный пол.
Странное спокойствие овладело ею. Хмурый день заглядывал сквозь окошко в хату.
По стеклам сползали дождевые капли. Ивга осторожно, держась рукой за стол, боясь потерять равновесие, добралась до окна и опустила острые локти на узенький подоконник.
Она увидела широкую песчаную косу. Река пенным кружевом обрамляла ее.
Шел бесшумный неторопливый дождь. Кусты на берегу застыли в неподвижности. Ивга отважилась дойти до порога, переступила его и плечом прислонилась к притолоке. Дрожащими пальцами собрала волосы и забросила их за спину. Губы непроизвольно раскрылись и вбирали жадными глотками влажный, свежий воздух.
Вытянув голову, девушка с надеждой оглядывалась вокруг. Но все оказалось чужим, незнакомым, как и сама хата, где она находилась. И тогда сразу, точно тяжелые косы потянули ее вниз, она сползла на порог и, держась рукой за притолоку, заплакала.
Одиночество излилось в слезах.
Стояла на берегу Днепра рыбачья халупка. Сиротливо качались на кустах сети. Напрасно лопались на рассвете вишневые почки, напоминая, что идет полноправная веселая весна. Хозяин не возвращался. И, словно тоскуя по нем, замер на крыше аист, спрятав в перья длинный клюв…
На шестке нашла Ивга несколько караваев хлеба, связку сушеной рыбы, а в сенях, на гвоздике, – кусок сала, аккуратно завернутый в полотно. Слезы благодарности навернулись на глаза. Кто-то позаботился о ней, не бросил на произвол судьбы.
Спускались сумерки. Ивга заперла дверь, присела на постель и ждала. Хозяин мог прийти каждую минуту. Ползли часы. Ей слышались шаги. Кто-то дергал дверь, тревожно барабанил пальцами в окно. Но все это были шалости вешнего ветра.
Миновала ночь. Никто не приходил…
Стало жутко. Ивга не могла вспомнить, как она здесь очутилась. Обошла несколько раз вокруг хаты. Впереди – Днепр, а по сторонам – пустынная степь.
Девушка пошла по берегу. Остановилась над рекой. По воде стлалась солнечная дорожка.
Ивга наклонилась, из глубины глянуло на нее лицо с запавшими худыми щеками, полураскрытые губы невольно выплеснули золотую рыбку улыбки. Ресницы дрогнули.
Ивга подняла глаза на противоположный берег. Там бежали телеграфные столбы; между ними, должно быть, вилась дорога. Над нею повисло прозрачное марево.
Ивга вернулась в хату, прибрала, подмела, потом выстирала юбку и кофту и повесила на тын сушить, а сама в сорочке стояла у порога, греясь на солнышке и все еще с надеждой поглядывая на степь, на реку – не вернется ли хозяин.
Прошло несколько дней. Ивга поняла, что никто не придет. По вещам, находившимся в хате, она пыталась определить, кто же ее хозяин. В одном она убедилась: женщины в этом доме не было. Повсюду разбросана рыбачья снасть – ржавые жестянки, бутылки, разных размеров крючки. Под божницей сиротливо торчал обгорелый фитилек лампадки.
Хлеба не стало. Беспокойство охватило девушку. Надо было решать: что делать дальше? Выбирать? Мысли беспомощно перепрыгивали с одного на другое.
В памяти отчетливо, как голубой горизонт за рекой, стояла ночь бегства из Дубовки.
Ивга долго сидела на пороге, крепко обняв колени. В широко раскрытых глазах светились страх и надежда. Когда-то она мечтала уйти на край земли. Вот за этот прозрачный горизонт. Подальше от людей. Чтобы только степь, река, леса. Да их двое: она и Марко.
Так бы и шагать по степи рядом, плечом к плечу, молча слушая счастливое биение сердец. Дорога сама стелется под ноги. И – ни тревог, ни хлопот…
Таким представлялось счастье.
Ивга выпрямилась. Ее потянуло к реке. Она села у воды на трухлявое бревно.
Девичий голос разостлал над Днепром слова трогательной песни:
Где ты милый, чернобровый,
Где ты, отзовися…
Громкое эхо разлеталось и таяло где-то за камышами.
Девушка пела и плакала. Пила соленую влагу слез. Так и просидела до самых сумерек, ничего не надумав.
Лишь когда зашло солнце, надела старенькую свитку, взяла разбитые, с дырявыми подошвами сапоги, с жалостью обвела глазами хату и отправилась в путь.
Очутившись на тропинке, что вела в чащу низкого молодого сосняка, она еще раз оглянулась на свое гостеприимное пристанище.
Русая прядь выбилась из-под платка на лоб. Ветер завладел ею и рассыпал золотистые волосы над глазами.
Ивга откинула их и пошла.
* * *
Пароходы, нагруженные снарядами и оружием, шли вниз по Днепру. Убегали назад берега.
Партизаны разместились на палубах и в каютах. Приняли все меры предосторожности. Днем и ночью дежурили часовые. Никто и не подумал бы, какой груз тут везут.
Партизаны, спрятав оружие, стали похожи на обыкновенных крестьян-отходников, что каждый год весной едут в Таврию на заработки.
Кочегары старались. Охрим подгонял их. Он помнил приказ Высокоса – доставить груз как можно скорее. Они, собственно, для того только и разделились, чтобы Марко мог отвлечь вражескую погоню на себя и дать возможность пароходам уйти.
Охрим, сбросив свой неизменный коротенький полушубок, надел потертый боцманский бушлат. Поднося к глазам бинокль, он оглядывал берега.
На палубах шумели. Многие партизаны сплавляли в этих местах лес. Они знали каждый кустик на берегу, каждую заводь.
– Кончать бы поскорей с этой сволочью, – рассуждал на корме усатый мужик в постолах, окруженный гурьбой бойцов.
– Заживем тогда, дядя Яким! – Молодой парень в бескозырке широко расставил руки и захохотал.
– А ты зря зубы не скаль, – рассердился Яким, любивший в жизни рассудительность и уравновешенность. – Ты много уже этой петлюры побил?
– Да разве я виноват, что не был в бою? – защищался парень, подмигивая партизанам.
– Ты ресницами не упражняйся, – не успокаивался Яким, – ресницы для девчат побереги, тут серьезность нужна… враг – он хитрый, он как лиса весной – линяет, а ты сумей вытащить его из норы.
Якима слушали внимательно. В отряде Кременя таких было двое – он да Паляница – пожилые партизаны, которым перевалило за пятый десяток. Их уважали, а Кремень часто советовался с ними.
Парень в бескозырке уже молчал, не пытаясь спорить. Да и в самом деле, Яким о многом мог порассказать. Он всюду побывал. И плоты водил, и батрачил, и на сахарном заводе работал, и на войне был.
Да и рассказывал обо всем охотно.
Шел дождь. Потом засветило солнце и стада туч растаяли в небесах. Колеса судов однообразно плескали по воде сработанными лопастями. Партизаны спешили в Лоцманский хутор.
Охрим по мере приближения к цели все больше успокаивался. Волновала его только судьба Марка. Как он там со своим отрядом?
А Марко, побывав за полустанком в нескольких селах, пустил слух, что отряд его – лишь разведка и что за ним идет красная конница; он рассчитал верно.
По его следам шли гайдамаки под командой Беркуна.
Петлюровцы были уверены, что красные сопровождают захваченное оружие и потому далеко не уйдут.
Решив повернуть обратно, чтобы снова выйти на верную дорогу, Высокос зашел ночью в село Кызлу. Разузнал, что утром там были петлюровцы и что теперь они должны быть где-то впереди.
Оставаться в Кызле было небезопасно. Идти вперед также, но возвращаться – бессмысленно. Марко решил прорваться. Пятьдесят всадников с командиром во главе тронулись в путь.
XIII
Недалеко от Днепра, окруженный стройными рядами садов, расположился хутор Масловка. За садами весной набухал чернозем, поднималась озимь, овес выбрасывал тонкие острые ростки. Жили в Масловке с давних пор люди рассудительные, суровые, у каждого водилась про запас сотня рублей, хлеб ели пшеничный. Иногда рыбачили, да и то для забавы. Основались масловчане на этих землях недавно. Прибыли в эти места с разных концов страны и приросли крепко, словно сосны, корни пустили глубоко. На всю округу прославились достатком и спесью.
По всему Днепру знали их. Ходил слух, что в тех краях, откуда явились, были они богаты, а тут еще больше разбогатели и что будто имеют они на свою собственность грамоту от самого царского министра Столыпина. Жили дружно. Да и не было причин ссориться. Земли – вдосталь, сады плодоносили, хозяев – всего несколько десятков, а новые не приезжали. Да и кто осмелился бы поселиться здесь без земли, без денег? Выживут – и делу конец.
Стоял хутор в стороне от тракта, не дружа с соседними селами, держа связь только с помещиками и хлебопромышленниками.
А вокруг Масловки светили в небо дырявыми стрехами худоребрые хаты сёл Обдираловки, Звонницы, Бездомовки, Грайдоли, Бескопейихи.
В этих селах масловчане слыли людьми жестокими, неприветливыми; с ними избегали встречаться, да и сами они, кажется, были рады этому.
Революция пала на масловчан как гроза в жатву. Вырвала из рук вожжи, и жизнь пошла кувырком.
Прежде все было свое: и мельницы, и молочные фермы, и культиваторы, и веялки, и собственная церковь с попом Молибогой. И вдруг оказалось, что, кроме церкви и попа, ничего, у них не осталось. Да и поп лишился своих семидесяти десятин, и остались у него лишь аналой[6]6
Аналóй или аналогий – употребляемый при богослужении высокий четырёхугольный столик с покатым верхом; иногда аналои бывают складными (разножки). Аналой стоит посреди каждого православного храма перед иконостасом.
[Закрыть], пьяница дьякон, забитая попадья да сын Владимир, бродивший где-то по киевским улицам – батюшка мечтал о высоко духовном сане для сына…
Сперва масловчане думали – обойдется. Поначалу и впрямь обошлось. Но в октябре 1917 года поняли – не обойдется.
Осмелели бескопейчане, обдираловцы, грайдольцы.
К своим узким истощенным полоскам прирезали жирные масловские земли, позабирали веялки, сеялки, культиваторы, породистых быков, коров и коней. И все это делалось по законам, установленным новой властью, которая, как понимали масловчане, была властью бедноты.
Еще недавно говорили, что Масловкой хутор звался недаром: там и вправду все как сыр в масле катались, а теперь от этой когда-то справедливой поговорки остался один смех.
И решили масловчане землю и богатство свои не отдавать. Не могли они примириться с тем, чтобы вчерашние нищие, батраки, завладели их достатком.
И вот с благословения попа Молибоги послали они сыновей (а кое-кто и сам пошел) в петлюровцы, в гайдамаки, в шайки всевозможных «атаманов», неся в сердцах звериную ненависть и жажду мести.
Они мстили, пытали, вешали и расстреливали.
А сынок поповский вышел «в люди», и батюшка трижды служил молебны за здравие его и за успех.
Молебны помогли мало. Оккупанты бежали. Все дальше от Масловки стучали колеса вагонов директории.
С востока шла Красная Армия, неся на своих штыках необоримую силу для бескопейчан и бездомовцев. И выходило, что одна надежда у масловчан – на банды, что кружили по степи от села к селу.
А с нижнего Днепра по камышам, по низкорослой траве пологих берегов долетел вольнолюбивый ветер, принес на крыльях своих весть о партизанской Красной дивизии под командованием Кременя. С ума можно было сойти от всего этого.
Но не сошел с ума поп Молибога, не спятили и его прихожане. В волчьи ямы прятали масловчане зерно и свертки полотна, закапывали под овины и замуровывали в печах наполненные золотом жестянки с веселым росчерком на крышках: «Монпансье Эйнем».
И когда нежданно-негаданно появился на хуторе большой конный отряд гайдамаков с черными шлыками во главе с Антоном Беркуном и поповским сыном Владимиром, масловчане ожили, точно заново родились на свет.
В просторной столовой большого каменного дома Молибоги стол ломился от яств, не умещались на нем вазы и тарелки, звенели ножи и вилки, весело булькала водка, переливаясь из бутылок в стаканы, а оттуда – в жадно раскрытые рты.
Гуляли не одни атаманы, гуляли и гайдамаки. Допоздна вырывался из дворов визг закалываемых свиней. То и дело звучали выстрелы. А вокруг хутора, в секретах, стояла многочисленная стража, оседлав тракт и дорогу к Днепру…
Отряд Марка Высокоса въехал в Масловку ночью. Патрули, притаившись во рвах у дороги, беспрепятственно пропустили всадников и дали знать на хутор. А когда Марко с отрядом очутился посреди улицы, их мгновенно окружили со всех сторон. И тут во весь рост выпрямилась обманчивая тишь на хуторе. Было уже поздно. Куда ни кидался отряд, всюду ждал капкан.
Отстреливаясь, всадники пытались отступить, но пулемет ударил им в спину. Марко расстрелял все патроны и, выхватив саблю, бросился в самую гущу, рассыпая направо и налево удары, возгласами подбадривая партизан.
Внезапно сабля Высокоса застряла в чем-то мягком, а когда он вытащил ее, в глаза ему блеснуло пламя, и Марко свалился с коня вниз головой. На этом все и кончилось. Словно на весь мир накинула навеки свой непроглядный полог беззвездная облачная ночь.
Под тынами лежали петлюровцы и партизаны. У околицы лаяли собаки. Бегали кони без всадников. Хлопотливо и разноголосо пели свою предрассветную песню петухи, как пели сотни лет назад, как будут петь и через тысячу лет.
В живых осталось всего четверо партизан, все они были ранены и контужены.
Марко лежал среди них в просторном овине на соломе, медленно возвращаясь к жизни по трудной, головоломной тропе.
Не все сразу стало понятным. Вначале пальцы нащупали жесткую, хрупкую солому, а под нею натолкнулись на деревянный настил.
Потом разомкнулись веки, отталкивая через силу тяжкий сон. Сквозь узкие щели в дверях пробивались скупые лучи света. С трудом подняв голову, Марко разглядел вокруг знакомые лица. У всех партизан руки и ноги были связаны.
– Славно! – произнес он громко, сам удивляясь, почему именно это слово первым слетело с его языка.
Трое лежавших рядом на соломе партизан – Олекса Сурма, Степан Дранов и Микита Гарайчук стонали, точно больные одним недугом.
От острой боли в затылке и предплечье хотелось стонать и Марку, но мысли о случившемся вихрем проносились у него в голове и заставляли забыть о боли.
К счастью, его только оглушили, несколько раз ударив прикладом. Трое же его товарищей были ранены. Пересилив боль, Марко повернул к ним голову.
– Как думаете, Охрим уже в Лоцманском? – прошептал он.
– Наверно, – отозвался Гарайчук, и в голосе его Марко услышал неприятную дрожь.
Бывалый дубовик Олекса Сурма, бородач и весельчак, проворчал, сплевывая в темноте сгустки крови:
– Зальют теперь нам сала за шкуру.
Ему ничего не ответили. Марко понял, что настал конец.
Безнадежность закрыла будущее черной пеленой, наполнила сердце едкой горечью. Он попытался зацепиться мыслью хоть за краешек надежды, но не нашел ничего.
Рядом, охваченные теми же мыслями, лежали товарищи.
Глаза партизан встретились, и эта минута связала их сердца навеки.
И тут Марку вдруг вспомнилась далекая, давно забытая железнодорожная станция.
Через мост мчался, мелькая в просветах между железными ребрами ферм, стремительный поезд.
Марко стоял тут же, прижимаясь к переплетам ферм, смотрел, как мчались и пропадали вагоны, сея по рельсам перестук.
А железо моста гудело и билось дрожа, обреченное на неподвижность, приветствуя другое железо, уделом которого было – мчаться без устали вперед.
Теперь Марко и сам как тот мост: жизнь, словно поезд, прогрохочет по нему к ясному рубежу солнечного дня.
Его вернул к действительности голое Олексы Сурмы.
– Что ж дальше будет? – проговорил бородач.
– Из кожи нашей гайдамаки сапоги сошьют, – попробовал отшутиться Гарайчук.
А Дранов, задумчивый семнадцатилетний парнишка, вздохнул, но не проронил ни слова.
– Помните, товарищи, – тихо промолвил Марко, – если спросят, где стоит наша дивизия или что другое, молчите! Все равно – смерть.
– Возьмут наши братки Херсон, ясно, возьмут, – вместо ответа, отозвался Гарайчук. – Ты как думаешь, командир?
– Непременно возьмут, – ответил Марко.
– А из нас тут холодца наварят, – вставил Олекса.
– Будет! – почти закричал Дранов. – И чего вы, дядя Олекса, все шутите? Тут плакать хочется!..
– А ты поплачь, – посоветовал Марко. – Поплачь, чтобы потом, Степа, враги слез твоих не видали. – Он говорил Степану, а в душе относил эти слова к себе самому. – Держись крепко, паренек. Умирают один раз, и умереть надо с честью, чтобы враги не тешились, а боялись.
– Мы еще жить будем, – убежденно сказал дубовик. – Пусть гайдамаки дохнут. Нам умирать никак нельзя. Самая жизнь для нас начинается…
– Спросят они тебя, – зло заметил Гарайчук.
У дверей раздались шаги. Из-за стены долетали голоса:
– Ну что?
– Караулю, господин сотник.
– Отдыхает коммуния?
– А бес их знает.
– Может, сбежали? – повысился голос. – Ты у меня смотри, голову на поживу псам кину!
– Не сбегут, господин сотник. Веревкой крепко перевязаны.
– Они что оборотни. Одним словом, могут в трубу вылететь.
– Что вы, господин сотник!
– Гляди же! Скоро их к атаману поведут… Он им пропишет манифест…
За стеной расхохотались.
Затем все стихло.
Снова зазвучали шаги часового. Пять вперед, пять назад.
Марко зачем-то стал их считать. Наступило гнетущее, неприятное молчание.
Марко насчитал сто пять шагов.
Ворота заскрипели и отворились.
С винтовками наперевес вошли в амбар гайдамаки.
– Вы бы еще пушку с собой захватили, – усмехнулся Сурма, – ишь, вояки…
– Помолчи! – крикнул конвойный и замахнулся прикладом. – Сотрем вас на порох и будем пушки заряжать!
– Не спеши! – сказал дубовик. – Пока солнце встанет, роса очи выест…
Арестованным развязали ноги, они поднялись и, пошатываясь, щуря глаза от солнечного света, вышли из амбара один за другим.
Масловчане ликовали. По пыльной улице, мимо палисадников, над которыми свешивались душистые гроздья акаций, вели четырех большевиков.
Припекало полуденное солнце. Где-то поблизости в чаще садов куковала кукушка.
Партизаны шагали по дороге, рядом покачивались штыки…
– Вот и конец коммунии, – радовались хуторяне и со злобным любопытством заглядывали в суровые партизанские лица.








