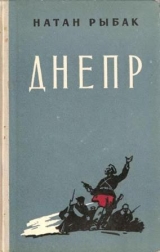
Текст книги "Днепр"
Автор книги: Натан Рыбак
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
– Про царя пишут в ней, про нас, мужиков, – тихо продолжал Марко. – Метко пишут. Прочитал я, и они, те слова, во мне как вода подо льдом. Вот-вот разломает льдину… Не могу сдержаться – сказать надо… Надумал тебе книжечку дать…
Марко говорил так, словно оправдывался.
Беспокойство охватило Антона. «А не вернуть ли Марку эту книжку? Ну ее! Еще беды какой наживешь». Он все колебался, стискивая книжечку пальцами в кармане.
Но любопытство победило. «Почитаю, верну ему, кто узнает?»
– Где ты достал? – спросил, помолчав, Антон.
– Петро дал… Только гляди, ни слова, – ответил Марко, уже думая о том, как рассердится Чорногуз, когда узнает, что он сделал.
– Ладно, почитаю, – согласился Антон. Долго еще сидел он на завалинке. Два чувства боролись в нем.
Утром отплыл последний караван… Саливону нездоровилось, и плоты повел Кузьма Гладкий.
– Идешь без меня, – хрипло сказал Марку на прощание Саливон, – гляди… – но так и не закончил, махнул рукою и отвернулся.
Из степи примчался ветер. Захлопал о стену единственным ставнем, поднял на улице пыль и погнал ее вдоль дороги.
Антон у себя на дворе перегребал сено. Он успел уже прочитать книжку друга, и теперь она не шла у него из головы. Вилы легко вонзались в пересохшую пахучую траву, а он думал о своем.
Громкий окрик отца оборвал мысли. На крыльцо вышел Беркун, засучив рукава длинной полотняной рубахи, сжимая что-то в руке. Антон воткнул вилы в сено и медленно пошел к старику, охваченный тревогой. Тот не стал ждать его на пороге. В хате, заперев дверь на щеколду и прикрикнув на жену, ткнул большим кулаком, поросшим рыжими волосами, в лицо сыну:
– Я тебе, стерва, покажу!..
Антон отстранился, еще не понимая, что произошло, но в ту же минуту увидел зажатую в отцовском кулаке знакомую книжку. Отец наступал на него, выпучив глаза, всхлипывая от душившей его злобы. Прижатый к стене, побледневший Антон невольно сел на скамью:
– Ты где, подлюга, эту книжку достал? Анафема! Молчишь? Да я тебя!..
Он замахнулся изо всей силы кулаком, но у Антона в груди что-то оборвалось, голова запылала. Он вскочил с лавки, схватил обеими руками занесенную руку отца и не своим голосом закричал:
– Не смей! Слышишь? Не смей!.. Я сам знаю, что делать…
Они стояли друг против друга, не разнимая рук, с перекошенными от ненависти губами, со злобными огоньками в глазах. Мать, забившись в угол и онемев от страха, часто крестилась.
В окне мелькнула тень, и кто-то вошел в сени. Старый Беркун рванул руку и обернулся, пряча книжку в карман. Скрипнула дверь, на пороге выросла крепкая фигура Кирила Кажана.
Антон проскользнул за его спиной в сени и бросился на огороды. Он шел быстро, то и дело озираясь и размахивая руками, покусывая от гнева и страха губы. Больше всего его волновало то, что книжка осталась у отца. В леваде за оврагом Антон сел передохнуть. Где-то поблизости, в чаще, звучали звонкие девичьи голоса.
«Вот и попался! – горько думал Антон. – Да что же он так перепугался? Выходит, книжечка-то и впрямь страшная? А что сказать Марку? Да и отец пристанет: где взял? А что ж. Сказать можно. Где ж это видано – про царя так писать?» – Антон крутил пальцами свои черные, как смоль, волосы, свертывал в жгут, словно хотел выжать какую-то мысль. Одно знал: придет в хату – станет отец допытываться. Придется сказать. Он все больше злился на Марка.
Антон вернулся домой поздно. Неслышно откинул щеколду, снял с сундука рядно и пошел в овин. Укладываясь, заслышал шаги отца. Старик вошел и плотно прикрыл за собою дверь.
– Ты вот что, – тихо сказал он, садясь рядом, – слышь, Антон. Книжечка эта не шутейная. За такие – вешают. Ты не думай, это не игрушка, – говорил он шепотом, хрипя и задыхаясь. – Вижу, лежит за божницею, глянул – аж в глазах заискрило. Я тебе одно скажу: гляди, чтоб больше этого не было…
Он умолк на миг, вслушиваясь в шелест ветра. Потом тронул сына за плечо.
– Где взял? – спросил он шепотом, сверля темень острым взглядом.
– Марко дал, – ответил Антон и, уже не таясь, рассказал о Петре.
Отец подобревшим голосом продолжал:
– Ты, сынок, знай, это не пустяк, такие книжечки одним голодранцам на утеху.
Антон кивнул головой.
– Перед богом грешить – вот чему учит книжечка – то. Ты гляди, чтоб я больше этого босяка тут не видал. Не на то я тебя грамоте учил. – Он поднялся и, отступая спиною к двери, погрозил сыну пальцем: – Гляди, гляди мне! Книжечку эту я уряднику передам, солоно придется Чорногузу…
Отец вышел, хлопнув дверью, и она долго еще раскачивалась на ветру. Антон лежал ничком, вслушиваясь в однотонный скрип петель.
А Беркун, улегшись подле жены, долго отплевывался и крестился. Потом разбудил жену, ткнув ее под ребра кулаком. Захлебываясь от гнева, кричал он на женщину, словно она была во всем виновата:
– Народила висельника! Теперь только гляди за ним…
– К чему на сон такое говорить? – промолвила она. – Эх, Павло, Павло!
– Павло!.. – передразнил ее Беркун. – А ирод твой книжки запрещенные читает, как царя-батюшку порешить. Мать пресвятая богородица, и откуда этот блуд берется? Выбился я в хозяева, думал, и сына в люди выведу, а оно, вишь, как выходит…
Долго ворочался Беркун. Жена заснула. Сентябрьский ветер выводил в трубе свою нехитрую песню. В окнах синела ночь. Вокруг хаты бегал пес и тихо рычал.
«А вдруг кто дознается? – подумал Беркун, и при этой мысли даже холодно ему стало. – У старостина сына книжку антихристову нашли, на бунт подбивает! У-у, стерва! Уряднику, может, и не скажу, а Феклущенку доверюсь, он посоветует».
Последняя мысль как будто успокоила Беркуна. Он повернулся спиною к жене и заснул.
* * *
…В ту ночь за оврагом на Мостищенском хуторе горела хата. Высокое пламя пожара взлетало в темноте. Оно бросало отблески на темный шатер леса, на край неба, покрытого сизыми, багровыми по краям от огня тучами. Дубовка спала, не замечая пожара. Спали в поместье.
В своем кабинете, погасив свет, стоял, облокотись на подоконник, Кашпур. Он задумался и не замечал, как под напором ветра качались верхушки тополей, как непрерывным шуршащим ливнем падали листья, как на темном горизонте сентябрьской ночи то вздувался, то опадал кровавый парус огня..
На краю села, у околицы, стоял подле своей старой хаты дубовик Саливон. Прядко и глубоко запавшими глазами смотрел в степь, где за оврагом колыхалось пламя. Ночь охватила старика тревожным предчувствием. Одинокая звезда мерцала на темном небе. Ветер ластился к ногам, шелестел в траве.
– Горит, – сказал громко Саливон. Он прижал руку к груди и снова произнес глухо: – В сердце горит.
Его мучила адская жажда. Она сушила не только грудь. Все тело горело нестерпимым огнем. Ночь была холодна и сыровата, но Саливон не чувствовал ни сырости, ни холода. Он видел в темном небе огромный парус пламени, и словно частица этого огня полыхала в его груди. Старик сел на землю, потом лег, томимый жаждою. Он больше ничего не говорил, губы его шевелились, но это были уже не жалобы. Лежал он на траве вытянувшись, непомерно длинный, подобрав под грудь руки, борода его путалась в бурьяне. Ветер перекатывал по спине деда опавший кленовый листок, надувал широкую белую рубаху, гудел в ушах. Но Саливон был далеко от этой ночи, от убогого садика, от выцветшей травы. Он весь был поглощен борением за жизнь, сгоравшую в нем сейчас последним, неугасимым пожаром.
Он вышел из хаты сюда в сад, поближе к земле и к реке, ему, всю жизнь шагавшему по запутанным тропкам, стало душно в четырех хмурых стенах.
Вступил Саливон на эти тропки, еще неся в себе юношеский задор. Вывел его отец, старый лоцман, мальцом на берег Днепра и показал на реку:
– Гляди, сынок, тут тебе век вековать…
Звонецкий порог гудел так, что земля дрожала.
Мальчик стоял молча, захваченный воплем бешеного водопада.
– Люби, сынок, воду, – поучал отец, – она и рассердится и приголубит.
А позднее отец говорил:
– Весь наш род – днепровский, лоцманский, славный род.
Любил Саливон реку. Любил днепровские просторы, тишину в майскую ночь, грохот порогов, синюю осеннюю зыбь.
Любил Саливон плавни, густые заросли камыша, легкий пушок над ними, тягу вальдшнепов, утиный плеск в заводях.
Любил, когда вода бушевала, как щепку, подкидывала плот, грозила смертью.
Но кончает собою славный лоцманский род дубовик Саливон. Верно, давно истлели тела тех, чьи голубые глаза, упругая походка сохранились и поныне в его памяти. Лежит он осенней ночью на выгоревшей от солнца сухой траве, лежит на земле, которую еще недавно топтал крепкими стариковскими ногами. Один он остался. Никого нет. Кому доверить свою последнюю печаль? Вокруг пустота, молчание. Хоть бы Марко был здесь. Уехал. Чужой, а в старом сердце Саливона запечатлелся навсегда. Этот выйдет в люди. Петро Чорногуз – бунтовщик, далеко мыслями заносится, он Марку поможет. Только бы сам не погиб, как птица, что слишком высоко взмыла, не рассчитав сил. Чует Саливон: последним пламенем догорает. А не хочется помирать. На что тогда было жить, топтать ногами землю, водить плоты по Днепру, беречь себя от смерти? Неужели для того, чтобы пропасть на заросшем берегу Днепра? Да, видно, нет уже возврата в мир, пройденный им. Саливон горячо дышал, согревая своим дыханием холодную землю. Пахла она отцветшим летом, полынной горечью, терпкостью осеннего умирания.
Неугасимая жажда жизни подняла старого на ноги. Протянув вперед ладони, он побежал вниз по склону, сбиваясь с шага, путаясь в бурьяне, бежал, бессильно загребая пальцами воздух, и ему казалось, что земля ускользает у него из-под ног.
Один миг он был еще уверен, что убегает от судьбы, от страшного ее приговора и где-то там, в темноте ночи, ждет его спасение. Но вдруг ноги подогнулись, и старик упал на колени, широко размахивая руками, порываясь вперед, словно руки, бессильно рассекавшие ночь, могли унести его. Он упал на бок, протянув вперед левую руку, локтем правой опершись на землю. И так остался лежать.
Ветер шевелил длинную седую бороду, дышал в суровое лицо, словно собрался оживить мертвого Саливона.
За оврагами спадало пламя пожара. Медленно катил волны Днепр, задумчивый и равнодушный ко всему, что произошло, что творилось вдали от него, что могло еще случиться впереди. Была в этой наполненной говором ветра ночи какая-то безжалостная тревога. Может быть, это она обдувала суховеем тоскующие сердца на неоглядных просторах Украины.
* * *
…Саливона нашли рыбаки. Открытыми глазами старик уставился в серое утреннее небо, словно ждал от него ответа. Рыбаки едва распрямили скорченное тело и легко внесли его в хату. Лежал Саливон на столе тихий и покорный, а люди бегали в поисках досок на гроб.
Пришел Беркун, староста, покачал головою. Бабка Ковалиха, примостясь у изголовья, перебирала привычными губами заученные слова молитвы. Зорким оком шарила по углам хаты, но видела лишь пустоту и беспорядок. О поживе нечего было и думать. Лицо бабки выражало глубокое отчаяние.
Беркун стоял на пороге, не сводя взгляда с мертвого старика… Он вышел из хаты немного смущенный, впрочем, не столько смертью Саливона, сколько вообще мыслью о скоротечности бытия.
Позднее, в экономии, Беркун передал Феклущенку книжонку, найденную у Антона. Угодливо заглядывая в лицо управителя, он со страхом в голосе сказал:
– Где-то, анафема, достал… Я думаю, это дело матроса Чорногуза… Ну, я, конечно, к вашей милости… Сохрани бог, подальше от этаких бед…
Вытянув шею, он заглядывал через плечо управителя. Феклущенко перелистал книжку, повертел ее в руках, затем подозрительно взглянул на Беркуна и, как подстегнутый, сорвался с места. Староста, растерянно разводя руками, остался посреди двора один.
Через день за селом на кладбище вырос небольшой холмик. В головах поставили свежевыструганный дубовый крест, и навеки сомкнулась над дубовиком Саливоном земля, которую топтал он своими ногами.
VI
В пути Марку не раз вспоминался тихий вечер на Половецкой могиле: теплое плечо девушки, всплески воды и синяя даль. Марко верил, что мог бы в тот вечер сказать Ивге самое важное, да помешали. Какой-то нищий взобрался на курган и, склонив колени перед часовенкой, начал класть поклоны, заметая длинными волосами опавший цвет пырея. Нищий не спешил, кряхтел, приговаривая гнусавым голосом слова молитвы. Ивга и Марко поднялись и пошли рядом в сумерках, касаясь друг друга плечами.
Сердце у Марка сжалось от неясной тревоги. Он робко дернул за край ивгиного платка. Ивга остановилась. Он шагнул к ней и уже решился наконец заговорить, но тут она пустилась бежать через луга, к экономии. Марко, сколько ни звал, не мог ее остановить…
После он не раз искал встречи. Но напрасно: Ивга не показывалась, а зайти к ней он так и не решился.
Много передумал он в пути, слушая, как воркует вода под плотами. Дубовик Кузьма всю дорогу молча тачал свои потрескавшиеся от времени сапоги. Гнали они с Марком один плот, непомерно длинный и узкий. Через пороги должен был проводить Максим Чорногуз.
В Варваровке остановились, Кузьма пошел его искать. Вскоре вернулся с Максимом. Марко спросил о Петре.
– Дня четыре назад проплывал тут. Видались. А дед Саливон как?.
Узнав, что старик хворает, Максим забеспокоился, вздохнул и грустно поглядел на Марка.
Пороги прошли удачно. Они уже не так поражали Марка, как вначале. Максим каждый раз, когда плот проходил гряду, снимал картуз и крестился. Ненасытец миновали под вечер. С неба сеялся мелкий, пронизывающий дождь. Еще издалека долетали громовые раскаты водопадов.
– Антиллерия, – сплюнул Кузьма в воду, – чистая контузия уха.
Он не переносил этого грохота и болезненно жмурился на каждом перекате. С Максимом у них большой дружбы не было. Сходя в Александровске, лоцман сухо кивнул ему головою, а Марку, проводившему его на пристань, сказал:
– Поганый человек Кузьма. В глаза не глядит. Такой зарезать может ночью. Ну, прощай, сынок. Вернешься, поклонись деду. Ты уж присматривай за ним.
А вечером Кузьма, хлебая из казанка похлебку, намекнул Марку:
– Зря лоцманов берем. Я и сам могу через эти каменные тыны перескакивать, да хозяйский приказ…
Он помолчал, старательно облизывая губы. Марко нехотя ел кулиш, словно через силу пережевывал хлеб.
– Нос дерет этот Чорногуз. Молчальник, – болтал Кузьма и вдруг злобно выкрикнул: – А брат у него каторжник. Проворовался на корабле, вот и посадили. – Кузьма положил ложку и, вытирая ладонью губы, подмигнул. – Знаем таких. А вот захочу – пойду к барину. Так и так, скажу, каторжник тот Петро, правов никаких не имеет и бунтовщик… Тогда барин его – раз и квас… Полный расчет.
Марко молчал, охваченный гневом, не находя слов.
– Ты тоже гляди. Крутишься возле него. Выведет он тебя на дорогу! – пророчил Кузьма.
– А вы почем знаете? – глухо спросил Марко. – Басни все это.
– Ишь какой вострый, – обиделся Кузьма. – Ты помалкивай. Слушай, что старшие говорят. Отца, матери нет, так хоть добрых людей слушай.
«Эк его развезло, – подумал, стиснув зубы, Марко, – и так тошно, а тут еще этот ерепенится».
Кузьма ушел в шалаш. Закутался в свитку, попробовал уснуть – голубиное воркование воды укачивало… Вспомнились поучения Феклущенка: «Ты уж, Кузьма, смотри. Прислушивайся, ежели кто разговору ведет, мотай на ус, а потом мне все – начисто. Понял? В обиде не будешь. Гляди».
«Я уж про все знаю, – подумал Кузьма, – все слышу. Посмотрим, что мне из этого будет…»
Он долго не мог заснуть, раздумывая над своим житьем, рисуя себе картины обогащения. То, что бился он в безысходной нужде, как загнанный охотником русак, наполняло его тяжелой злостью. Вот почему он считал Максима, Петра и многих других виновниками своих невзгод. А через несколько дней, повстречавши Петра в Каховке, дружелюбно хлопал его по плечу, звал в шинок и уговаривал вернуться вместе в Дубовку.
Марку это показалось странным. Когда возвращались на пароходе, он не отважился сказать Петру про судьбу книжечки, которую тот ему дал. Между ними все вертелся Гладкий, да и Петро ни о чем не спрашивал. Больше молчал, слушал болтовню Кузьмы, который вдруг стал очень словоохотливым и говорил так громко, что вокруг собиралась толпа.
На пароходе возвращались домой десятки отходников. Марко смотрел на их смуглые лица, потрескавшиеся, землистого цвета руки. Пароход едва полз против течения, оставляя за собой длинную полосу зыби. Оглушительно клокотали колеса, перегребая лопастями воду. Короткие гудки будоражили берега. Отходники сидели, тесно прижимаясь один к другому, оглядывая из-под насупленных бровей жнивье. Кузьма пробовал завести с мужиками беседу, но они были мало расположены к разговорам. Ночью весь трюм проснулся от жалобных криков. Марко спросонья вскочил, намереваясь бежать.
– Лежи, – дернул его за руку Петро, – это ничего, так…
Оказалось, женщина-отходница рожала. Ее вынесли на корму, и она долго, почти до утра, голосила. Марко не спал, содрогаясь от каждого стона. Рядом, подстелив под голову свитку, посапывал Кузьма.
– Петро, – зашептал Марко. – Как она страшно орет.
– Эге, – процедил сквозь зубы Петро, – по коже мороз подирает.
А в трюме лежали, забывшись тяжелым сном, десятки людей.
– Слушай, Петро, я прочел… – зашептал снова Марко. Но тот не ответил, и юноша, поглядев на Кузьму, не отважился больше заговорить.
Утром пошел дождь. Река зарябила. Ветер затих, однообразно всплескивали колеса парохода.
Кузьма достал из-за голенища грязные карты и позвал играть в подкидного. К плотовщикам присоединился худой в бархатной потертой жилетке чернявый молдаванин. Он привязал веревочкой к ноге свой узелок и, довольный, потирал руки, улыбаясь Марку. Марко играл с ним в паре. Петро умело подкидывал карты, поддразнивал Кузьму. Вокруг собралась толпа. Молдаванин волновался перед тем, как положить карту, несколько раз подносил и отнимал руку. Постепенно Марко увлекся. За картами сидели уже шестеро. В глазах вспыхивали огоньки азарта. Игроки подзуживали один другого, высмеивали неудачников и громко причмокивали языками. День стоял пасмурный. Вдали серели однообразные, бесцветные поля. Берега, покрытые пожелтевшей травой, казалось, угрюмо отталкивались от парохода.
Молдаванин играл азартно. Бил себя ладонью в грудь, что-то выкрикивал на своем языке и все поглядывал на привязанный к ноге узелок. Играли долго, потеряв счет времени, а когда кончили, тишину прорезал пронзительный крик молдаванина; разведя руки и выпучив глаза, он кричал на весь пароход:
– Спасите, люди! Люди добрые, караул!
На ноге у него болтался обрывок бечевки… Узелка как не бывало. Пассажиры сомкнулись в тесное кольцо, трогали бечевку, сочувственно кивали головами, кое-кто улыбался, недоверчиво поглядывая на молдаванина. Кузьма проявил сверхъестественное усердие, сбегал на палубу и вернулся с боцманом.
Низенький, в драных ботинках человек, в потертом, без козырька, матросском картузе протиснулся в середину круга и заорал на потерпевшего:
– Чего тревогу поднял? А?
Тот перевел дух, вбирая расширенными от отчаяния глазами всю фигуру боцмана, и простонал:
– Обокрали меня, подчистую обобрали…
– Скверное дело, – посочувствовал боцман, вопросительно поглядывая на отходников.
И Марко видел, как опускались глаза и отворачивались головы, словно каждый был виноват. Казалось, боцман сразу же найдет вора. Но боцман только поковырял пальцем в зубах и, сплюнув себе под ноги, с интересом спросил молдаванина:
– А какие у тебя богатства существовали?
– Извольте, скажу: белья пара, сорочка вышитая, праздничная, сапоги на подборах с голенищами в гармошку да денег пятьдесят рублей.
– Вот дурак, – вырвалось у боцмана, – кто же деньги в торбу кладет? Болван.
Он безжалостно махнул рукой и пошел прочь. Народ долго еще не расходился: все сочувствовали обокраденному. Кузьма суетился, перебегая из угла в угол, что-то нашептывая молдаванину на ухо. Тот затих, как побитый, отошел в уголок и сел на грязный пол, подобрав под себя ноги.
Марко стоял в стороне, высунув голову в круглое оконце. Ему жаль было молдаванина. За спиной в трюме стоял гомон. Там уже забыли про женщину, которая ночью родила ребенка. Разговоры шли вокруг кражи. Все покрывал резкий, крикливый голос Кузьмы:
– Валандается всякая шваль, у такой голытьбы последнее забирает. Головы поотрывать таким, да и дело с концом.
А ночью Марко не спал. Было холодно и тоскливо. Прокисший воздух трюма стеснял дыхание. Рядом лежал Петро. За весь день он не произнес ни слова. Вдруг кто-то наступил юноше на ногу. Он вскрикнул и приподнялся. Какая-то фигура, сидевшая на корточках, отшатнулась. Марко узнал Кузьму. Тот погрозил ему пальцем, и Марко увидел, как он положил темный узелок у ног молдаванина, забывшегося в тяжелом сне.
Потом Кузьма поманил Марка пальцем за собой на корму. Тот встал и пошел. Стараясь не смотреть в глаза, Кузьма прохрипел на ухо:
– Гляди, никому ни слова. Голову сверну. А на берег сойдем – свою долю получишь.
Кузьма еще что-то сказал, но слова его потонули в грохоте колес парохода, и Марко вернулся в трюм.
От Хортицы до Дубовки шли пешком. Больше молчали. Кузьма плелся позади, увиливая от разговоров. Молчал и Петро. Видно, присутствие Гладкого связало ему язык.
Марка мучила совесть: почему покорился он требованию Гладкого? Утром молдаванин нашел у своих ног торбу. В ней было все, кроме денег. Молдаванин с убитым видом сел на пол и, по-бабьи причитая, рассказал про нужду, которая ждет его дома. Выходит, Кузьма – жулик, обокрал человека. Марка подмывало подойти к потерпевшему и указать ему на вора, но он перехватывал на себе взгляд Кузьмы. Маленькие бегающие глазки вспыхивали недобрым огоньком.
Теперь Кузьма, как ни в чем не бывало, шел позади, по заросшей лебедою стежке, закинув за плечо узелок, и напевал однотонную, нехитрую чумацкую песню. Петро шагал впереди, широко расставляя ноги, покачиваясь. День был погожий, сияло солнце. Сизые тучки реяли в голубой вышине. В траве шелестел ветер-низовец. Из леса доносилась веселая перекличка птиц. Справа, за стеной камышей, голубел Днепр.
В Варваровке Петро остался у брата, Кузьма и Марко пошли дальше вдвоём. Когда подходили к Дубовке, смеркалось. Кузьма был подобострастен и весел. Шутил и сам хохотал над своими шутками. Марка раздражал его смех. Он ненавидел этого низенького, худощавого человека, который так бесстыдно обокрал бедняка-отходника, бессердечно надул его, а теперь шагает спокойно по вечерней тихой степи, словно ничего не случилось.
Из сумерек вынырнула островерхая Половецкая могила. Часовенка казалась белым пятном.
У кургана Кузьма схватил Марка за рукав:
– Ты у меня гляди. Кому слово скажешь – угощу!..
Марко вскипел. Он не мог вынести угрозы, воровато бегавших глаз и приглушенного дыхания над ухом.
Выпрямившись и откинув голову назад, он крикнул прямо в лицо Кузьме:
– Вор! Вор ты!
В тишине вечерней степи его голос прозвучал сильно и звучно.
Кузьма схватил Марка за плечи, пытаясь повалить на землю, но тот, собрав всю свою силу, ударил противника в грудь, и плотовщик, вскрикнув, упал на спину. Туго набитая торба за плечами глухо ударилась об утоптанную дорогу. Марко быстро пошел прочь. Он не боялся Кузьмы, чувствуя себя в этот миг сильнее его. Где-то в глубине души рождалась гордость за свой поступок: это была месть за молдаванина. А впереди уже забелели хаты. Марко спустился в овраг, темный и глубокий, поросший репейником и пасленом, и выпрыгнул из него на тропку, упиравшуюся в ворота саливонова двора.
* * *
Понедельник, выдался ветреный и хмурый. Ивга сидела у окна в комнате учительницы. Вера Спиридоновна, склонившись над книжкой и придерживая пальцами очки, читала. Ее хрипловатый голос уносил Ивгу на своих бархатных волнах. Девушка не замечала уже ни убогого двора, ни серого трухлявого палисадника. Мысли ее блуждали в далеких краях. Учительница с любовью посматривала на замечтавшуюся девушку. Одинокая женщина нашла в Ивге младшего друга, которому можно было доверить печаль и радость, передать свои немудреные и не очень совершенные познания о мире и человеческом обществе. Сама Вера Спиридоновна Дукельская прошла несложный, но трудный путь еще до Дубовки. Дубовская школа и сами дубовчане были, возможно, счастливым завершением этого пути, полного препятствий и невзгод. В большом мире, умещавшемся на голубом глобусе, не было у Дукельской ни одной живой души. Четвертый десяток уже подходил к концу, а она так и не узнала счастья, теплоты, любви. Все это было уже недоступно ей. Иногда она вспоминала прошлое.
Вот девушка в белом платье идет густым лесом, опершись на сильную руку юноши в студенческой форме. Он говорит уверенно, с подъемом, и слова его глубоко западают ей в душу. Это было начало любви, начало счастья.
Потом, в темную ночь, настороженно пробираясь через переулки и проходные дворы, она несла под сердцем пакеты прокламаций, стучала в темное окошко фабричного здания на окраине, четко бросала пароль и, услышав отзыв, непослушными пальцами расстегивала пальто, передавала листовки в чьи-то загрубевшие руки. И бежала обратно, озираясь – не следят ли за ней, а сердце радовалось, пело и колотилось в груди… Он держал ее руки в своих. Говорил о любви, о той любви, которая не мешает бороться, а только вдохновляет на борьбу. Показывал на задымленные фабричными трубами горизонты, на глухую, молчаливую фабричную окраину, и Вера слушала, словно пила из его уст терпкое столетнее вино. А когда он уходил, становилось пусто.
Вере не терпелось дождаться поры, когда она сможет где-нибудь в глуши, среди степи и лесов, среди сеятелей хлеба, свить себе ласточкино гнездышко и тоже сеять, сеять мудрость, рядом с ним, со своим гордым соколом. Ласточка и сокол. Она поверяла ему эти девичьи мечты. Он смеялся и говорил:
– Пустяки. Борьба – это не гнездышко среди степей и лесов. Сеять слово – значит быть готовым на все: на смерть, на виселицу, кипеть, гореть.
А через месяц он уехал – партия послала его в южный промышленный город, – и Вера осталась одна. Он уверял, что скоро вернется, но сердце разъедала тоска. Предчувствие оправдалось. Он не вернулся. Только через несколько лет Вера узнала: его казнили; где-то в глухих сибирских завьюженных краях палач затянул на его крепкой, загорелой шее петлю. И тогда жизнь Дукельской сломалась и покатилась под откос. А она удивительно спокойно, почти равнодушно покорялась судьбе. В Дубовке задержалась дольше всего. «Верно, тут и конец придет», – думалось порой. Жила при школе. Учила добросовестно, от всей души. Дети любили и слушались ее. Инспектора приезжали редко, все одобряли, но учительницу не любили. В выводах все было гладко, а про себя решали: «Нигилистка».
Ивга ворвалась в ее жизнь как солнечный луч, как свежий ветер весны, влетевший в открытую форточку.
Оконце выходило во двор, трухлявый палисадник покосился, за ним криво изгибалась улица. Ивга загляделась, задумалась и не заметила, как умолкла Вера Спиридоновна. Они сидели несколько минут молча, погрузившись каждая в свои думы.
Вдруг Ивга встрепенулась и приникла лицом к стеклу. По улице шел Марко. Она не видела его больше месяца. Он двигался не спеша, склонив голову, картуз съехал набекрень, и русые кудри спустились на лоб. Походка его стала степенной. Он шагал, как настоящий дубовик, что провел не один десяток плотов через пороги. Ивга обрадовалась. Она украдкой глянула на Веру Спиридоновну, промолвила: «Я сейчас», – и вмиг очутилась на крыльце.
Зажав между колен юбку, защищаясь от ветра, девушка крикнула:
– Марко!
Он остановился, а она уже бежала через двор, не в силах сдержать своей радости, и только у плетня немного овладела собою. Они постояли немного лицом к лицу, потом Марко взял ее за руку, молча повел в степь, на Половецкую могилу. Вера Спиридоновна выглянула в окно, увидела, как они взялись за руки, как пошли, проводила их взглядом, пока они не скрылись из глаз, смахнула терпкую слезу, вернулась к столу, закрыла томик «Записок охотника» и поставила его на этажерку, где выстроились такие же маленькие старые книжки.
Ивга и Марко шли молча.
С Днепра дул холодный ветер. Река покрылась синей рябью. Среди сосен и елей резко выделялись желтые лиственные деревья.
Сердце у Ивги сладко замирало в предчувствии неизбежного счастья. Они вышли в степь, никого не встретив, только одна бабка Ковалиха увидела их и покачала им вслед головой, на всякий случай сохранив увиденное в памяти.
Синела прозрачная осенняя даль. Ветер играл травой и невысокими камышами, и в игре его уже чувствовалась сила, которая вскоре забушует над Днепром, в лесах, над степью. Ивга и Марко все еще молчали. Так, молча, взошли они на Половецкую могилу, молча сели у часовенки, на упавшем каменном кресте, и, держась за руки, загляделись на Днепр.
У Марка что-то подкатывало к горлу. Надо было рассказать Ивге о долгих ночах раздумий, о своих надеждах, но вместо этого он взял ее обеими руками за плечи и сухими губами поцеловал в щеку. Руки Ивги сплелись на его шее, и он ощутил на губах соленую влагу девичьих губ. И вот уже все вокруг исчезло: не стало ни реки, ни леса, ни Дубовки. Посреди широкого света стоял трехсотлетний курган, и были на нем только они: Ивга и Марко. Потом руки девушки нежно и властно оттолкнули парня; взгляд его стыдливо блуждал где-то за шумящими островками камышей.
– Марко! – сказала она.
– Ивга!
И Марко сразу всем существом понял силу и глубину своего чувства, которое в один миг сделало его старше.
– Ходил я в Каховку, – сказал он. Голос его дрожал, губы горели. – Не спал ночами, видел звезды; мне было тоскливо, о тебе думал. Петро Чорногуз много рассказывал мне о жизни, о людях. Хороший он человек. Видел весь свет, даже в заморских краях побывал. Учиться я хочу, Ивга. Все понимать, все знать, чтобы с тобой через весь свет пройти, на всю жизнь…
Он говорил нескладно; мысли захлестывали одна другую, но Ивга внимательно слушала его.
– Сирота я… – тихо продолжал Марко. – Одному-то еще тяжелее… Саливон помер; был он мне за отца, приучал к делу. Теперь я сам плот поведу, – без всякой похвальбы закончил он.
– Осенью что делать будешь? – спросила Ивга. – Сплав ведь кончили.
– Завтра пойду в экономию. Какую ни то работу дадут. Матросом бы на пароход наняться…
– Не хочу. Хочу, чтобы здесь был.
Ивга ближе придвинулась к Марку, согревая его теплом своего плеча.
– А ты бы со мною пошла?
– Пошла бы, – сказала она тихо, но твердо.
Сгущались сумерки. Вокруг ложились мохнатые тени. Ветер утих, залег в траву и тонко посвистывал. Роняя картавый крик, черною тучей пронеслись грачи.
Домой Ивга вернулась поздно. Трижды постучала в ставень. Отец отворил дверь, что-то недовольно бормоча. Ивга долго не спала. Вслушивалась в набрякшую тишину и думала. Мысли были странные, и все о Марке, о себе, о деде. И на следующий день, и даже много позже двойственное чувство – радости и печали – не оставляло Ивгу. Она несла его в себе осторожно, как необыкновенную драгоценность, и никогда никому ни за что не доверилась бы.








