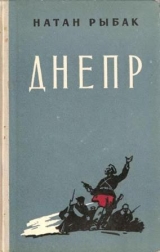
Текст книги "Днепр"
Автор книги: Натан Рыбак
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
ПУТЬ НА ГОРУ
I
Он поднялся на гору. Перед ним расстилался величавый покой Приднепровья, полный тревожных всплесков уток в заводях и задумчивого шороха трав.
Гора высилась среди степи очень давно. Травы на ней по колено. Издалека привлекала она взгляд путника. Окрестные жители в давние времена назвали ее Горой-Резанкой. Сплавщики и рыбаки знали о ней множество сказок.
В свое время рассказывал Марку про Резанку дед Саливон. А в лунные ночи, когда Днепр, спокойный, словно зачарованный дивной красой берегов, замирал, сильные голоса выводили над плотами песню про легендарную гору.
…Марко, приставив к глазам бинокль, вглядывался вдаль, а в мыслях вставали давние дни, дед Саливон и волнующая песня. Говорилось в той песне про лихую чумацкую долю, про двенадцать парней-красавцев, которых паны закрепостить хотели.
Не дались чумаки, и тогда паны послали на них войско. Четыре дня и четыре ночи защищали свою волю молодцы, и много полегло богачей от чумацких сабель. А на пятую ночь сложили головы отважные чумаки.
Кончалась песня призывом к бедному честному люду: не покоряться лихим панам и богатеям, не идти в неволю, а биться с ними за свою волю, как чумаки под Горой-Резанкой.
Марко и сам запел бы эту песню. Жаль только – не все слова знал. В бинокле проплывали перед глазами степь, лазурные озера, дальние сады. Утро стояло прозрачное, дышалось легко. В воздухе серебряным водопадом рассыпалось чириканье птиц. Марко опустил бинокль и сел на землю.
Вспомнив песню деда Саливона, вспомнил и другое. Больно было ему думать об этом… Утешало только вставшее в памяти лицо девушки, глубокие озера глаз, высокий загорелый лоб, чуть суховатые, словно запекшиеся, губы. Ивга была совсем близко, рядом, и в то же время далеко, в безвестности. Марко, закрыв глаза, обхватил руками колени и прижался к ним подбородком. Он прислушивался к шороху ветра, к птичьим песням, к неясным крикам, долетавшим из лагеря, а в мыслях была Дубовка, Половецкая могила, так похожая на Гору-Резанку, плеск днепровских волн и лицо Ивги.
Перед глазами Марка проплывали годы. Юность, Дубовка, плоты, бешеные пороги, чернобородый Кашпур, Архип с гармонью, фронт, окопы и дождь, дождь. Проклятый дождь, мокрое осеннее небо, команда: вперед… вперед… Земля под ногами словно расплавлена. Свист пуль, взрывы снарядов. И одно желание: лежать распластавшись, слиться с землей, перейти в небытие, превратиться в песчинку, лишь бы пули не задевали.
Годы проплывали мимо. Проплывала молодость. Жизнь, как Днепр, укачивала Марка на волнах своих, несла через пороги, минуя мели и камни, и прибила сюда, к берегу Лоцманского хутора, прямо в объятия отца. И случилось это как в сказке, как в тех легендах, которые мастерски умел рассказывать дед Саливон.
Марко поднял голову и открыл глаза.
Сказки оставались сказками на потеху людям, песни – в утешение, а жизнь была рядом, в ста шагах, в зарослях тростника и садах, где расположился Лоцманский хутор, где были отец, Петро Чорногуз, суетливый Матейка, старые и молодые лоцманы, плотовщики, алешкинские матросы, рабочие из Мариуполя, Александровска, Екатеринослава. Там были единомышленники и друзья, решившие защищать свою и своих братьев и сестер свободу. А главное, в далекой Москве друзья думали об Украине. Вспомнились слова отца; «Никто нам не страшен, пока стоим вместе с рабочими и крестьянами России. Близка наша победа, Марко. Близка».
«Может, и про нас сложат песни», – подумал Марко, и стало ему обидно, что не может он сам сложить такую песню, которая поведала бы людям про деда Саливона, про Петра Чорногуза, про Ивгу, про великую Октябрьскую грозу.
Он полной грудью вдыхал степной воздух, и ему хотелось крикнуть на всю степь, на всю землю, чтобы услыхали его везде, от Днепровского лимана до самого Киева, чтоб слова звенели призывно и победно:
– Слышите меня, люди? Идем мы защищать волю, Днепр и землю, и сам Ленин ведет нас!..
…День спустя, сидя рядом с Петром Чорногузом, он высказал ему эту свою думку: жаль, нет среди них такого, кто бы песню сложил про их жизнь.
Петро помолчал, задумчиво оглянулся на лагерь и тихо, как будто отвечая на свои мысли, сказал:
– Народ сложит эти песни, – и он показал рукою на шалаш, на берег реки, где сидели партизаны. – Они сложат, Марко, ты вон послушай, что поет Степан Паляница про свою фамилию.
Из камышей долетела песня:
Зовут меня Паляница —
Не бог весть какая птица,
А помещик испугался,
Живо за море умчался.
А теперь явился к нам
Пан Симон Петлюра,
Вор, подлюга, шарлатан.
Одним словом – шкура!..
Партизаны смеялись. Марко и Чорногуз слушали песню. Они сидели на дубке, поджидая Кременя, который с небольшим конным отрядом выехал в Беляевку.
– Зажились мы на этом хуторе, – помолчав, отозвался Марко.
– Потерпи малость. Может, скоро и тронемся. Эх, и стукнем мы их, так стукнем, что душа из них вон! Петлюра, гад, торгует Украиною: и кайзеру, и полякам, и французам, и американцам – кому хочет продаёт!
– Знает он и вся его директория, что недолговечны они, вот и торопятся расторговать, распродать как можно скорей, – усмехнулся Марко.
– Ничего, мы и покупателям и продавцам жару дадим!
– В Херсоне страх что делается, – сказал Марко.
Ты бы их газеты почитал…
– Знаю… Уже недолго ждать! – Чорногуз стиснул кулаки и ударил себя по коленям. – Недолго, Марко.
– В Дубовку бы попасть, – промолвил мечтательно Марко.
Чорногуз не ответил, только искоса взглянул на друга и тихо пропел:
Где-то по берегу ветер бродит,
Где-то моя милая красивица ходит…
– И милую найдем, – утешал Петро, – непременно найдем. Скоро узнаем, что там, в Дубовке, – продолжал Чорногуз. – Из Каменки человек на днях пришел, говорит, скоро и Максим тут будет. Помнишь брата моего?
Марко утвердительно кивнул головой.
– Так вот, он сюда собирается, все расскажет. А каменчанин говорит, слух есть, что Кашпур за границу подался.
– Все равно придет и его час, – уверенно заметил Марко. – Хотел бы я, чтобы он в наши руки попал.
– Попадет. Рано или поздно, а попадет.
…Погода стояла ветреная и пасмурная. С реки, из тростниковых зарослей, набегали волны тепла.
Петро встал, потянулся и, попыхивая цигаркой, пошел в хату. Марко еще несколько минут сидел одиноко, вслушиваясь в разноголосый говор партизан. Щурясь, глядел поверх кустарников и камыша, блуждая взглядом по песчаной косе.
Подошел Степан Паляница и сел рядом.
– Руки чешутся, – сказал он с досадой.
– А ты почеши, – с улыбкой ответил Марко. Степан вытянул перед собой широкие заскорузлые ладони и, словно впервые видя, с любопытством посмотрел на них.
– Нет, товарищ командир, – усмехнулся он в усы, и суровое бородатое лицо его посветлело, – рукам моим атаманов бить охота. Вот так! – и он крепко сжал тяжелые кулаки.
– Степан! – позвали Паляницу из камышей. – Поди-ка сюда!
– Иду, иду, – откликнулся он, поднимаясь, и заспешил к шалашам.
Марко тоже пошел в хату. Чорногуза там уже не было. Склонившись над развернутой на столе картой, Марко повел карандашом вдоль голубой линии Днепра.
Карандаш остановился у Екатеринослава и чуть сдвинулся в сторону. Здесь, между Екатеринославом и Лоцманской Каменкой, находилась Дубовка.
* * *
…Ночью прибыл на утлой лодчонке Максим Чорногуз. Его сразу же провели в штаб.
В рыбачьей хатке еще горел свет. Командиры не спали. Кремень делился новостями, добытыми в Беляевке. Неожиданное появление Максима пришлось кстати. Все бросились ему навстречу, а молчаливый, сдержанный Петро, казалось, готов был задушить старшего брата в объятиях.
– Вот и встретились, – приговаривал он, – свела судьба!
Посадили Максима в красный угол. Он с интересом поглядывал на незнакомые лица и улыбался. Сразу же узнал Марка, обрадовался и хлопнул его по плечу.
– Не верится, что таким стал, я же тебя вон каким помню, – и Максим показал рукой низко над полом.
Успокоившись, он привалился спиной к стене, и, когда прошло первое волнение встречи, все заметили, что сидит перед ними вконец уставший пожилой человек, отягощенный жизненными невзгодами и заботами.
Никто не расспрашивал старого лоцмана – терпеливо ждали, что он скажет. Кремень, склонив голову на руку, переводил взгляд с Максима на Петра. Марко невольно отгадывал отцовские мысли. Не сиделось только Матейке, Он ходил от стола к порогу – скрипели подошвы его сапог. Петро налил брату водки. Максим выпил, отломил кусок хлеба и виновато сказал:
– Устал я очень, даже говорить трудно…
В том, что он рассказал, было мало утешительного.
Все Правобережье стонало: им завладели гайдамаки и оккупанты. Жгли села, уничтожали скот. Стегали шомполами женщин и детей. Вешали, стреляли, мучили. Люди бежали в леса и болота, куда глаза глядят, захватив с собой вилы, топоры, ружья, собирались в отряды. От Дубовки и десяти хат не осталось, все пожгли немцы и гайдамаки.
– Нет сил больше. Терпеть нет мочи, – говорил Максим. – Как саранча, налетели они на нашу землю… И где та буря, где та гроза, что истребит их?
– Видишь! – крикнул Петро. – А мы сидим тут!.. Чего сидим? – Он резко поднялся и торопливо, боясь, что перебьют, спросил: – Я спрашиваю тебя, Кремень, чего ждем?
– Воевать, – строго сказал Кремень, – это не значит кидаться в пасть зверю. В Херсоне – союзники, перед нами – Петлюра. У ворот Крыма – белогвардейцы, на западе – польские паны. Надо собирать силы так, чтобы ударить во все стороны по проклятой сволочи, – Кремень говорил спокойно, только иногда выкрикивал какое-нибудь слово, обнаруживая свое волнение. – Надо, товарищи, действовать заодно с Красной Армией. Прежде всего мы должны начать с Херсона, чтобы тыл у нас был чистый, а тогда уже идти вперед, вверх по Днепру, очищать от врага Правобережье. Народ с нами, товарищи, горячиться нам нечего. Спокойно! Как вороны налетели враги на Днепр… Поглядите только, что в Херсоне делается! Кого только там нет! Американцы, французы, англичане, греки, румыны… Директория своих комиссаров послала, в думе монархисты заседают… Названия разные, а стремятся все к одному – загнать нас в ярмо, разграбить родину нашу. Сидят там и бредят одним: как бы все наши земли, заводы, шахты, реки, леса захватить. Еще не захватили, а уже перегрызлись. А за Херсон будут драться, как звери. Это ключ у них, – он перевел дыхание и тише добавил: – Ключ от Днепра. И этим ключом мы должны овладеть. Только мы. Таков приказ партии.
В хате было тихо. Все молчали. Каждый понимал правду слов Кременя. Петро Чорногуз, чувствуя, что погорячился, смущенно сказал:
– Твоя правда, товарищ Кремень… Не наскоком надо действовать. Это мне ясно. Да не одни мы тут. Вся Украина за нами… Сила какая. Рабочие Харькова, Екатеринослава, Луганска, шахтеры Донбасса… Москва с нами!
– Ленин ведет нас, – взволнованно продолжал Кремень. – Путь нам показывает. Москва живет нашими заботами, печется и думает о нас. Вскоре прибудет к нам представитель Центрального Комитета партии.
Командиры радостно встретили это известие.
– К такому делу надо достойно подготовиться, – озабоченно проговорил Максим Чорногуз. – Ведь подумать только, что там делается! – он показал рукой в сторону Херсона.
– Там людей режут, как же тут быть спокойным? – горячился Петро.
– А криком – поможешь? Ты, Чорногуз, подумай, – сказал раздельно Кремень. – Кто поручил нам формировать здесь дивизию, кто поручил очистить Херсон? Кто, товарищи?
– Партия, – ответил Петро.
– Мы должны выполнить этот приказ любой ценой. Взять Херсон – не шутка. Там эскадра, десант. У них танки и артиллерия, греки, французы, поляки, румыны, а в ста шестидесяти верстах от нас – в Большой Лепетихе – стоит петлюровский курень.
От неожиданности все повскакали с мест.
– Как это?
– Откуда?
– Не может быть!
– Сегодня я убедился в этом. И на нас готовят налет. Хотят замкнуть нас в кольцо и придушить. У нас есть выход – переправиться на левый берег, но это… – Кремень замолчал, всматриваясь в лица товарищей, как будто проверяя, как воспринимают они его слова. В их взглядах он прочитал то, чего ожидал, и радостно продолжал: – Сплав, зерно, великие богатства народные – вот, что им даст Днепр. Они хотят высосать из него все, а Днепр должен быть и будет большевистским, нашим! Сил у нас достаточно, а вот боеприпасов мало. Но есть сведения, что завтра или послезавтра греческий пароход повезет гайдамакам снаряды и патроны… Так вот…
– Взять пароход! – вырвалось у Петра.
– Правильно! – подтвердил Кремень. – Взять! Это дело я возлагаю на тебя, Чорногуз.
Штаб отряда заседал до рассвета. Максим не спал. Сидя в сторонке, он прислушивался к тому, что говорилось, и посматривал на Марка, словно собирался что-то ему сказать.
На рассвете, когда все задремали, старый лоцман вышел с Марком в садик. Утренняя роса приятно освежала.
– И для тебя новость есть, – сказал он. – Ивга недалеко тут…
– Где она, где? – и Марко схватил Максима за плечи.
– Пусти! Душу вытрусишь, – рассердился лоцман. – Не за пазухой у меня Ивга. Я ее у рыбака Омелька оставил.
– Что же вы ее сюда не привезли?
– Больна она, парень, горячка или, может, тиф у нее, потому и оставил. А дед хороший, давний мой приятель, присмотрит, не сомневайся.
– Я поеду туда, – решил Марко, – сейчас же!..
– Опасно, – заметил Максим, – банды кругом!..
– А как она там?
– Да больная. Тебя все в горячке кличет.
– Кличет, – сказал глухо Марко. – Поеду я, дядя Максим, к ней…
Он отошел от лоцмана и остановился у ограды. Трухлявые доски затрещали под локтями.
Серый, молочный туман ложился на землю. В нем маячили деревья, кусты, а над рекой он колыхался непроглядной пеленой, льнул к воде и таял в ней. Марко смотрел на далекие звезды. Холодное, бледное сияние луны освещало край неба. Медленно редела мгла. Выплывали неясные очертания кустов, деревьев. Как будто земля жадно пила туман.
Утром, только пригрело солнце, Кремень был уже на ногах.
– Отец, – сказал Марко, улучив минутку, когда они остались наедине, – мне надо съездить верст за тридцать…
– Знаю, – сказал Кремень, тепло взглянув на сына. – Мне Максим рассказал. Поезжай, но долго не задерживайся. Чтобы завтра был тут.
II
Генерал Ланшон подошел к окну, оперся руками на широкий, заставленный вазонами подоконник и устремил глаза на багряное зарево. Оно колыхалось на западе, за городом. Из комнаты, где заседал объединенный штаб представителей держав Антанты, открывался вид на город, белые, приземистые хаты беспокойного херсонского предместья, огромные овраги за путаницей улиц и садов.
Прямо перед глазами генерала стоял французский эскадренный миноносец. Вдоль корабельных бортов ходили часовые. Загадочность незнакомой, тревожной степи смущала не только матросов, но и командующего. Ланшон чувствовал тревогу всякий раз, когда, останавливаясь перед окном, окидывал взглядом спокойную херсонскую гавань, лиман и украинскую степь.
И еще одно беспокоило генерала – появление в Херсоне американского полковника Эрла Демпси. Хотя он заверил, что прибыл для ознакомления союзного главного штаба с положением на Юге, но то, как он молниеносно наладил связи с Приттом, Тареску, Маврокопуло, думой и местными богачами, крайне встревожило Ланшона. Пригласив его на сегодняшнее совещание, генерал не знал, как себя с ним вести, чего ждать от него.
Ланшон пожал плечами и, щелкнув каблуками, свел ступни. У него задергалась икра правой ноги, и это сразу же заметили приглашенные на совет офицеры. Но они хранили молчание и, сидя в глубоких креслах, пускали кольцами папиросный дым.
Икра правой ноги генерала продолжала мелко вздрагивать, однако это отчасти его утешало. Он знал из мемуарной литературы, что Наполеон Бонапарт в минуты гениальных предвидений также отмечал у себя дрожание икры. К сожалению, генерал не помнил, какая именно – левая или правая – нога дрожала у императора. Пока он силился это вспомнить, полковник Форестье нарушил молчание. Он произнес краткую, полную тревоги фразу, больше для себя, чем для присутствующих:
– Теперь мне понятно, почему Наполеону было так трудно в этой стране.
Сказав это, он закрыл глаза, словно стараясь уйти от окружающих, которые, впрочем, не обратили внимания на его слова. Каждый из присутствующих знал склонность полковника к высоким аналогиям, и потому никто не придал значения сказанному.
Но Ланшон, услышав то, что сказал полковник, обрадовался. «Это добрая примета, когда мысли двух человек сходятся», – отметил он про себя. Генерал в глубине души был суеверен.
– Правая икра! – вдруг произнес генерал, отвернувшись от окна и широко улыбаясь полными красивыми губами из-под коротко остриженных нафабренных усов. – Да, господа!.. – произнес он и, медленно потирая сухие длиннопалые руки, остановился у стола.
Озадаченные словами генерала и внезапной переменой в его настроении, офицеры удивленно переглянулись. Только сухощавый британский консул Вильям Притт, двинувшись в кресле, иронически процедил:
– Вы имеете в виду императора Наполеона? Эта самая икра, которой вы, может быть, придаете серьезное значение, описана очень хорошо у маршала Бертье и несколько хуже, но, я бы сказал, несколько правдивее у Толстого.
Форестье склонил голову немного набок, вслушиваясь в тихую спокойную речь консула.
– Но… – заспешил вдруг консул. – Вы там, в Париже, слишком увлекаетесь икрами, ваше превосходительство. – Вильям Цритт покраснел, и мышцы заиграли на его продолговатом, словно приплюснутом, лице. – Мы имеем дело не с икрами…
Генерал поднял руку, останавливая, англичанина. Но тот встал, резко отодвинув кресло. Ярость душила его. Постукивая ногтями по золотому портсигару, он хрипло продолжал:
– Да, генерал, мы должны немедленно, сейчас же, со всей серьезностью обсудить положение. Довольно играть в гуманность. Королевское правительство Великобритании, представителем которого я являюсь в Херсоне, дало мне недвусмысленные полномочия…
– Интересно, – заметил, полковник Форестье.
Контр-адмирал Маврокопуло попыхивал трубкой и заплывшими глазами искоса посматривал на генерала Ланшона.
Полковник Тареску пощипывал черненькие усики, невольно завидуя англичанину, тому, как он свободно и непринужденно высказывал своё недовольство генералу. Страна, которую полковник представлял своей особой, не разрешала ему такого поведения. Он ни на минуту не должен был забывать, что Румыния зависит от Франции. Свободно держаться с французами может только Вильям Притт да американский полковник Демпси.
А консул тем временем продолжал:
– Прежде всего необходимо уничтожить красную заразу в городе и на окраинах. У нас, господа, под ногами очень опасная почва. Может произойти такой взрыв, что от нас останется только гора костей.
– Печальная перспектива, – весело отозвался Форестье.
– К черту ваш оптимизм, господин полковник, – огрызнулся Притт, – теперь не время для шуток. Даждый день приносит все более тревожные известия, необходимо действовать смело и решительно.
Генерал Ланшон сел, опершись головой на руки.
«Какой нахал этот консул! – думал он с раздражением. – Он слишком много позволяет себе. Как будто командующий он, а не я».
И в то же время Ланшон понимал, что Притт говорит о вещах, вполне заслуживающих внимания. В самом деле, прошел уже месяц, а войска союзников дальше Херсона продвинуться не могут. Связь с Николаевом прервана. Вокруг горят помещичьи усадьбы. Партизанские отряды концентрируются на путях к Херсону. А в городе – лютая ненависть к оккупантам. Каждое утро в казармах, на улицах, на стенах домов появляются сотни воззваний. Чья-то неуловимая рука распространяет их.
Британский консул прав. Он приводит серьезные аргументы. К черту престиж и первенство, когда речь идет о красной опасности. Угроза с каждым днем становится реальнее. Но Ланшон знает: англичанин торопит его еще и потому, что имеет задание вывезти несколько тысяч тонн зерна…
– Я думаю, – обращается к нему молчавший до сих пор Демпси, – что надо форсировать наступление на партизанские отряды. Надо отдать приказ, чтобы население сдало оружие, и предупредить, что все, у кого его найдут, будут преданы военно-полевому суду и расстреляны.
Притт кивнул головой, внимательно, но, впрочем, без особого интереса посматривая на своих коллег, и процедил сквозь зубы:
– Мистер Демпси прав. Следует действовать твердо и решительно.
– Вы что скажете? – спросил Ланшон у грека.
Маврокопуло положил трубку на ладонь и промямлил:
– Я думаю, что надо принять меры, но осторожно, очень осторожно, не стоит возбуждать население.
– Если бы ваши предки походили на вас, – заметил улыбаясь Форестье, – вероятно, мы знали бы о Греции столько же, сколько об Атлантиде.
Маврокопуло покраснел и замолчал.
«Ну и язык у этого Форестье, – подумал генерал, – всегда он впутывается не вовремя».
Чтобы загладить обиду и дать время для обдумывания, командующий объявил перерыв на тридцать минут. Он ушел в свой кабинет, а офицеры, оставшись одни, обступили американца. Форестье постоял несколько минут в центре зала, поглядывая то на офицеров, то в окно.
Темнело. Сумерки наступающего вечера охватывали город. Полковник качнулся на широко расставленных ногах и, решившись на что-то, вышел вслед за Ланшоном. Нервничая, генерал ходил взад и вперед по кабинету, заложив за спину руки. Он не остановился, даже когда вошел Форестье.
– Послушайте, – заговорил он недовольно, – зачем вы обидели контр-адмирала? Ваши остроты всегда неуместны.
– Ваше превосходительство, – отозвался Форестье, – пусть это вас не волнует. Я не успел передать вам это письмо. Как раз перед началом заседания я принимал послов. Здесь ключ наших успехов, генерал.
Полковник подал командующему конверт и почтительно стоял в ожидании. Доставая сложенный вчетверо лист бумаги, генерал с любопытством посмотрел на своего подчиненного.
«Ну и бестия же, всегда у него что-нибудь припрятано про запас. Он далеко пойдет, этот полковник».
– Прочтите, – и генерал подал Форестье письмо.
Полковник дважды повернул ключ в двери, затем вполголоса стал читать:
– «Французскому командованию. Директория постановила просить французское командование…» Обратите внимание, французское, – подчеркнул Форестье. Генерал кивнул головой, полковник читал дальше, – «…помочь Директории в борьбе с большевиками. Директория отдает себя под защиту Франции и просит французское правительство руководить Директорией в отношениях: дипломатическом, военном, политическом, экономическом, финансовом, судебном и впредь, до окончания борьбы с большевиками. Директория надеется на великодушие Франции и других держав Согласия, когда, по окончании войны с большевизмом, возникнут вопросы о границах и нации. Члены Директории: Петлюра, Швец, Макаренко».
Больше часа ожидали командующего в зале. Притт нервичал, Маврокопуло дремал в кресле, Демпси чашку за чашкой глотал черный кофе, посасывая лимон.
Наконец в дверях в сопровождении полковника появился генерал.
– Господа, имею честь уведомить вас, – произнес он не садясь, – что я только что получил сообщение от главнокомандующего генерала д’Ансельма о подписании договора с украинской директорией. Директория обратилась к французскому командованию за помощью и просит постоянного протектората. Генерал д’Ансельм дал согласие. Представители директории приехали к нам. Я приму их вечером, а завтра поговорим с ними все вместе. Разрешите сегодня закончить на этом.
Притт прикусил губу. Форестье откровенно улыбнулся и заглянул ему в глаза.
– Это не директория, а бутафория! – пробормотал равнодушно Демпси, прощаясь с Ланшоном. Притт хрипло рассмеялся. Когда американец и англичанин скрылись за тяжелыми бархатными портьерами, грек, плохо выговаривая по-французски, сказал:
– Этот Демпси удивительный наглец.
Замечание грека осталось без ответа.
Вечером генерал и Форестье приняли делегацию.
Три представителя директории несмело вошли в кабинет. Один из них – низенький, в сером френче, с трезубцами на воротнике, с выпяченной вперед нижней челюстью – выступил вперед и, вытянувшись, отрекомендовался по-немецки:
– Имею честь представиться вашему превосходительству: председатель делегации куренной атаман Микола Кашпур и члены делегации – полковник Остапенко и хорунжий Беленко. Прибыли с поручением головного атамана пана Петлюры!
– Передайте ему, – обратился к Форестье генерал, – что пора им научиться французскому языку, если они ищут нашего покровительства. А язык бошей они напрасно учили: не надолго он им пригодился…
– Можете не говорить по-немецки, – сказал Форестье улыбаясь. – Его превосходительство весьма уважает ваш национальный язык. Садитесь, господа.
– Мы пробрались к вам, – начал Кашпур, – через партизанские заставы, путь был очень опасен. Херсон окружен со всех сторон.
– Это чепуха! – сухо ответил Форестье. – На рейде стоит эскадра; в любую минуту мы можем высадить десант.
– В Большой Лепетихе, – продолжал Кашпур, – за сто пятьдесят верст отсюда, стоит наша дивизия. Мы готовы ударить в тыл красным, когда вы прикажете. Но надо согласовать действия. Необходимо выступить одновременно.
– Хорошо, это будет обусловлено, – согласился генерал.
– Нам нужны аэропланы, пулеметы, артиллерийские снаряды.
– Этого у нас достаточно – самодовольно вставил полковник.
– Информируйте нас точно и, главное, правдиво. Каковы силы большевиков? – спросил Ланшон.
Кашпур переглянулся с Остапенком и Беленком.
– Численность их велика, но они совершенно не вооружены. Их можно раздавить голыми руками.
– Однако немцы вкупе с вами до сих пор не сумели этого сделать? – заметил Форестье.
Кашпур блеснул глазами, искусственно улыбаясь, ответил:
– Мы питаем большие надежды на славную французскую армию.
Затем генерал перевел разговор на экономические вопросы, выясняя положение Приднепровья. В заключение полуторачасовой беседы делегаты директории подписали текст обязательства, предложенный Ланшоном.
Обязательство было изложено на двух языках – французском и украинском. Делегаты подписали оба текста.
Они обязались на средства директории содержать в Приднепровье армию держав Антанты и, кроме того, отгрузить в течение месяца сорок тысяч тонн зерна и сто тысяч кубометров леса. Закончив все формальности, генерал гостеприимно пригласил делегатов к столу.
Ланшон повеселел. Он сыпал остротами и, выпив несколько бокалов вина, столько наобещал директории, что Форестье перевел лишь четверть его посулов.
– Вы здешний? – поинтересовался генерал у Кашпура, которого посадил по правую руку от себя…
– Да, ваше превосходительство, – ответил тот. – До революции отец мой владел всем сплавом на Днепре, за границу лес отправлял, а теперь все по ветру пошло. Отец пропал без вести…
– Ничего, молодой человек, все вернется. Имейте в виду, с нами в близких отношениях американцы. Президент Вильсон особенно заинтересован в свержении большевистского режима на Украине. Вы совершили большую ошибку, что не сразу связались с нами.
– Мы ее исправляем, – отозвался Остапенко.
– Это хорошо. Порядок водворится и в вашей стране. Я вас заверяю. Государство, в руки которого вы отдаете свою судьбу, может заверить вас в непременном и скором успехе. За французскую армию, господа! – провозгласил генерал, поднимая бокал.
– За маршала Фоша! – крикнул Кашпур.
– Слава! Слава! – поддержали Остапенко и Беленко.
В ту ночь у отеля «Европа», где остановилась делегация директории, долго стояли машины британского консула и полковника Демпси.
Через несколько дней доверенные люди полковника Форестье донесли ему, что генеральный консул Притт и американец вышли из отеля только под утро, куренной атаман Кашпур проводил их до порога.
Через сотрудника британского консульства полковник Форестье узнал, что консул в присутствии Демпси подписал какое-то соглашение с представителями директории, но содержание соглашения для французов осталось тайной.
Это секретное соглашение между представителем Англии и Кашпуром задало хлопот Форестье больше, чем генералу.
Если в обязанности генерала, предусмотренные высшим командованием, входили заботы военного порядка, то господин Форестье должен был заботиться обо всем остальном.
Делегаты директории с первых же дней пребывания в Херсоне установили связь с белогвардейской думой, которая продолжала свое существование с санкции генерала Ланшона.
В думе преобладали монархисты, сторонников же директории было немного.
Делегаты учли это и, приняв участие в заседаниях думы, заявили, что правительство директории поддержит руководящие круги города.
Не ускользнуло от взора Кашпура и то, что на заседаниях постоянно присутствовал представитель французского командования, а вход охранял караул иностранных войск.
Французский офицер, сидевший на заседаниях, в свою очередь заметил особый интерес, проявленный делегатами к делам городского самоуправления, а также их разговоры с председателем думы Осмоловским, и полковник Форестье прямо, без обиняков, заявил Кашпуру, что командующий недоволен поведением делегатов директории в думе.
– Генерал считает, – сказал он, – что делегаты, как люди военные и представители директории при французском командовании, не могут и не должны иметь сношений с гражданской властью, а тем более с представителями других государств, пребывающими в Херсоне.
Сделав ударение на последнем, полковник особенно внимательно посмотрел Кашпуру в лицо.
Тот выдержал пронизывающий взгляд полковника и заверил его, что это больше не повторится. Разговор происходил в кабинете полковника, в доме французской разведки на Бульварной улице, названной, по постановлению думы, в честь французов улицей Бонапарта. Затем полковник довел до сведения представителя директории, что, согласно приказу генерала, атаман Кашпур должен находиться отныне в войсках и с завтрашнего дня будет принимать участие в стратегических разведках.
Сидя в сквере после этой краткой, но не совсем приятной беседы, Кашпур чувствовал себя неудовлетворенным.
Город жил прифронтовой жизнью. Приказы генерала Ланшона и воззвания городской думы пестрели на афишных тумбах и стенах домов.
Ветер трепал наспех прилепленные к заборам листы газет. Люди поспешно пробегали мимо, иногда задерживались, читали, оглядывались и бежали дальше, не скрывая своей озабоченности и страха.
Иногда, разбрызгивая грязь, проносились экипажи. Офицеры, крепко прижимая к себе празднично одетых женщин, свысока поглядывали на пешеходов, на давно не убираемую улицу.
Напротив, из ресторана «Симпатия», неслись звуки тягучего танго.
Мальчишка-газетчик в штанах, о которых трудно было сказать – длинные они или короткие, – пробежал мимо. Кашпур остановил его.
– «Родной край», «Херсонский вестник!» Приказ французского генерала! Большевики в Форштадте! – скороговоркой выпалил газетчик.








