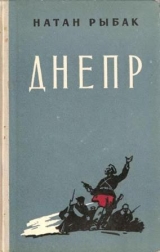
Текст книги "Днепр"
Автор книги: Натан Рыбак
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)


НА РАССВЕТЕ
I
Марко лег на занесенный снегом берег и, вытянувшись на руках, осторожно приложил ухо ко льду. Несколько секунд ничего не было слышно, но вскоре он уловил подо льдом как будто глубокие вздохи. Паренек поднялся на ноги и быстро пошел по берегу. Ветер швырял в лицо снегом, мешал идти. Марко остановился и жадно вдохнул запахи мартовской влаги, предвестницы близких весенних ручьев.
Глаза Марка измерили темную глубь неба, поискали звезд – и не увидели. Паренек поглядел на реку. Днепр лежал недвижно в пологих берегах. На той стороне прижимался к горизонту лес. По льду шла поземка. Тревожный звон раздавался в воздухе. Но глубокая ночь, южный ветер, клокотание воды подо льдом – все это наполняло грудь радостью.
Марко застегнул полушубок и пошел быстрее, больше не озираясь и не меняя четкого ровного шага. Неясными черными силуэтами вставали перед глазами хаты. Минуя огороды, он выбрался на улицу. Во дворе у Беркуна заскулил пес. Марко перегнулся через тын и ласково позвал:
– Серый, Серый!..
Собака дрожа прижалась к тыну. В темноте блестели угольки ее глаз.
– Это ты, Марко? – окликнул кто-то из глубины двора.
Марко узнал Антона. Тот вынырнул из темноты и оперся локтями на тын.
– Откуда?
– А так. Брожу, – загадочно усмехнулся Марко.
– Броди, броди, – одобрительно произнес Антон.
Он показал рукой на край села, где на холме мерцали тусклые огоньки.
– Новый приехал. Говорят, бородатый, в сапогах, бечевкой подпоясывается, одно слово – мужик.
Марко, погруженный в свои мечты, только выслушал Антона, ничего не сказав.
– А нам все равно, – продолжал Антон, глядя на пса, который дрожа прижимался к его ногам, – для нас и Русанивский был хорош, и этот, верно, не хуже будет.
Антон был старше и привык относиться к Марку свысока. Но он не мог не заметить смущенного вида товарища, свернул цигарку и закурил. Марко дивился, как умело Антон зажигал на ветру спичку.
Пес заскулил протяжно и тоскливо.
– А иди ты к бесу! – рассердился Антон, ударил собаку ногой изо всей силы, молча отошел от тына и скрылся в темноте. Марко еще с минуту постоял один, хотел окликнуть Антона, но махнул равнодушно рукой и ушел.
Дома, лежа на топчане, Марко пытался уяснить себе причину гнева товарища. На печи не унимался сверчок, на чьи монотонные песенки мать возлагала большие надежды: по ее словам, счастье непременно должно поселиться у них в жилище.
Мать на печи спала неспокойно: ворочалась, кашляла. Ветер хлестал по стеклам, шуршал под стрехою. В маленьком оконце синела ночь. Марку не спалось. Его больше не занимали Антоновы заботы. Он мечтал о будущем. Пускай в усадьбе новый хозяин. Что Марку до него? Вот начнется паводок, спустят на Днепр плоты, возьмет Марко в руки дубок[1]1
Дубок-шест-правило на плоту (в отличие от дуба– долбленой лодки).
[Закрыть], станет на связанные колоды, и пойдет гуляка-ветер рвать на груди его легкую сорочку. Поведет Марко плот в далекий путь, минуя убогие села, проплывая мимо больших городов, через страшные пороги, – в город Херсон, откуда рукой подать до бескрайнего сказочного моря.
Круты и чудесны берега Днепра. Ходит по тем берегам вековая слава. Выпало Марку на долю пронести весной мимо тех берегов в первом плавании свое юношеское сердце. Новых людей, новые места увидит он. В кармане заведутся лишние рубли, мать не будет жаловаться на бедность, может быть, скрасит их жизнь достаток. Скорей бы паводок! Мать на печи захлебывается в приступе кашля. Марку страшно становится от внезапной мысли, что она умрет. Он закрывает глаза и впивается пальцами в соломенный тюфяк. Как сделать, чтобы полегчало матери? И тут на весну вся надежда. Вязаньем не разбогатеешь. А будут деньги, можно и в город отвезти, к доктору.
Одна у парня надежда – поплыть на плотах.
Бьет ветер в окна, забрасывает их полными пригоршнями снега. А Марко знает: пронесут после паводка быстрые днепровские волны караван плотов и на одном из них будет стоять Ивга. Из-под пестрого платка выбьются пряди пшеничных волос. И Марко закричит с берега: «Ивга! Ивга-а-а!»
Мать зашевелилась на печи, подняла голову над подушкой:
– Чего ты? Снится тебе что?
Лицо Марка в темноте покраснело.
– Ничего, мама, спите, спите! – А сам подумал: «Ишь, замечтался. Вот бы Ивга узнала».
Но Ивге такое и в голову не могло прийти. Марко встретился с ней в прошлом году, когда ездил с ребятами в Мостище. Девушка поразила его ясной лазурью глаз. Ходила она неторопливо, чуть вразвалку, как привыкли ходить старые сплавщики, а мостищенские парни говорили, что она даже курит тайком от людей. Показали Марку и отца ее, коренастого пожилого плотогона. Было это в лавке, где Марко с дубовчанами покупал гвозди. Старый плотогон Кирило Кажан выбирал материю в подарок дочке, щупал, растягивал на пальцах, причмокивал языком и все спрашивал: «Ну как, Ивга?» А она держалась с отцом как равная, и это тоже поражало. Выходя из лавки, Кажан узнал среди дубовчан Марка. Остановился и положил узловатую, тяжелую руку ему на плечо. Марко вспомнил, что мать как-то рассказывала ему про Кажана. Он был приятелем отца и вместе с ним долго бурлачил, вместе служил в солдатах; оба были лоцманами на Кайдацком пороге.
– Растешь! – сказал Кажан глуховатым голосом. – Лицом на отца смахиваешь. – Ивга поглядывала на Марка и улыбалась. – Матери, верно, тяжело. Мала еще от тебя подмога.
Тут Марка осенило, и он, не раздумывая, одним духом выпалил:
– А как поможешь? Работы подходящей нет. Вот взяли бы вы меня за подручного!
Старый Кажан собрал в ладонь рыжую щетинистую бороду, прищурил правый глаз и смерил паренька взглядом.
– Ладно, Марко. Жди нас весной!..
И Марко ждал. Прошла осень, выпал снег; зима в этом году стояла лютая и казалась нескончаемо долгой. Она отходила с боем, не сдавалась, крепко вцепившись в приднепровскую землю. Вот уже третью ночь ходил Марко на реку – слушать воду. Сегодня наконец он с радостью уловил ее могучее глубокое дыхание. Широко раскрыв глаза, лежал он, обессиленный мыслями, слушал шорохи за стенами хаты. Сверчок выводил на все лады свою нескончаемую песню. Перед глазами Марка освобожденная вода бушевала, разбивала лед вдребезги, нагромождала друг на дружку огромные льдины, несла осколки их меж берегов. Бушевал невиданной силы паводок.
Проснулись утром дубовчане, а весны и в помине нет. За ночь нанесло горы снегу, начисто позамело дороги. Стоял жестокий мороз. Над хатами курчавился сизый дым. Кутаясь в кожухи и свитки, выбегали во дворы крестьяне. Скотина в хлевах, сонно поводя глазами, грызла опорожненные за ночь ясли.
Когда Марко раскрыл заспанные глаза, мать, повязавшись платком, возилась у печи. Наскоро одевшись, Марко выскочил во двор. Грустный вернулся он в хату. Матери была понятна его грусть.
– Люди говорят, – проронила она, ставя на стол кулиш[2]2
Кулиш – жидкая каша.
[Закрыть], – давно такой долгой зимы не было.
Опершись руками на стол, она смотрела в раскрасневшееся лицо сына.
– Ждать недолго, мама. Весна не за горами.
– Известно, сынок. Солнышка бы немножко, может, и мне полегчает.
Мать прижала руку к сердцу и закашлялась. Каждый звук, вырывавшийся из ее груди, вонзался Марку в душу. Больная женщина едва держалась на ногах. Сын растерянно глядел на нее, не зная, что делать. Глаза ее налились кровью, и жилы вздулись на висках синими бечевками. Наконец она откашлялась и села, устремив взгляд в оконце.
«Надо бы к Ковалихе сходить, – подумал Марко в сотый раз, – может, даст какого зелья».
Но и бабка Ковалиха даром ни зелья, ни взвару не давала. Марко поболтал почерневшей деревянной ложкой в миске, искоса поглядывая на мать. Над миской поднимался пар, от нее тянуло плесенью. Марко отломил кусок хлеба, нехотя откусил сверкающими белыми зубами и принялся за кулиш. В печи весело трещал хворост, огонь отбрасывал золотистые отсветы в темный угол. Мать тоже взяла ложку. Ела молча, не торопясь. Сквозь незамерзший уголок стекла Марко видел, как Антон Беркун, проходя по улице, задержался у их ворот, словно думал: зайти или не заходить, но заглянул во двор и зашагал дальше. Конь, весь покрытый белым инеем, протрусил мимо ворот. Проехали сани. Марко окинул взглядом убогие посеревшие стены хаты, и сердце у него защемило. Из всех углов веяло холодом. На пороге лежал иней. Темные иконы в грязных цветастых рушниках казались заброшенными, хмурыми. Под божницею хилым огоньком мерцала лампадка. Марко вспомнил, как несколько лет назад каждое утро, уходя в школу, он становился на колени и с тревогой поднимал глаза на строгого спаса. Молчаливым взором он просил, чтобы спас помог ему ответить урок учителю. Воспоминание о школе взволновало Марка. Он положил ложку. В маленьком кованом сундучке нашел свои старые тетради, географию Иванова, задачник и растрепанную, без обложки, хрестоматию «Родная речь».
Он перелистывал одну за другой страницы тетрадей. Кляксы на полях будили приятные и неприятные воспоминания. В географии он нашел засохший кленовый листок. Вспомнил, что положил его, подобрав в барском парке, когда возвращался домой. Была тогда тихая в солнечная осень. Марко шел из школы, еще не зная, что никогда уже больше не придется ему надевать на плечи сумку с учебниками. В тот день дома мать сказала ему:
– Пойдешь, сынок, завтра на работу к дяде Панасу. Подписывать фамилию выучился, ну и будет пока, а там – что бог даст.
Мать погладила шелковые кудри сына, и слеза скатилась ей на щеку.
– Кабы отец у нас был… – тихо проговорила она.
Сам не зная почему, Марко тоже заплакал, грязными пальцами размазывая по щекам слезы. Каждое утро по дороге к Панасову двору встречал он школьников. Ему все еще казалось, что не ходит он в школу временно: вот минет неделя, и снова пойдет… Великую зависть носил в своем сердце мальчик. Сидел он на Панасовом дворе вместе с девчатами, непослушными пальцами плел лозу – учился делать вязки для плотов. Дядя Панас, низенький, с сердитым лицом мужик, каждый час молчаливо проходил между рядами вязальщиков, останавливаясь то перед одним, то перед другим. Марко видел, как под его колючим, неприятным взглядом ниже склонялись головы, быстрее двигались руки, переплетая упругие и гибкие прутья…
…Марко развернул голубую карту и загляделся на нее. Полушария лежали рядом, сверкая лазурью. Моря и реки, необозримые просторы земель, леса, степи, неисходимые пустыни уместились на одном листе бумаги. Это было необычайно – видеть перед собой весь мир, сидя за столом в убогой лачужке.
Мать накинула на себя свитку и, тяжело переставляя ноги, обутые в стоптанные валенки, вышла. Оставшись один, Марко почувствовал себя свободнее. Он поглядел через окно вслед матери. Она пересекла заснеженный двор и шагнула через высокий, перелаз.
«Верно, к Ковалихе пошла», – подумал он и снова стал перелистывать тетради и книжки. Затем, сдерживая тоску, аккуратно сложил их и спрятал в сундучок. Ждал: может, зайдет кто из ребят. В воскресный день делать было нечего; впрочем, и в будни не было на селе работы. Уже неделя, как дубовчане приготовились встречать весну. Вдоль берега ровными рядами выстроились штабели бревен. Дорога от леса через село к Днепру густо усыпана сосновой хвоей и прошлогодним листом.
Между штабелями свалены горы наготовленной вязки. Ждал лес весны… Марко подбросил в печь хворосту, помешал ухватом. Пламя обдало теплом руки и лицо. Он огляделся вокруг: что бы еще сделать, чем время занять? Мать с утра уже все прибрала, накрыла чистым рядном постель, подлила масла в лампадку, и огненный язычок теперь мигал смелее.
В окно трижды постучали. Марко выскочил в сени – там сразу обожгло холодом. В дверях, опираясь на палку, стоял Антон.
– Пойдем в экономию. Новый хозяин сказал: кто хочет работать, пускай в воскресенье наведается…
Марко не раздумывал. Через минуту он вышел, застегивая полушубок. Наложил щеколду на пробой и закрепил щепкою. Шли рядом молча, увязая по колена в снегу. Дорога, покрытая огромными сугробами, подымалась в гору. Сугробы походили на причудливые горы. Казалось, вся земля уставлена этими горами, и было непонятно, как такие необозримые пространства уместились на маленьком листке географической карты.
Этой зимой Марку пошел шестнадцатый год, но он считал себя уже совсем взрослым. Походка его стала спокойной, движения – уравновешенными, речь – неторопливой. Да и водился он с парнями, которые были намного старше его. Антону весной двадцатый пойдет, а дружил с Марком. Отец ворчал: «И чего ты возишься с этим голодранцем», – но Антон отмалчивался. Знали дубовчанские ребята: где Антон, там и Марка ищи…
– Стать бы уж на работу, – мечтательно говорит Марко, – деньги до зарезу нужны.
Он трогает пальцами едва приметный пушок на губе, искоса поглядывая на друга.
Впереди, на фоне соснового леса, белеют стены барского особняка, до половины скрытые серой каменной оградой. Дорога из села упирается в широкие железные ворота.
Вечером, когда Марко вернулся из экономии, мать лежала на печи и глухо стонала. Она побывала у Ковалихи. За десяток яиц дала ей бабка какую-то травку, велела сварить и пить по две ложки, тогда кашель утихнет.
– Дух у тебя застужен, – говорила бабка, – а это зелье дух согреет.
Пила мать зелье. Питье было неимоверно горькое. От него корчило. И все же мать заставляла себя глотать. Марко, прислушиваясь к стонам, на цыпочках прошел к постели, скинул полушубок. Наложил в печь хворосту, разжег и поставил на огонь горшок с водою. Мать все ворочалась на печи. «Видно, чахотка у ней», – подумал он, и тяжелое предчувствие сжало ему сердце.
– Куда ходил, сынок? – спросила она слабым голосом.
Он стал рассказывать, но ответа мать уже не слушала, забилась в припадке кашля, ловя руками душный воздух лежанки, и Марко настороженно притих у огня.
Ночью матери стало совсем худо. Она разбудила сына. Он помог ей слезть с печи. Ей сразу немного полегчало. В комнате было не так душно. Мать легла в постель. Марко сел с краю. Она взяла его руку своими влажными, вялыми пальцами и потянула к себе.
– Сил больше нет, сынок! – вымолвила она тихо.
Ее непослушные, слабые пальцы поползли вверх по плечам сына, наклонили к себе его голову, и он почувствовал на лбу прикосновение горячих, сухих материнских губ.
– Может, я кого покличу? – спросил Марко дрожащим голосом. – Может, покличу, мама?
– Некого кликать. Некого.
Она выпустила его голову и прерывисто, тяжело задышала. В напряженной тишине было слышно, как колотилось ее сердце.
– За печью, в платочке, два письма… от отца. Достань…
– Потом, мама. Ладно?
Но мать торопила:
– Нет, нет! Сейчас.
Он покорился. Влез на печь, нашарил в темном уголке тряпицу и достал затершиеся бумажки.
– Нашел, сынок? – спросила она и, не дожидаясь ответа, позвала: – Сядь сюда… ближе!
Он послушно сел, охваченный страхом.
– Худо мне, ой, как худо! – сказала мать после долгого молчания. У Марка саднило в горле, он крепко сжал челюсти, чтобы не стучали зубы.
Мать то шептала, то выкрикивала какие-то слова, но Марко ничего не понимал. Серый рассвет заглянул в оконце. За оконцем царила тишина, и от нее становилось страшно. Мать лежала, не поднимая век. Желтый заострившийся подбородок, сухой блеск глаз и пятна крови на подушке подсказали Марку страшную правду. Словно угадывая ее, мать шевельнула бровями и проговорила:
– Беги к Беркунам… попроси коня… батюшку привези из Хмелевки… – и, обессиленная длинной речью, отвернулась к стене.
Марко быстро одевался. Не слушались руки. Метались неспокойные мысли. Он принес из сарая хворосту, наложил в топку, зажег, а большую охапку свалил у печи. «Встанет, подбросит, – подумал он было, но сразу же оборвал себя: – Нет, не встанет!» – и выбежал из дому, заперев за собою дверь.
Метель утихла. Село лежало в снегу, как вымершее. Под рубашкой, на груди, что-то зашелестело. Не останавливаясь, Марко сунул руку за пазуху, достал листки исписанной бумаги и спрятал их глубоко в карман. В эту минуту он даже не подумал прочитать их, в голове не было ни одной мысли.
У Беркунов еще спали. Пришлось долго стучать в окно. Открыл сам хозяин. Выслушал Марка и, покачивая головою, пошел запрягать. А Марка трясло от нетерпения. Каждая минута казалась ему вечностью.
Очутившись в санях, он рванул вожжи, и застоявшийся конь пошел бодрой мягкой рысью. Старик что-то крикнул вдогонку, но Марко не отозвался. Беркун долго стоял в открытых воротах, глядя вслед саням, пока они не превратились в едва заметную точку. Ровная, пушистая, заснеженная дорога вела в местечко Хмелевку.
* * *
…В конце девяностых годов прошлого столетия выше Старо-Кайдацкого порога горели плавни. Из прибрежных и дальних сел люди видели, как в ночной темноте ветер надувал над Днепром огненные паруса. Они причудливо выгибались, поднимались вертикально к небу, падали вниз, на миг гасли, и тогда завеса дыма, как облако, ползла над рекой. Дни стояли спокойные, тихие. Ни ветра, ни дождя. В церквах били во все колокола. Рыбаки не ездили на лов. Люди смотрели на зыбкую огненную стену, видя в ней признак беды. Над бескрайними степями в вышине сверкали, как смарагды, звезды. Сухой треск камыша наполнял воздух; огонь ненасытимо глотал камыш; над болотами плыла белая пушистая пелена; из чащ выползали ужи и гадюки; ночные птицы, не в силах прорвать крыльями огненную завесу, падали, задушенные едким дымом, в тину плавней; скаля клыки и подобрав дрожащие хвосты, бежали от огня волки. Но спасения не было. Огонь окружил плавни сплошным кольцом. Люди слышали отчаянный вой волков, крик погибающих птиц.
Среди болот, ериков и озер, блуждая в камышах, потеряв всякую надежду на спасение, метался Омельян Высокос. Всего за день до этого он был спокоен за свою судьбу – нашел пристанище в норе какого-то зверя. Там было тепло и тихо. С небольшого озера веяло приятной прохладой. Харчей, которые взял с собой Омельян, хватило бы на несколько дней. Думал: поищут его казаки, поищут, не найдут – и уедут. А тогда можно будет выбраться отсюда и податься куда-нибудь в другие края. Первую ночь своего бегства Омельян не мог спать. Вытянувшись навзничь в чаще высокого лозняка, видел он над собою звездную синеву, вслушивался в многоголосый шелест камышей. Вдруг что-то теплое перекатилось через него и замерло неподалеку, поблескивая угольками глаз. Омельян оперся на локоть и тотчас порывисто откинулся назад. Волк не сводил с него глаз и рычал, потом недовольно повел головою и завыл тоскливо и протяжно. Замолчал, повернулся и побежал прочь.
Тоска овладела Омельяном. Вооруженные люди гонят его, как волка, рыщут по следу, ища его. Конные и пешие шныряют по всем закоулкам, хлещут нагайками непокорные крестьянские спины. Знает Омельян: поймают его – не будет спасения. Освежуют, как зверя, кинут мясо на потраву собакам. А все потому, что осмелился он, Омельян, поднять руку на барскую землю, поведать людям жгучую правду, которая солью разъедала ему сердце. Где граница гневу людскому, какой плотиной сдержать бурный поток людских воль? Сход сказал ему: «Тебе за старшого идти! Твоя правда – от сердца и загрубелых землистых рук. Это наша правда».
Нет покоя Омельяну. Поднявшись на ноги, он, как загнанный зверь, поводит глазами, силясь рассмотреть что-нибудь в темноте. Ноздри дрожат, пересохшие губы чуть раскрыты. Влажный тростник тянется к его открытой груди, ластится. Вокруг тьма, камышовое море, неизвестность.
Омельян опускается на землю, погружаясь в тяжелую нескончаемую думу. Если б мог – полетел бы над плавнями, сел в лодку и махнул бы через Кайдак, Ненасытец, а потом на тот берег – тогда ищи его! Да нельзя этого сделать. В темной, убогой хате ждет его Устя. Верно, уж все глаза выплакала, отведала брани и нагаек, ей все за него. А под сердцем у ней бьется другая жизнь, жизнь нового человека, зачатая им, Омельяном Высокосом, лоцманом с Кайдацкого порога.
Ночь прошла в этих думах. Ничего утешительного не принесло ни утро, ни долгий-долгий день. В плавнях гремели выстрелы. Пули жужжали в камышах. Крикнула птица, должно быть подбитая пулей. Омельян лежал, чутко прислушиваясь к тому, что делалось вокруг, крепко сцепив зубы. А выстрелы не прекращались. Мелькнула мысль: «Может, пойдут искать в плавни?» Не скоро забылся в тревожном, беспокойном сне.
Среди ночи он проснулся. Было жарко, как в печи. Плотные потоки тепла струились в камышах. Омельян вскочил, задыхаясь от горячего воздуха. В нос ударил горький запах дыма. Над плавнями колыхалась красная кайма огня. С полными ужаса глазами Высокос бросился бежать куда глаза глядят. Он бежал не один. С ним вместе бежали звери, взлетали из-под ног птицы, ползли ужи и гадюки. Ничто не могло задержать их – ни тина, ни озера, ни густая поросль камыша. На минуту беглец остановился, оглянулся, увидел за собой багряную лавину огня и побежал дальше. Но и впереди горели плавни. Тогда Омельян кинулся на волчью тропу. Она пролегала через непролазные дебри, но была надежда: может быть, там нет огня. Сердце трепетало в груди, как птичьи крылья, душу мучила тоска, широко открытый рот с хрипом глотал тяжелый, горячий воздух. Тростник резал руки, куня[3]3
Куня – пух на камыше.
[Закрыть] запорашивала глаза… Это было бессмысленное и страшное бегство.
Огонь охватил плавни со всех сторон. Омельян метался в огненном аду, ища спасения. А владелец имения Русанивский наблюдал через широкое венецианское окно, как над плавнями громоздились подвижные горы пламени. Он улыбался, удовлетворенный своею выдумкой: «Либо погибнет мужик в огне, либо выберется по волчьей тропе и угодит прямо в ловушку».
Из плавней на берег, извиваясь среди озер и речушек, вела тропа, прозванная волчьей. Ходили слухи, что по обе стороны тропы, в камышовых зарослях, водятся дикие кабаны, в дебрях засели волки, и людям путь на тропу был заказан. Потеряв всякую надежду на спасение, Омельян побежал по волчьей тропе. На бегу он увидел, как, ломая тяжелым телом тростник, из зарослей выскочил кабан и с хрюканьем снова скрылся в зелени. Где-то позади завывали волки. Теснило грудь, не хватало воздуха, замирая, стучало сердце. А он все бежал, по колена увязая в тине. Чуть не утонул в озерке, спрятавшемся в камышах, но выбрался и снова побежал, охваченный одним желанием – жить. Вплетая свой голос в крики птиц и зверей, он позвал из темноты и огня с надеждой: «Устина! Устя-я!»
А чуть позднее Омельян бежал от огня, уже ничего не соображая. Сознание вернулось к нему, когда, выскочив из огненного кольца, он увидел затуманенными глазами фигуры казаков и полицейских. Но это продолжалось один миг, ибо он тут же упал лицом на землю, погружая дрожащие пальцы в береговой ил.
В ночь, когда Омельян тонул в огненном море, жена его раньше срока родила мальчика. Рожала она в темной, запущенной крестьянской хате, у порога, на глиняном полу… В окна заглядывала ночь. На горизонте блуждали серые полосы рассвета. Женщина лежала, широко разметав руки. В глубокой тишине раздавался звонкий крик новорожденного.
Омельяна Высокоса арестовали, судили и сослали в Сибирь.
Оправившись после долгой болезни, Устя взяла на руки младенца и пошла искать лучшей доли. Так стал Марко сиротой, и неведомо, судилось ли ему, как мечтал отец, вековать бесстрашным лоцманом на Кайдацком пороге. Шла Устя по тропкам вдоль днепровских берегов, одной рукой опираясь на вязовый посошок, другой прижимая к груди ребенка. Перед ней расстилалась трудная дорога печали и бед. Живою водой днепровской обмывала она сына, отдыхала на зеленых коврах высокой и мягкой травы. За пазухой, связанное в узелок, лежало ее достояние, все, что осталось от продажи хаты, – двадцать рублей пятьдесят семь копеек. Шла Устя в свое родное село, в Дубовку. Случалось идти ночью по незнакомым дорогам, на душе было страшно и неспокойно. А люди в селах, куда она заходила, говорили хмуро:
– Держись, молодка, поближе к Днепру, так вверх и ступай, не заблудишься.
В сумерках вечеров лежал Днепр между зелеными берегами, поблескивая серебряным сиянием волн. Клонились над рекой вербы, мочили косы в холодной воде, и долго еще потом падали с их ветвей большие капли. Словно плакали ветви. Тогда из глаз Усти тоже одна за другой скатывались по исхудалым щекам слезы.
– Где теперь Омельян? Жив ли еще?..
И невольно раскрывались губы, и над Днепром, над лугами звенел молодой женский голос. Каждое слово песни, запечатленное сердечной печалью, катилось по отлогим берегам:
Тоска моя, тоска-печаль…
Маленький Марко просыпался на руках у матери, широко раскрытыми глазами смотрел ей в лицо, словно прислушивался к словам песни.
* * *
Лежит Устя, прикованная тяжким недугом к постели, считает ушедшие годы. Прошли они, как талые воды весною. Где начало тому горю – не видно, а конец, верно, в гробу. Поехал Марко за попом. Силится Устя вспомнить свою жизнь. Уставилась в серую стену, будто на ней вся эта жизнь записана. Словно страницы книги перелистывает Устя. Считает свои грехи и вины, чтобы все-все сказать батюшке. Хочется Усте пить. Нестерпимая жажда жжет грудь. Во рту словно суховей прошел, а подняться на ноги сил нет. Лежит, а перед глазами все та же серая стена. Воспоминания теснятся в голове, громоздятся одно на другое, и не знает Устя, что в них главное.
Вот идет она по узенькой тропинке, рядом катит свои холодные воды Днепр, льнут к ногам высокие сочные травы. Полный месяц оглядывает необозримую зёмлю. Идет она тихим, легким шагом, на руках у ней маленький Марко чмокает губками, клонит головенку к груди; чувствует Устя теплоту детского тельца. Вдали, за спиною, гудит Днепр – то бушует вода на порогах. Идет Устя, и конца-краю стежке не видно.
Труден путь среди темной ночи с ребенком на слабых руках. И вот наконец Устя видит себя среди знакомых хат. В оврагах, между холмами, на опушке густого леса, притаилось село Дубовка. Здесь родилась она, отсюда взял ее лоцман из Старых Кайдаков Омельян Высокос. Привела судьба Устю под ту же покосившуюся, хмурую отцовскую кровлю. Приняла старая мать дочку, оплакала ее горе, да вскоре и померла. Так и шли годы, трудные, тяжкие…
Устя подняла голову над подушкой. Пить, пить.!.. Слабеющими руками оперлась она на шаткую спинку кровати, с трудом дотащилась до порога и долго пила ледяную воду, склонившись над ведром. Огонь в печи погас. Устя подложила хворосту, но не могла найти спичек. На глаза попалась лампадка. Сняла ее, склонилась над нею, разжигая прутик. И вдруг, словно ножом, полоснуло грудь. Женщина даже не вскрикнула, рот наполнился чем-то соленым, клейким. Ослабевшие руки выронили лампадку на хворост. Устя упала на пол, в последний раз ловя угасающим взором тусклый дневной свет. Маленький язычок пламени пополз по сухим веточкам, политым лампадным маслом. Они затрепетали засохшими листиками и через минуту ярко вспыхнули. Хворост трещал, разгорался. Огонь перекинулся на платье Усти. Когда к воротам сбежались люди, хата уже пылала, стекла полопались, из окон валил густой дым. На глазах у всех провалилась соломенная кровля.
Кто-то бегал с ведром воды, кто-то кричал, люди тыкали баграми в пылающие стены, звали Устю, но все напрасно: огонь был непобедим. Старый дубовий Саливон прибежал запыхавшись с другого конца села и замер у тына. На бороде его дрожали продолговатые блестящие льдинки.
– Чего стоите, люди добрые? – закричал он, выхватил у кого-то багор и бросился к огню.
Его схватили за руки, за плечи, оттащили в толпу, но он и сам уже видел, что ничего сделать нельзя. Люди стояли молчаливые и суровые. Устю искали повсюду, но безуспешно. Бабы плакали и голосили. Откуда-то появилась бабка Ковалиха.
– Да она же там, – старуха ткнула сухой рукой в огонь и закричала.
* * *
Марко целый день ожидал в Хмелевке батюшку. Тот выехал из дому еще с вечера, и попадья уверяла, что сегодня не вернется, но парнишка упорно ждал. Настал вечер. Наконец Марко решил ехать обратно. Уже совсем стемнело, когда он выбрался за околицу. Конь шел не так резво, как утром. Марко подгонял его, похлопывая вожжами по гладким бокам. Пустое ожидание и голод вконец измучили паренька. Он дремал, не выпуская вожжей, и сквозь дремоту видел мать. Она представлялась ему почему-то веселой и бодрой, пышущей здоровьем.
Сани мягко скользили по пушистому снеговому покрову; показалась околица. Конь побежал живее – Марко вздрогнул, сонными глазами вглядываясь в улицу. «Верно, заругает мать, что не привез попа, – подумал он. – А может, ей полегчало?»
Он остановил коня у ворот и спрыгнул с саней. Но дальше двинуться не смог. Ноги его словно приросли к земле. Он протянул руки, хотел крикнуть. Крик застрял в горле: на месте, где утром стояла хата, одиноко чернела труба, тлели балки, дым полз над пожарищем.
– Мама! – наконец отчаянно крикнул Марко, шагнул вперед и упал, загребая пальцами снег.
Холод вернул ему сознание. Он поднялся с земли и неуверенными шагами приблизился к пожарищу. В глубине сердца теплилась еще надежда. Но ступив на обуглившееся бревно, он вскрикнул, кинулся бежать, вскочил в сани и ошалело погнал коня. У ворот Беркунов он бросил сани, и, не сознавая ничего, побежал дальше. Спотыкался, падал, вставал и снова бежал. Сам не заметил, как очутился на берегу реки. Обессиленный, он оперся на штабель бревен. Казалось, сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Он закрыл глаза и всхлипнул тяжело, почти беззвучно. Чувство безнадежного одиночества овладело нм. В кармане полушубка рука случайно нащупала листки бумаги. Эти листки – все, что осталось ему от прошлого. Тревоги и заботы тяжким грузом легли ему на душу, и Марко сразу почувствовал себя взрослым.
Глухой гул, подобный топоту тысячи конских копыт, наполнял ночь. Затем он перешел в, клокотание. Марко открыл глаза, утер рукавом слезы и прислушался. Казалось, под ногами вспучивается земля. Он посмотрел на реку и увидел, как вздулся ледяной покров. В лицо дул теплый ветер. Вдруг на реке глухо затрещало и раздался плеск освобожденной воды. Марко подошел ближе к реке. Ее ледяная броня раскалывалась со скрежетом, льдина напирала на льдину, хлюпала вода, мелкие осколки бились в волнах, озаренные светом месяца.
На Днепре бушевал ледоход.
Марко, задумавшись, замер на берегу. Будущее стояло перед ним глухой стеною. Крылатый ветер бил в лицо, обнимал материнским объятием, а у ног лежал Днепр, полноводный и загадочный, как великая дорога в жизнь.








