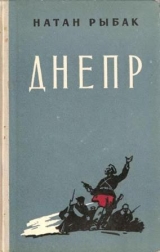
Текст книги "Днепр"
Автор книги: Натан Рыбак
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
IV
Конь встрепенулся, ударил копытом по мягкой, поросшей чертополохом земле и заржал, выгнув дугой гривастую шею. Он прошел несколько шагов по крутому берегу и, замочив повод, припал толстыми губами к воде. Она была вкусна, но холодна, от нее сводило зубы. Конь пил медленно, шлепая губами и фыркая, как будто дыханием своим старался согреть воду. Покрытый дорогой попоной, а поверх нее сверкающим желтокожим казачьим седлом, конь прядал ушами. Мускулы на шее и на животе его вздрагивали. Напившись, он поднял голову и, обводя глазами берег, снова заржал.
В степи было тихо, южный низовой ветер забавлялся метелками камыша, да игривые волны ластились к копытам коня. Справа, на пригорке, среди низкорослых деревьев, стояла рыбачья хата. Сизый дымок курчавился над нею. На кустах сохли сети.
Конь заржал в третий раз, протяжно и призывно. Из хаты вышел старичок. Подтягивая пояс на широких полотняных штанах, он постоял несколько секунд на пороге.
Тучи заслонили солнце. Лишь золотистая полоска его отражалась в воде да кое-где лучи перебегали по густым зарослям камыша. Дед почесал затылок и хриплым голосом крикнул:
– Эй, Марко, привяжи коня, всю сбрую замочил… Я тебя! – дед погрозил коню кулаком и стал спускаться с пригорка. Конь взмахнул хвостом и пошел навстречу старику, волоча по песку мокрый повод. Дед протянул руку, и конь ткнулся губами в заскорузлую широкую ладонь.
– Ищи, ищи, – проговорил дед, обтирая повод, – как раз найдешь.
Завидя у хаты своего хозяина, конь заржал тихо и радостно. Придерживая рукой шашку, Марко сбежал на берег.
Он посмотрел на деда грустными глазами и вздохнул, кусая пересохшие губы.
– Дедуся, не узнаёт она меня… все без памяти.
– Ничего, сынок, горячка пройдет – узнает.
– Где бы доктора взять? – безнадежно спросил Марко. – Эх, дед Омелько, чует сердце мое, пропадет девушка.
Дед, прищурив глаза под мохнатыми нависшими бровями и поглаживая обожженные цигарками усы, посматривал на Марка и молчал.
– Дед Омелько, что же делать-то? – снова спросил Марко.
Конь подошел к хозяину, положил ему голову на плечо и так стоял, смирный и поникший, словно и он проникся хозяйской тоской.
– Ехать мне надо, – тихо проговорил Марко, – а как ее, бедняжку, одну оставить?.,
– Поезжай, сынок, поезжай. Выздоровеет Ивга, девка она молодая, крепкая, переборет горячку; я еще бабку сегодня с хутора позову, травы целебной наварим…
– Эх, – Марко махнул рукой. – Бабьи средства… Врача бы достать…
Далекий отголосок грома прозвучал вдали, за ним другой, третий.
– Ровно гремит где-то, – сказал дед, прикладывая ладонь к уху.
Снова вдали прокатился грохот.
– Пушки бьют, дед, враги проклятые подбираются…
– Вот напасть! – проворчал старик. – И какого беса им на земле нашей надо? Что им здесь приглянулось, а?
Но Марко не ответил. Прислушиваясь к отдаленной пушечной канонаде, он думал об Ивге. Пушечные выстрелы напоминали, что пора уже быть на Лоцманском хуторе. Он выпрямился; конь убрал голову с его плеча.
– Прощайте, дедушка, – с грустью произнес Марко. – Приглядите за Ивгой, век не забуду. А дня через два наведаюсь.
Взявшись рукой за луку, Марко легко вскочил в седло и сказал на прощание:
– Как опамятуется, скажите, что приезжал я, что буду…
Он поехал шагом, затем дернул уздечку и сразу перевел коня в галоп. Через миг конь вынес Марка на пригорок и они скрылись из глаз. Старик стоял задумчивый. Если бы не следы конских копыт на влажном песке, нельзя было бы и узнать, что приезжал Марко.
Солнце все-таки одолело тучи. Позолотило берега, заиграло в стеклах хаты. Где-то далеко, за лиманом, грохотали пушки. Дед Омелько долго не трогался с места, вслушиваясь в отдаленный раскатистый грохот, думая о Марке, об Ивге, о весне, и мысли его были удивительно неповоротливы и безысходны, словно других и быть не могло в это солнечное весеннее утро, когда душа ждала светлых слов утешения. Потом дед вернулся в хату и тихо подошел к постели больной.
Ивга лежала, разметав руки, склонив голову набок. Русая коса свесилась на пол. Сквозь раскрытые губы вырывалось хриплое дыхание. Глаза были широко открыты, но девушка не видела ничего.
Дед наклонился над ней и трижды перекрестил. Потом поднес к ее губам кружку, стараясь влить в рот воды, но зубы Ивги не разжимались. Вода разлилась по подбородку.
– Девушка, девушка, плохо твое дело, – прошептал дед и покачал головой.
Поставив кружку возле постели, он полез на лавку и зажег лампаду перед божницей. Мерцающий огонек осветил засиженную мухами икону. Дед поднял руку, собираясь перекреститься, но в это мгновение ему показалось, что кто-то с грохотом срывает крышу с хаты. Чуть не упав, он выскочил во двор.
Невиданная страшная птица, о каких только в сказках слышал дед, совсем низко пролетела над хатой, над садом и уже покачивала широкими крыльями над водой.
Старик с ужасом смотрел на самолет.
Покружив над лиманом, аэроплан набрал высоту и пошел на восток, поблескивая своим стальным телом на солнце.
Омелько вернулся в хату, растерянно развел руками и взглянул на Ивгу.
– Надо же такому случиться… – сказал он озабоченно и стал собираться на хутор. Дед поправил в головах больной подушку, придвинул ближе к постели кружку с водой.
Ивга лежала все так же, разметав руки, не приходя в сознание. Дед присел на скамью, чтобы надеть лапти. Вдруг со двора долетел топот конских копыт. Старик подошел к окну, но в тот же миг отшатнулся и бросился к двери. На пороге он столкнулся с несколькими военными; черноволосые, смуглые, в незнакомой форме, они стояли, оглядывая хату. Один из них, с виду украинец, сердито спросил:
– Ты кто будешь?
– Рыбак я, – отозвался дед, поняв наконец, кто его гости.
– А это кто у тебя? – спросил вошедший, показывая нагайкой на Ивгу.
– Внучка… тиф у нее, – пояснил дед.
Услышав слово «тиф», солдаты попятились из хаты. Остался только старший. Он подошел ближе к постели и, пытливо глядя на деда, бросил:
– Красные давно были?
– Всякие были, кто их разберет.
Военный нахмурился, вышел из хаты и пальцем поманил деда за собой.
В груди у Омелька защемило. Он вышел во двор. Там, у забора, переговаривались на непонятном языке солдаты.
– Через болота на Лоцманский хутор дорога есть? – , ласково спросил военный.
«Вон чего хочет!» – мелькнула догадка. Пожимая плечами, дед сказал:
– Лет двадцать назад была, а теперь пропала. А вы кто такие будете?
– Атаман Микола Кашпур. Слыхал?
– Как же, слыхал, слыхал… – со вздохом твердил дед. – И отца вашего собственными глазами не раз видел, Данилу Петровича. Как же… А те вон? – и дед ткнул пальцем в сторону солдат.
– Французы, американцы, англичане нам на подмогу пришли, раздавим вашу совдепию… – Кашпур рассек воздух нагайкой, подошел к деду и, прищурясь, спросил: – Так, говоришь, нет дороги через болота?
– Нет, пане атаман, нету.
– А коли мы тебе всыпем двадцать пять горячих, найдется дорога?
Дед молчал, склонив голову на грудь.
– Найдется, спрашиваю тебя? – закричал атаман. – Чего молчишь? Язык отнялся?!
– Не знаю я такой дороги, – тихо ответил Омелько.
– А, не знаешь? Так узнаешь! – уверенно проговорил Кашпур и, замахнувшись, полоснул деда нагайкой.
Старик согнулся под ударом. Через все лицо пролегла синяя черта.
– Ты у меня заговоришь! – сказал Кашпур.
Старику связали руки. Солдаты вскочили на коней. Атаман прикрепил конец веревки к стремени. Дед Омелько шел по обочине, меся босыми ногами разъезженную землю.
Он было думал просить, умолять, но понял, что не поможет, все равно не смилуются. Лицо его пылало. Идти было трудно. Конь атамана трусил мелкой рысцой. Старик часто дышал широко раскрытым ртом. Сердце колотилось, в ушах звенело, в голове словно жужжали шмели.
«Куда это они меня волокут?» – пытался догадаться Омелько.
Всадники свернули с дороги в степь и погнали коней по свежепротоптанной тропке. Днепр и хутор остались далеко позади. Впереди колыхалось сизое марево. Пересохшая прошлогодняя трава шелестела под ногами. Ветер шевелил бороду деда, залезал под расстегнутую ру– баху.
Атаман ехал молча. Солдаты, осторожно озираясь по сторонам, тихо завели какую-то песню. Несколько раз старый рыбак падал, но его поднимали и заставляли идти вперед. Дед покорялся, но едва волочил ноги.
– Лучше пристрели, – умолял он Кашпура, – нет сил больше…
– Ничего, пойдешь, – усмехался Кашпур. – Ты у меня еще заговоришь. Я не тороплюсь.
Дед Омелько замолк. Его одолевали тяжелые думы. Голубое бескрайнее небо простерлось над степью. Солдаты пели монотонную грустную песню. Испуганные птицы срывались из-под конских копыт.
«Что же это будет?.. – думал Омелько. – Меня замучат, девушка пропадет. Кабы Марко знал! А может, и лучше, что он раньше уехал. Беда, если бы он встретился с ними».
Конь атамана пошел медленнее. Перед полуднем отряд прибыл в Хорлы. Еще издалека забелели хаты, а за ними солнечными искрами заиграл плёс Днепра.
Омелька повели на пристань. Посредине реки стоял на якоре высокий, закованный в броню корабль, выставив во все стороны жерла орудий. Рук деду не развязали. Двое солдат в куцых пиджачках с погонами, в круглых шапочках без козырьков, держа карабины наизготовку, повели старика на корабль, втолкнули в трюм и заперли. Обессиленный, он опустился на пол и припал щекой к железному простенку. Ему показалось, что в углу кто-то шевелится. Он заморгал глазами, Пытаясь разглядеть что-нибудь в темноте.
В этот миг раздался пронзительный гудок. Пароход задрожал. Где-то поблизости ритмично заработали насосы и послышался плеск воды. Греческий двухтрубный речной крейсер «София» тихо отчалил от пристани.
Микола Кашпур стоял На мостике рядом с капитаном. Одутловатый низенький капитан Ставраки спокойно скомандовал:
– Полный вперед!
Микола Кашпур налег грудью на поручни. Хорлы оставались позади. Далеко за ними, над парком, высился дворец барона Фальцфейна.
– Проклятый край! – сказал капитан Ставраки, вытирая цветастым платком потный лоб. – Проклятые люди!
Кашпур процедил сквозь зубы:
– Мужики наши упрямы, господин Ставраки.
Тот, соглашаясь, кивнул.
* * *
В один из ноябрьских дней 1918 года на голландской границе остановился автомобиль. Шофер умело затормозил на полном ходу, песок зашипел под колесами.
Навстречу пограничному голландскому офицеру из машины вышел человек в черном плаще и в островерхой каске. Онемев от удивления, офицер вытянулся и отдал честь.
– Ваше величество!.. – только и удалось вымолвить ему.
Кайзер Вильгельм отстегнул шпагу и подал ее офицеру.
– В Германии нет больше императора, – сказал он.
Вильгельм вошел в машину, и через минуту автомобиль исчез в дорожной пыли.
На шоссе остался растерянный офицер с императорской шпагой в руке.
Через неделю командующий немецкими оккупационными войсками на Украине генерал Кронгауз получил точные инструкции от бывшего императорского посла Мумма.
– Кайзера больше нет, – сказал Мумм, – чернь бунтует, солдаты необходимы в Германии. Нам предложено соответственно изменить форму правления и здесь, на Украине.
Мумм нервничал и постукивал, перстнем по столу.
Генерал Кронгауз вздохнул. Ему осточертели перемены, договоры, дипломатия. Он считал, что надо просто перевешать половину жителей этого края и показать им, на что способна кайзеровская армия. Впрочем, кайзера уже не было и, следовательно, армия также перестала быть кайзеровской.
Как будто угадав мысли генерала, Мумм сказал:
– Надо изменить форму оккупации. Суть остается та же. Но необходим контакт с союзниками, – добавил он.
Генерал Кронгауз, выполняя поручение Мумма, предложил Скоропадскому подписать текст отречения.
Пока гетман подписывал украинский, русский и немецкий тексты, солдаты уже развешивали на стенах и заборах свежеотпечатанные универсалы[5]5
Универсал – правительственное распоряжение.
[Закрыть]:
«Всем, всем, всем…
Бог не дал мне сил справиться с трудностями. Ныне в связи со сложными условиями, руководясь исключительно благом Украины, я от власти отрекаюсь.
Гетман П. Скоропадский».
Гетман отрекся. Власть перешла в руки директории. Суть осталась прежней:
– Спешно отгружайте как можно больше руды, хлеба, скота.
– Не церемоньтесь с населением.
– Уничтожайте за собою железные дороги, мосты…
Из Берлина летели шифрованные телеграммы. Мумм безупречно выполнял указания. Он нажимал на генерала. Особенно нажимать, собственно, не приходилось.
Эшелоны зерна, скота, руды, миллионные ценности уходили по железным дорогам.
Население, то есть крестьян и рабочих, пытали и расстреливали сотнями.
Взрывали мосты и рельсы.
Но в воздухе повеяло грозой. Она надвигалась с востока и юга. Ни красноречивые петлюровские универсалы, ни десанты союзных войск, ни собственные штыки и пушки – ничто не приносило уверенности в победе.
Жестоко, варварски расправляясь с беззащитными селами и городами, свертывалась армия оккупантов.
В Одессе и Херсоне зашевелились французы, англичане, американцы, греки, они ждали, когда немцы уйдут.
Генерал д’Ансельм, сидя в каюте дредноута, читал телеграфные сообщения и потирал руки. Генерал Ланшон в Херсоне уверенно смотрел в будущее.
Британский консул Вильям Притт насвистывал «Тицерери».
А Симон Петлюра торопился подписывать секретные соглашения со всеми – с румынами, французами, англичанами и поляками, послал своих людей к американскому консулу в Яссы. Оттуда пришла утешительная весть: американцы могут дать кредит на оружие. Петлюра у всех просил протектората, всем щедро дарил леса, земли, реки, шахты, заводы. Трижды продал Днепр.
Клемансо писал из Парижа д’Ансельму:
«Президент США Вильсон проявляет интерес к Петлюре. Есть данные, что США дадут атаману деньги и оружие. Нам следует принять решительные меры, исходя из наших кровных интересов.
Имейте в виду, что капиталы, вложенные нами в хозяйство Малороссии, огромны. Екатерининские, Южно-русские, Днепровские, Донские шахты по существу наши: в них 97 % французского капитала».
И генералы д’Ансельм и Ланшон имели это в виду. Вильям Притт имел в виду заводы Эльворти в Елисавет-граде, Гельферих-Саде в Харькове и бакинскую нефть, кратчайший путь к которой лежал через Украину.
Возведенный с помощью авантюры в маршалы, Пилсудский мечтал о Польше «от моря до моря». Румыны поживились Бессарабией и Буковиной.
И все же не было силы, которая могла бы заставить народ покориться. По всей Украине поднимались труженики на борьбу за правду и свободу.
Знали люди, что Ленин заботится о свободе Украины. Ильич пришлет русские войска, он прилагает все силы, чтобы помочь Украине освободиться от ярма оккупации.
С верховьев до устья Днепра, по Правобережью и Левобережью, от города к городу, от села к селу крылатые ветры великой ленинской правды овевали людей, живили сердца надеждой.
В партизанских лагерях, по лесам бойцы готовились к великому сражению. В заводских цехах Харькова и Екатеринослава, Мариуполя и Луганска, в шахтах Донбасса строились колонны боевых отрядов.
Партизаны в Лоцманской Каменке собрались на митинг. Прибыл представитель Екатеринославского губкома. Он привез немало утешительных вестей. Это была вторая встреча Ничипора Гремича с Кременем. В первый раз встречались они совсем в другие времена… Далекая это была пора… Но не тогда ли нашли они общий язык, не тогда ли Гремич своими простыми и удивительно правдивыми словами помог Кременю найти ответ на волнующие вопросы? Не Гремич ли рассказал ему на этапе и после, на каторжных работах, о жизни рабочих, о Екатеринославе, о людях твердой воли и ясной цели? Когда судьба развела их, Гремич на прощание сказал: «Увидимся, Кремень, обязательно встретимся. И это будет наше время»! В ту пору это была мечта. И вот она стала действительностью. И теперь, сидя рядом с Гремичем, Кремень снова думал о том, какой силы, какой закалки люди, отдающие себя и жизнь свою на служение народу. Теперь уже и он сам не тот, что был. И Гремич хорошо видел это. Когда губком решал, кого послать для связи с партизанской дивизией, Гремич, узнав, что командует ею Кремень, сам вызвался поехать туда.
Не без трудностей добрался он до Лоцманской Каменки.
– Вот и встретились, – бросил он изумленному Кременю, крепко обнимая его.
– Исполнились твои слова, Ничипор, – ответил взволнованный Кремень.
– Не мои, дружище, не мои – слова нашей партии, Ленина, в них великая правда жизни.
На заседании штаба Гремич подробно рассказал о положении на Украине и на всех фронтах.
– Мы перед решающими событиями, – спокойно говорил он, потирая крепкие руки, и на смуглом лине его светилась радость, – мы, товарищи, на пороге того времени, когда весь трудящийся мир станет смотреть на нас с надеждой. Это нам всем надо учесть, товарищи. Ни гетман, ни Петлюра, ни немцы, ни французы с американцами не одолеют нас. Это факт! Все, кто хочет свободы для Украины, придут нам на помощь.
Гремич перевел дух, обвел глазами Кременя, Матейку, Петра Чорногуза, Марка…
– Мы должны проявить все наше умение, всю храбрость… Оккупанты недаром наложили свои руки на Херсон… Кого там только нет? Французы – раз, англичане – два, греки – три, румыны – четыре… и, наконец, американцы. Губком хорошо знает, что туда под видом всяких советников прибыли американские буржуи… Херсон – ключ к низовьям Днепра, захватчики хотят владеть этим ключом… А поглядите, что делается в Одессе! Оптом и в розницу распродали Петлюра с Винниченком всю Украину… Но так не будет, – голос Гремича окреп, – так не может быть. Партия собрала все силы, народ за нас, не станет ой терпеть пытки да истязания. Рабочие Екатеринослава знают, что вы здесь готовитесь к мощному удару на Херсон… Вам на помощь вскоре подойдёт рабочий батальон. В нем много коммунистов, старых рабочих…
– Вот спасибо губкому, – обрадовался Кремень, – такие люди нам до зарезу нужны.
Они скоро будут здесь. А вам надо принять меры, чтобы не дать захватчикам отбирать у населения хлеб, скот, вывозить эшелонами народное добро…
Ночью, оставшись с Кременем с глазу на глаз, Гремич сказал:
– Видишь, как прекрасна наша жизнь. Я частенько думаю, что потомки позавидуют нам, да и я сам им завидую, – мечтательно добавил он. – Спросишь почему? А потому, что лет через десять – двенадцать Украина станет гордостью всех трудящихся, честных людей… Дожить бы до этих пор…
– Я об этом часто думаю, – ответил Кремень, – и даже вижу эту жизнь. Какими величественными станут наши города, наши деревни, как возвысятся люди, когда они изменят своим трудом облик нашей земли… Что же, если не убьют в боях – а надо чтоб не убили, – нам теперь только и пожить… Не забуду твоих слов, сказанных в Туруханском краю: «Народ победит, за ним правда».
– За это и умереть можно честно и храбро, в бою за нашу революцию.
Они вышли из хаты. В морозном небе ясно мерцали звезды. Месяц обливал холодным сиянием занесенную снегом землю и освещал фигуры часовых у ворот. Вокруг было тихо, но Кремень как будто слышал затаенный клёкот, который вот-вот взорвет эту тишину. Зима цепко держалась за землю, покрыла дали снегами, сковала морозом. Но приход весны неизбежен.
VI
Данило Кашпур, сидя в своей Дубовке, был плохо осведомлен о происходивших событиях.
Впрочем, как всякий хищник, он чуял опасность.
Со страхом ждал он ее приближения, а вокруг юлил, бесцеремонно обо всем расспрашивая, окончательно обнаглевший Феклущенко. Данило Петрович терпеливо выносил выходки своего управителя, и это было первым признаком того, что воля Кашпура надломилась.
На селе барин не появлялся. Только с террасы смотрел на низенькие хатенки, от Феклущенка узнавал, что там делается…
На заре, в лучах солнца, почки на ветвях деревьев сверкали прозрачными капельками росы. Иногда ночью шел дождь.
Кашпур полураздетый лежал в постели и, закрыв глаза, слушал шум ветра.
Часто он вскакивал среди ночи. Тревожно вслушивался, приложив ухо к двери. Где-то совсем близко, может быть, в парке, за домом, щелкали выстрелы. Кашпур из дому не выходил. Стоял у окна и прислушивался. Проходило полчаса, и все утихало. Данило Петрович тихо ложился в постель, Феклущенко вздыхал, крестился и толкал в бок Домну, занявшую чуть не всю кровать.
День был не лучше ночи. Сидели все вместе в столовой. Стол почти никогда не прибирали, так накрытый и стоял.
А в Дубовке словно мор прошел по хатам. Клонились к земле полуразрушенные тыны. Ветер забавлялся настежь раскрытыми дверьми овинов и поветей.
Стекла слезились дождевыми струями. Жестяной петух на хате старосты Беркуна глядел куда-то на восток, где клубились серые туманы, куда уходил утоптанный солдатскими сапогами тракт.
Саливонова нищая хата, казалось, еще глубже вросла в землю.
Вокруг Дубовки высились массивы лесов. Точно со всего Приднепровья сошлись сюда на великий совет крепкие многолетние дубы, клены, осокори, тополи и липы.
И на эти леса со злобою смотрел Кашпур, с откровенной тревогой – Феклущенко, с надеждой – дубовчане.
Скрылись в этих лесах старые и молодые, ушли и не появлялись. Немало дорог знали плотовщики.
Данило Кашпур это хорошо понимал и, занятый собою, утратил вкус к беседам. Молчаливость его по-своему объяснил Феклущенко.
«Грызет его досада, что добро даром пропадет», – думал он.
Запершись у себя в кабинете, Кашпур сидел за столом в раздумье. Что делать? Наконец он решился. Это произошло в день, когда в номере газеты «Родной край», случайно попавшем в Дубовку, Данило Петрович прочитал заметку:
«Микола Кашпур, куренной атаман, глава делегации директории в Херсоне…»
Это сообщение заставило Кашпура решиться. Он показал газету Феклущенку и объявил ему, что собирается в Херсон к сыну. В тот же день Данило Петрович выехал из Дубовки.
На станцию его отвозил Феклущенко. Дорога шла степью, вдоль Днепра. Кони легко несли бричку. Ехали молча, каждый углубясь в свои мысли.
– Эх, Данило Петрович! – с сердцем ударяя по коням, сказал управитель. – Что же это будет? Куда все катится?
Кашпур, окинув взглядом округу, проговорил:
– Надолго кулиш этот заварился, Денис, надолго… Еду вот и думаю, что, может, в последний раз все это вижу… Тебе совет даю… ты с мужиками сговорись, войди в доверие… А там – понимаешь?..
Управитель понял.
«Я уж войду, – решил он, – не сомневайся», – и, как будто успокоенный этой мыслью, улыбнулся и сказал:
– Вы, может, у Петлюры министром станете?..
Хозяин промолчал.
Навстречу плыли молчаливые степные просторы. Вскоре приехали на станцию.
– Что ж, будем прощаться, – вышел из задумчивости Кашпур.
Феклущенко схватил обеими руками жесткую хозяйскую ладонь, заглянул барину в лицо.
Данило Петрович смотрел в сторону, на верхушку колокольни, высившуюся над деревьями за станцией.
Стая грачей кружилась над нею.
– Ну, прощай, – тихо проговорил Кашпур.
Он сделал несколько шагов и остановился: повернул голову, будто собираясь что-то сказать, но махнул рукой и пошел дальше, уже не оглядываясь.
Управитель стоял, долгим взглядом провожая хозяина, пока его крепкая фигура не исчезла за углом кирпичного здания станции.
Странное, незнакомое доселе одиночество охватило вдруг Феклущенка. Он как-то сразу заторопился. Вытащил у коней из-под морд мешки с овсом, бросил их в бричку и сам вскочил в нее.
Затем ударил кнутом по застоявшимся коням – колеса загрохотали по булыжникам. Через несколько минут бричка уже неслась по степным ухабам.
Ночь была светлая, лунная.
Феклущенко жалел, что поехал. «Кто его знает, что может случиться в дороге ночью…»
Вскоре справа, в степи, точно огненный парус, вспыхнуло зарево.
Кони косились и храпели. Феклущенко стегнул их кнутом.
– Господи, – взмолился он, – что же это будет, господи!
Огонь взмывал высоко в небо. Далекий набат нарушил ночную тишь.
На рассвете взмыленные кони промчали бричку по аллее каштанов, сквозь раскрытые настежь ворота и, тяжело храпя, остановились у террасы.
Странная тишина поразила Феклущенка. Он вылез из брички и стал подниматься на террасу. Ноги у него подгибались.
Навстречу ему вышла Домаха, тревожно оглядываясь и кутаясь в черный платок.
– Ну? – спросил он.
– Пришли, – ответила Домаха, – еще вечером.
– Красные? – произнес управитель, опускаясь на ступени лестницы и ловя мутными, потемневшими от страха глазами очертания серых дубовских хаток.
Мрачный день начинался для Феклущенка. А вокруг светило солнце, и в небе весело курлыкали журавли.








