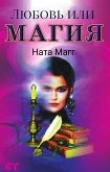Текст книги "Дети Хедина (антология)"
Автор книги: Наталья Колесова
Соавторы: Ник Перумов,Ольга Баумгертнер,Аркадий Шушпанов,Ирина Черкашина,Юлия Рыженкова,Дарья Зарубина,Наталья Болдырева,Сергей Игнатьев,Юстина Южная,Мила Коротич
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
Гуськом домовые побежали к окраине кладбища. Первым служивый, за ним Мефодьич, а последним, стуча поклажей, школьный.
Им вслед из-под земли донесся третий вопль.
Домовые могут перемещаться очень быстро и незаметно, потому что умеют изменять свои размеры. Их тело не материально на все сто процентов, как у людей. Домовой может вполне сойти за человека и затеряться в сутолоке, а может нырнуть в кошачий лаз или даже в мышиную нору. Но сейчас такой маневр не удался бы из-за одежды и поклажи, куда все это денешь?
…Они успели: и добежать, и все нужное приготовить, и затаиться.
Кимыч сидел, прислонившись спиной к памятнику и уперев сапоги в близкую ограду. Памятник был из новых, гранитных, и прикасаться к его холодной гладкой поверхности было даже приятно. Кимыч понимал, что такая бесцеремонность не очень-то вежлива, но по-другому не получалось.
Облака раскрыли полную луну. Словно желтое лицо, изрытое оспинами, показалось из-под черного капюшона. Деревья тянулись к небу, словно руки мертвецов. Откуда-то из леса донесся протяжный вой. Конечно, это был не волк, а какая-то из бродячих собак, что иногда заходили на кладбище.
Кимычу было страшновато. Чувство смутное, почти забытое. Чего бояться ночью на кладбище, если ты давно уже не человек?
Но даже домовые иногда боятся ответственности.
Кимыч вспоминал развороченный крест, увиденный сегодня по дороге в нору кладбищенского. Еще он вспоминал выражение лица Мефодьича, когда помогал ему ставить на место перевернутые памятники. Это было на прошлую весну.
У Мефодьича в норе хранилась особенная тетрадь. Не тетрадь даже, а целая конторская книга. Старинная, с потрескавшейся обложкой. Мефодьич записывал сюда все интересное и примечательное, не полагаясь на память. Эта книга у него была уже неизвестно какой по счету. В ее середине Мефодьич хранил вырезки из газет. Сами газеты он доставал из мусорных ящиков, куда их выбрасывали посетители кладбища. А еще газеты приносил Кимыч.
Коллекция вырезок у Мефодьича подобралась своеобразная. Кимыч, честно говоря, все их не читал. Но ему хватало и заголовков.
ВАНДАЛИЗМ НА КЛАДБИЩАХ
ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ?
РАЗРУШЕНО БОЛЕЕ 200 НАДГРОБИЙ
ВАНДАЛЫ НЕ ДРЕМЛЮТ
ОСКВЕРНЕНЫ ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ВАНДАЛЫ
ДАЮТ ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
Уголки вырезок не помещались в конторской книге, вылезали наружу, съеживались, как будто им самим было неудобно за свое содержание.
Думая об этом, Кимыч вдруг различил осторожные шаги и разговоры. Еще смешки. Еще бульканье.
Домовые слышат хорошо и далеко.
Кимыч затаил дыхание. Тоже, конечно, нелепо: ведь ты не то чтобы живой, не отражаешься в зеркалах и мог бы совсем не дышать, если бы захотел. Но привычка вдыхать и выдыхать сохраняется, как походка.
По шагам, смешкам и шорохам Кимыч понял: идут пятеро. Обостренный слух не подводил, во время уроков школьный мог безошибочно определить, сколько учеников сидит в классе.
Кимыч не видел ни служивого, ни кладбищенского. Но он легко мог себе представить, о чем сейчас думает Евграфыч: «Поближе… Еще маленько поближе… Рановато….»
А затем над кладбищем взвилась ракета. Но не простая, а заговоренная. Ракетницу притащил, конечно, служивый, а с заговором постарался Мефодьич: свечение у падающей ракеты было синее, мертвое, зловещее.
Увидев сигнал, Кимыч приложил к губам самодельный рупор и провыл:
– Айн, цвай, драй! Фояр!
Над головой прозвенело: это Мефодьич привел в действие несложный механизм, – и над памятниками взвилась фигура, похожая на пугало. Света еще не погасшей ракеты вполне хватало, чтобы пятеро невольных зрителей ее хорошенько разглядели.
К ним, стуча костями и металлом, летел скелет, одетый в форму немецкого солдата Второй мировой. В каске, сдвинутой на затылок, и с болтающимся на шее автоматом.
Скелет Кимыч позаимствовал на одну ночь в препараторской кабинета биологии и притащил разобранным в заплечном мешке. Все остальное принес из музея служивый.
Скелет двигался по тонкой проволоке, натянутой между деревьями. Мефодьич управлял им как марионеткой.
Конечно, проволоку было не различить, если не знать, куда именно смотреть.
Прижавшись спиной к гранитному надгробию, Кимыч услышал возгласы. За такие слова в школе вызвали бы родителей, сразу обоих. Но состояние тех, кто эти слова произнес, легко можно было понять.
Тогда Кимыч поднялся во весь рост. Сейчас на нем тоже была немецкая форма. Он не хотел ее надевать, но Евграфыч был прав: и Штирлиц рядился. А кроме того, Кимыч был самым высоким из троицы: рост домовых с годами делается меньше, и они вроде как усыхают. А кого способен напугать фашист ростом метр с кепкой? Так что по-любому эта роль доставалась Кимычу.
На шее у него тоже висел автомат. И в отличие от того, что надели на скелет, в этом автомате были патроны.
Кимыч полоснул вверх.
Стрелять из автомата его научил служивый, еще давно, в лесу, по бутылкам. Откидной приклад в свое время оставил здоровенный синяк на плече. Но сейчас Кимыч прикладом не пользовался.
Очередь ушла в небо, и было в ее грохоте что-то от треска костей.
А затем опять выстрелил служивый. Синяя ракета высветила клочок кладбища, тощую фигуру Кимыча с автоматом и пришельцев.
Кимыч и так их отлично себе представлял. Он чуть ли не каждый день встречал подобных в школе. Класс десятый-одиннадцатый. Хотя зря Кимыч подумал на школу: все-таки та, где служил он сам, была в центре города и вообще считалась одной из лучших. А эти явно учились где-то в близлежащем поселке. Стал бы кто, даже приняв на грудь, так далеко идти из города.
Нет, это были местные. Рассказал о них Мефодьич. Он же позвал на подмогу друзей, когда понял, что сам не справится. Ему до смерти надоело, когда на кладбище выворачивали кресты, разбивали надгробия или разрисовывали их черной краской. Кто этим занимается, Мефодьич уже давно выяснил и даже научился вычислять, когда именно кладбищенский разбой случится опять.
…Незваные гости сначала даже не посмотрели в ту сторону, откуда была дана очередь. Все их внимание оказалось прикованным к скелету, летящему над могилами.
– Сдавайся, партизанен! – как можно более хрипло, чтобы не выдать свой высокий голос, проорал Кимыч. Никаких партизан в городе никогда не было, тот всю войну стоял в глубоком тылу. Просто Кимыч слышал похожую фразу в каком-то старом фильме.
Фигуры несостоявшихся вандалов замерли, примороженные ужасом.
Первая фаза акции была успешно пройдена, и наступало время для второй.
Кимыч побежал к фигурам, паля в воздух. Что называется – в белый свет как в копеечку, даром что на дворе была ночь. Между короткими очередями он кричал по-немецки:
– Уважаемые пассажиры! Поезд номер два прибывает на запасной путь! Предъявите билеты! Покажите меню!
Никто из жертв психологической атаки немецкого, разумеется, не знал. Кстати, из домово-кладбищенской троицы его тоже выучил один Кимыч, по учебникам и лингафонному курсу из класса иностранных языков.
Несколько пар глаз наконец-то оторвались от скелета и обратились к бегущему с автоматом. Только тогда пришельцы ожили и бросились удирать. Очевидно, в них открылись до того скрытые резервы организма: в школе Кимыч видел немало бегунов, но эти могли бы выступать даже на областной олимпиаде.
Он еще раз выстрелил, еще раз крикнул вслед. Но сам уже никуда не спешил.
Третья синяя ракета высветила спины насмерть перепуганных беглецов. Спины растворились вдали раньше, чем она погасла.
Рядом с Кимычем встал служивый:
– Кажись, все. Больше не придут.
Скелет раскачивался на проволоке и позвякивал железками, словно огородное пугало.
– Хорошо бы так, – сказал Мефодьич, показавшись откуда-то с неожиданной стороны, – только как бы теперь другие не пришли.
– Какие другие? – повернулся к нему Кимыч.
– Паранормальные всякие… любители. Слухи ведь пойдут.
– Будем решать проблемы по мере поступления, – рассудил служивый, – а пока считаем, воспитательная работа прошла успешно. Все собираем и возвращаемся на базу. Кимыч! Гильзы поищи, а то если кто найдет, это уже не слухи будут, а улики. Да, и бутылки после этих хорошо бы убрать.
– Так точно! – сказал Кимыч.
Искать в темноте стреляные гильзы зрение домового вполне позволяло.
Мефодьич отцепил скелет и перевалил его через плечо, будто нес раненого. На другое плечо повесил автомат.
– Вот ведь до чего дошло, – ворчал он, – оборонять родные могилы чучелом фрица. Сначала от них защищаешься, теперь вот ихним же образом.
– Говорили уже, – махнул рукой Евграфыч, – не в нашу же форму его было рядить! Из этих зомби как-то лучше получаются. Это не жульство даже, а военная хитрость.
…Через полчаса все трое опять сидели в норе у Мефодьича, смотрели на вновь разведенный огонь. Разобранный скелет лежал сложенным в мешке у Кимыча, оружие и амуниция – в сумках у Евграфыча. Единственное, чего тот не собирался возвращать, – патроны, потому как они были не музейные, а его личные, хранившиеся много лет на черный день. Бережливый Евграфыч и не думал, что черный день обернется тихой весенней ночью, а стрелять придется в воздух.
Домовые вообще по понятным причинам ведут ночной образ жизни, поэтому сейчас для троицы было что-то вроде раннего, хорошо начатого утра.
Мефодьич еще раз заварил свой коронный травяной чай и вновь раскачивался в кресле, попыхивая трубочкой. Снова философствовал:
– Заметил я, случаются все эти акты вандализма в основном по весне или в начале лета.
– А тут и думать нечего, – отозвался, не дослушав, Евграфыч, – весной у всех психов обострение. Так даже в твоих газетных обрывках написано. А эти что, нормальные, что ли? Так что все на поверхности!
– Да уж, – сказал кладбищенский, – психика молодая, неуравновешенная. Мы ведь кого-то и уморить могли такой психической атакой.
– Невелика потеря, – буркнул служивый. – Неповадно будет. Сильных духом среди таких все равно нет, а на слабых мы всегда управу найдем.
– Мы-то найдем, – у Мефодьича в руках появилась знакомая тетрадь. – А везде ли есть мы?
Он перебирал узловатыми пальцами хрупкие пожелтевшие вырезки.
Возникла пауза, и в норе слышалось только, как потрескивает огонь и шуршат эти клочки бумаги.
ОТВЕТНЫЙ УДАР В СПИНУ ПАВШИМ
ВАНДАЛАМИ ОКАЗАЛИСЬ ШКОЛЬНИКИ
ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ НА КЛАДБИЩЕ
– Людям надо этим заниматься, – вздохнул Евграфыч, – а не нам, старой нежити. Извини, Кимыч, про тебя не подумал…
– Живым нынче не до мертвых, – ответил Мефодьич, подняв одну вырезку на уровень глаз и посмотрев сквозь нее на огонь, будто хотел разглядеть какие-то тайные водяные знаки. – Вот самим и приходится…
– Я не в обиде, – сказал Евграфыч, – мне-то что, даже интересно стариной тряхнуть. Ему вон тоже, – он кивнул на Кимыча, – боевое крещение принять в самый раз. Кстати, молодцом, парень!
– Старался, – коротко ответил Кимыч.
– А я вот думаю, – произнес Мефодьич, – опыт надо передавать и распространять! Так что Кимыч прав. Надо выходить на городского. А может, даже на всемирного. Если он есть.
Юстина Южная
Чужая
Меня зовут Таня.
Татьяна Андроникова. Это совершенно точно. Я прежняя, я сознаю себя прежней, ощущаю себя прежней. Нет никаких сомнений: я это я. Пока не приходит горячий бриз… Тогда мне становится страшно.
Он зовет меня Василиной, ни разу не сбился на Таню, разве только с паузой иногда произносит… но не важно, я уже привыкла. Отозваться на имя несложно, собственно, я и отзываюсь. И внутри ничего не вздрагивает, не переворачивается.
Василина – примеряю ее имя – звучит неплохо, будто и не чужое. Ведь я – все-таки немного она. Немного…
Я вру. Самой себе.
* * *
Дзззынь… Дзззынь…
– Слышу, Тань! Мы идем!
Я переступила с ноги на ногу, переложила сумку в левую руку, размяла затекшую ладонь. Спустя минуту дверь отворилась. Василина, элегантная и легкая, в облаке восточно-жемчужной «5-й авеню», ступила на лестничную площадку. Следом, чуть замешкавшись, – Аркадий. Одет красиво, по-праздничному – белая рубашка, агатово-черный костюм. Если в его облике и чувствовалась определенная скованность, неловкость, она с лихвой компенсировалась обаянием и искренней улыбкой. Которой Аркадий тут же и одарил меня. Как любого человека, оказавшегося бы на пороге его квартиры.
– Привет, Танюш!
– Привет! – Я улыбнулась в ответ.
Василина загремела ключами.
– Cielito, иди, машину заводи, – скомандовала она весело.
Аркадий сбежал по ступенькам к гаражу, и спустя несколько минут мы выруливали на дорогу.
Деревья мелькали, оставаясь на корочке памяти слайдами старинных диафильмов. Дерево в зелени, дерево с легким налетом золота, красное дерево. Газон, газон, газон… Дерево.
Сколько лет прошло с тех пор, как последний диапроектор выкинули на помойку? Кажется, им пользовались мои бабушка и дедушка в детстве, а мама уже жила в эпоху цифры и плазмы. Прогресс. Автомобили с электродвигателями, машины на биодизельном топливе, технологии с приставкой «нано», гиперсмартфоны со встроенными проекторами и поддержкой высокоскоростных сетей передач, регенеративная медицина – никого этим не удивишь. Остается только с философским спокойствием принимать все стремительные перемены этого мира. Тем более они несут с собой такие полезные открытия.
Я машинально глянула в зеркало заднего вида – симпатичная девушка… сорока лет. Рядом Лина – тоже девица среднего возраста. Подумать только, а бабушка умерла в семьдесят пять. Жаль не дожила.
– Пожалуй, обгоню того неадеквата, – негромко говорит Аркадий. – Не хочу за ним тащиться, мало ли что.
Аркадий… Так я и не научилась называть его Аркашей или Кешей, как зовет Лина. Первый раз я вообще не заметила его, поглощенная дебатами с двумя коллегами-фармацевтами. Журналист на медицинском симпозиуме – я не восприняла его всерьез. Но, когда встретила в нашем институте, обратила внимание. Мы разговорились и болтали несколько часов. Его поглотила тема, а меня… Да, собственно, какая разница? К тому времени он уже был знаком с Василиной. Моей… не подругой, нет, но хорошей знакомой.
Я отвлеклась от воспоминаний, посмотрела на дорогу. Аркадий потянулся нажать кнопку и…
Как странно. Бампер машины, идущей впереди, надвинулся на лобовое стекло. Слишком близко… так нельзя… почему мы едем вниз… О господи!!!
И дальше снова были кадры диафильма.
Немного.
Но я помню каждый.
Асфальт. Серый, в черную точечку. Ляпка жвачки, раздавленной рифленым ботинком, – зигзаги впечатались в ее грязный кружочек. Сумка, женская, из дорогущей кожи. Покачивается у меня перед носом. Рукав светлой блузы, шелковой, такой нежной и полупрозрачной. «Она жива?», «Кажется…», «Только не трогайте!» Мои пальцы шевелятся. Струйка, липкая. Ползет. Глаза ее отслеживают. Красная. Глаза закрываются.
Сияние. Ослепляет, режет. Убегающие стены коридора, мятного цвета с белой полосой наверху. Бег замедляется, останавливается. «В пятую», «Сатурация, давление», «Промедол в вену»…
Больно. Тут. И там. И в боку. И в голове. Но не сильно. Потолок. Светлый. Он мне нравится. Он ведь есть… потолок. Значит, я тоже есть. Я его вижу. А еще я вижу симпатичную девушку в халате. Она склоняется надо мной, улыбается. «Вы пришли в себя? Меня зовут Катя. Вы в больнице…»
«Аркадий?» – спрашиваю я.
Через неделю я была на ногах. Первое, что сделала, когда смогла ходить, пошла к Василине. Туда не пускали – она лежала в реанимации. Я осталась стоять у стеклянных окон и видела только бинты. Бинты, бинты и кусочек лица – нос, губы… А еще я видела Аркадия, тоже за стеклянной стеной, только в соседнем, свободном, зале. Он сидел на стуле и сквозь стекло молча глядел на этот кусочек.
Он почти не пострадал. Да и я дешево отделалась. Так вышло, что основной удар приняло на себя пассажирское кресло впереди – место Василины. Почему так произошло? Зачем? За что? Для меня все казалось неважным. Это произошло.
Аркадий сидел там, а я… больше всего на свете я хотела войти, встать сзади, опустить руки на плечи, погладить сгорбленную спину, зарыться носом в копну каштановых волос и шептать, шептать что-то ласковое, доброе, успокаивающее. Только, наблюдая за утопленным в ледяной обреченности взглядом, я понимала – ему было бы все равно. Он не вздохнул бы, не приник к теплой ладони, не прошептал: «Что бы я без тебя делал?» Сейчас, как никогда раньше, обнажились тонкие нервы наших отношений. Предо мной сидела истина с поникшими плечами. Простая истина – он любит ее. Любит, как уже давно не принято. Безумно.
Я не имела ничего против Лины. Никогда. Женщина с характером, женщина – улыбка, женщина во всех смыслах этого слова. Я уважала ее. В конце концов, это был его выбор. Я только жалела, что не я на ее месте. Даже сейчас.
– Таня.
Я обернулась.
– Никита? А ты что…
– Ты чего вскочила, здоровая моя? Иди-ка в палату.
– Я к Лине… и Аркадию.
– Потом. Потом – обязательно.
Он сказал это очень жестко и взял меня за руку. Я позволила отвести себя в другое отделение, этажом выше. Там Никитка сдал меня медсестрам, пожурив девчонок, что проглядели беглянку.
– Ты оперировал ее? – спросила я, когда он уже стоял в дверях.
– Да. И не я один. Двумя бригадами еле справились.
– Все… серьезно?
Он помедлил.
– Расскажу завтра, обещаю.
– А Аркадий…
– Да увидишь ты своего Аркадия. Он заходил к тебе, ты на процедурах была.
– А не знаешь, что там с судом?
– Ну, дорогая, ты еще спроси, как там его собака поживает. Придет, сам расскажет. И… не спускайся пока к Лине. Все равно нельзя.
Я кивнула, он вышел.
Никита Сонин был моим сокурсником (правда, с четвертого курса я сбежала, променяв грядущую гинекологию на фармацевтику), кандидатом, а затем и доктором наук, автором четырех монографий и практикующим хирургом. Нейрохирургом. Высочайшего класса. Как он успевал совмещать практику и кафедру, оставалось загадкой, но успевал.
А еще он был моим близким другом. Одно время – очень близким, но то время давно прошло. Он знал Аркадия с Линой и многое знал про меня; практически все. Наверное, поэтому я доверяла ему безоговорочно.
На следующий день Аркадий зашел ко мне.
Он радовался, что я выздоравливаю, очень радовался. Даже улыбался. Извинялся за аварию, и я совершенно ясно слышала непроизнесенные извинения за то, что это не он сейчас в больнице, закованный в гипс и перемотанный бинтами. Он разговаривал со мной, а думал о ней. И так было правильно, я понимала. Я только не могла смотреть на ужас, копошившийся в провале зрачков, не имеющих дна. Он страшно боялся.
Мы поговорили о суде, о том, что вину сначала записали на него – ехал сзади, – но свидетелей набралось предостаточно, и обвинение сняли. Говорили обо мне, что болит, как лечат.
Спустя полчаса я рискнула:
– Что с Линой? Ей… лучше?
Аркадий молчал недолго, секунд двадцать, не больше, и эти секунды отпечатались в сердце неровной цепочкой следов.
– Она умирает, – сказал он.
Как-то тихо это прозвучало, по-детски беспомощно. И рядом с одними следами легли двадцать других.
– Но как?..
Аркадий чуть приподнял плечо, показывая сомнение или непонимание. Выражение лица осталось все таким же детски недоуменным.
– Они сделали все, что могли.
Честно говоря, не помню наш дальнейший разговор. И был ли он вообще? Аркадий ушел, а я осталась сидеть. Деревья за окнами слегка покачивались, ватные клочки облаков норовили забить голубые щели неба.
Если бы я могла, я бы отщелкала слайды диафильма назад.
Жаль, ночь нельзя растянуть на полжизни. Я так нуждалась во времени. Мысли приходили чуждые, опасные, притягательные. Если судьба отняла все шансы, имею ли я право вырывать у нее из зубов последний? Для себя, для нее и для него.
Я попросила медсестричек подключить для меня ноут и до утра читала доклады и статьи за подписью проф. Н. Сонина. Когда вечером Никитка заглянул навестить меня, я была готова. Почти…
– Ну что, что?.. Танька, ты действительно хочешь знать? Костей у нее целых мало осталось, печень – всмятку, легкое осколком ребра пробито, тяжелая черепно-мозговая… Мы, мать его за ногу, не волшебники.
Я не плакала. Бессмысленные занятия меня никогда не привлекали. Нахмурилась, сцепляя пальцы в замок.
– Прости.
– Да нет, ничего. Когда? В смысле, когда она… сколько осталось?
Мы сидели в маленьком кабинете, недалеко от лифтов. Кабинет был ничейный, обычно использовался медперсоналом для отдыха. Раздавалось шуршание дверей, едва слышный скрип колесиков от каталок, шаги. Никита курил, стряхивал пепел в горшок с амариллисом.
– Дня три. Может, четыре. Она сильная девочка, и техника у нас хорошая…
Я встала, нервно заходила по комнате. Еще минутку, одну минутку, и я скажу ему. Я остановилась в дальнем углу. Нет, мне хватало решимости, и сил у бога я не просила, но надо как-то убедить бывшего сокурсника. Какими словами? Я знала лишь одну его слабость и собиралась сыграть на ней.
– Никит, пересади мне ее память.
– Что?
Сигарета застыла в пальцах, коричневая каемка медленно поползла к фильтру, обнажая пепел.
– Она же не лишилась мозга полностью. Если ты вложишь ее память в меня, она… она не умрет. Как бы не умрет.
– Тань, ты рехнулась?
– Нет. Пока что.
Трубочка пепла осыпалась на листья цветка. Никита бросил окурок.
– Память нельзя пересадить. Это не почка и даже не сердце.
– Никит, мы с тобой сколько знакомы? Не забывай, кто тебе помогал редактировать кандидатскую. Я читала твои статьи.
– Что ты читала? Научно-популярные писульки для «Здоровья» или «Мира медицины»?
– И их тоже. Семь операций, Никит. Это лишь то, что мне удалось выудить за день. И о них писали не только медицинские журналы. Семь операций, пять провел ты лично, в двух ассистировал.
– Ну, хорошо, начитанная моя, а о результатах этих операций, экспериментальных, заметь, ты знаешь?
– Трое умерли, отторжение тканей, двое так и не смогли адаптировать заемную память, остались психическими калеками, двое – сейчас под наблюдением, процесс, насколько я понимаю, идет нормально.
Никита фыркнул, полез в карман за пачкой «Винстона», передумал и сунул обратно.
– Нормально… Не твоя область, Тань, не тебе судить о нормальности. И все операции мы производили на уже недееспособных людях, практически трупах, – он встал и тоже прошелся из угла в угол. – Не делай большие глаза, доноры и реципиенты из тех энтузиастов, что завещали свое тело медицине, или те, на кого мы получили согласие родственников.
– Вот. А теперь сделаешь на живом пациенте.
– Те тоже живыми были, иначе на фига им память? Тань, глупости просишь, извини, конечно. Успокоительного выпей…
Я бы разозлилась. Но где-то со вчерашнего дня такие сильные чувства мне стали недоступны. Поэтому прервала я его спокойно и негромко.
– Нет, Никит, слушай меня внимательно. Если Лина умрет, ей будет уже все равно, а мне – нет. И Аркадию – нет. Ты не замечаешь, что с ним творится? Я его таким никогда не видела, да никто не видел. И не увидит, потому что на следующий день после похорон он оставит на столе маленькую записку на бумажке в клеточку и выпьет правильныхтаблеток. Не забывай, его жена и одна неплохая знакомая работают в фармацевтике, он знает, что брать. И ни ты, ни я, ни родичи – никто его не остановит. Мама у него давно умерла, отца сроду не имелось, детей тоже; ему не за что держаться. Понимаешь? Работа, коллеги… он им нужен? А они ему? Никит… я думала… я много думала… Пересади мне ее память. Мы скажем, что я – это она. Это ведь так и будет, почти.
– Танька…
– Погоди. Все твои аргументы у тебя на лице написаны. А мои… Никит, если ты этого не сделаешь… я ведь тоже знаю, какие таблетки надо глотать.
– Не смей, идиотка!
– Я пока и не смею. Но времени у нас – три, четыре дня.
– Танька, да ты хоть понимаешь, о чем просишь, мать твою за ногу?!
– Ну расскажи мне. Расскажи что-то такое, чего я не знаю. Только человеческими словами, пожалуйста.
– Да ничего ты не знаешь. Прочитала небось про воссоздание энграммы из подкорки и успокоилась.
Я вздохнула.
– Расскажи.
Он опять достал сигареты и опять убрал их.
– Ну… про голографическое устройство памяти еще с института, наверное, помнишь. Гипотеза с семидесятых прошлого века муссируется. Смысл в том, что информация, поступающая в мозг, не скапливается в каком-то одном месте, а распределяется по разным участкам. То есть нет такого органа памяти, есть только клетки, хранящие запечатленное. В этом смысле память, как голографическая пленка. В ней сведения о предмете сокрыты распределенно, и любой фрагмент имеет информацию сразу обо всем изображении. Если пленку разрезать, каждая половинка восстановит полное исходное изображение. Качество, возможно, ухудшится, но отражаемый объект останется в целости. То же и с мозгом. Даже если большая его часть будет повреждена, он способен восстановить всю накопленную информацию. Да, собственно, процессы запоминания и воскрешения образов давным-давно изучены…
Никита – сейчас он действительно был похож на профессора – остановился, проверяя, дошло ли до меня сказанное. Я покивала – продолжай.
– Вот из этого мы и исходили, когда начали. Опыты сначала на мышах, потом собаки, свиньи, обезьяны. Недавно – на человеке. Мы берем клетки височных участков коры и подкорки, это наш «путь к следам памяти». Каждая клетка несет в себе энграмму – «след прошлого» или внутреннюю запись, закодированную информацию обо всем, что происходило с человеком. Перекодировать ее мы пока не в состоянии, поэтому в мозг реципиента пересаживаются непосредственно клетки донора. И искусственно возбуждаются. Реципиент при этом… как тебе объяснить… с мышами было проще. Мы наблюдали за поведением, реакциями, следили за сохранением или обновлением рефлексов, моторикой. А люди… По-разному пробовали: коматозникам, от коматозников, в момент клинической смерти. Но живым, в полном смысле этого слова, нет. Даже сами термины «донор» и «реципиент» некорректны в данном случае. Мозг реципиента «спит», в нем властвует сознание донора. Оно отождествляет себя с новым телом, хотя это болезненный процесс. И дело не столько в физиологии. Мозгу трудно принять новое. Помогает знаешь что? Аналогии с протезами. А в твоем случае… ты же никуда не денешься. Я не знаю, как себя поведет твоя психика… и ее память.
Он еще говорил, растолковывая идиотке всю бредовость мероприятия, но я уже видела знакомый блеск в его глазах. Пробивающийся даже сквозь броню врачебной этики, страха неудачи и нежелания рисковать человеком, мной.
Значит, все идет по плану.
– Потеря личности – самое легкое, что может с тобой случиться. Моторика опять-таки… возможно, тело периодически будет вспоминать движения того, другого тела. А потом постоянный контроль, диета, инъекции ноотропов и протеина CREB, транскраниальная магнитная стимуляция мозга.
– Ладно, ты меня страшными словами не пугай. Магниты, приложенные к голове, это не ужасно.
– Танька, – Никита на секунду замолчал, сунул палец в цветочный горшок, разровнял пепел. – Ты понимаешь, что это будешь уже не ты?
Я улыбнулась.
– Я всегда была немного сумасшедшей. Ну, стану ею окончательно.
Он рассерженно хмыкнул.
– Тогда предположи, что Аркадий по этому поводу подумает. Я не имею права делать операцию без его согласия.
– А зачем ему быть в курсе подробностей? Скажешь, что у Татьяны Андрониковой произошло… кровоизлияние. Геморрагический инсульт. Сопровождается быстротекущей необратимой деструкцией. Что перед тем, как впасть в кому, она очень волновалась за судьбу Василины и как раз подписала все необходимые бумаги. О том, что я – живая, знать будем только мы с тобой и твои ассистенты. Ты уж постарайся, чтобы они не слишком распространялись. Бумаги я подпишу. Все, какие нужно.
Никита встал.
– Андроникова, ты… ангел смерти какой-то.
– А ты, Сонин, экспериментатор. И я буду твоим новым экспериментом.
– Не рассчитывай… на многое.
Через четыре дня я лежала на узком неудобном операционном столе, и прозрачная маска готовилась накрыть мои нос и рот. Близко-близко стоял второй стол, от тела под тонкой простынкой, тянулись короткие и длинные провода. В ту секунду, когда аппараты констатировали смерть, маска опустилась.
До сих пор не представляю, как Никита убеждал Аркадия. Но я почему-то очень хорошо представляю самого Аркадия. Вот он сидит, глаза не смотрят на собеседника, они смотрят в угол, будто силятся узреть там незримое, найти ответ на вопрос, разорвавшийся внутри. Волосы чуть спадают на лоб, крылья носа неподвижны и грудь почти не приподнимается, словно человек не дышит. Дышит… просто дыхание слишком легкое, его нет здесь, оно осталось там, в реанимационном зале с голубыми стенами, у стандартной больничной кровати. Он дышит за нее, он вдыхает в нее свою жизнь. Вдохнул бы, если б мог.
– Вы ничего не можете сделать для них? – спрашивает он. – Ни для Лины, ни для Тани?
– Нет, – хмуро и строго отвечает Никита.
– Я должен дать ей уйти спокойно. Им обеим.
– Ты можешь (он произносит слово с нажимом) сохранить ее.
– Но это будет не она… не Лина… и не Таня…
– Это будет ее мозг. Ее мысли. Ее воспоминания. Может быть, часть души… Ты веришь в бессмертие души? Нет? Тогда тем более. Да, в некотором смысле, это будет она.
– Я не могу принять такое решение.
– Просто знай, что оно есть.
– Обманка…
– Попытка.
– Невозможно.
– Достижимо.
– Сложно.
– Да.
– Я… подумаю.
– У тебя есть два дня. Может быть, три…
Аркадий молчал всю дорогу до дома. Молчала и я. Нет, он десять раз спросил, удобно ли мне, не трясет ли, не больно ли; сам посадил, пристегнул… но мы молчали. Я не тяготилась этим, я понимала – так должно быть. За три месяца моей реабилитации он ни разу даже не приблизился к двери в палату. Никита выдал: приходил каждый вечер, спрашивал о моем состоянии и минут сорок стоял во дворе под окнами. Это я тоже понимала. Он боялся взять меня за руку, боялся задать вопрос, боялся разрушить иллюзию… Страшился собственного решения и страшился меня – нового чудовища Франкенштейна. «She’s alive! She’s alive!»
Я поднялась по знакомым, теперь уже дважды знакомым, ступенькам, Аркадий открыл «нашу» дверь. Дыхание замерло. Никита предупредил, что при столкновении с привычными для Лины предметами воспоминания будут пробуждаться спонтанно. Но… не нахлынуло.
Это как… уехать надолго, а потом возвращаешься в квартиру, и она будто не твоя. И обои какие-то другие, и сразу видно, что шкафчик в кухне пора менять, и ламинат под вешалкой протерся. А еще ощущение пустоты и легкий запах пыли.
Пыли здесь не было, но, шагнув внутрь, я ощутила… как объяснить?.. потоки… тепло и холод. Тепло – дорожки, бегущие оттуда, где еще двигалась жизнь; холод – места, где три месяца назад она покинула дом. Дорожки тепла узкие: гостиная – диван, кабинет – компьютер, кухня – холодильник. И много мест с тончайшей изморозью на стенах и полу: присутствия хозяев нет в дальней комнате и той, что сразу направо, – спальне.