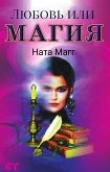Текст книги "Дети Хедина (антология)"
Автор книги: Наталья Колесова
Соавторы: Ник Перумов,Ольга Баумгертнер,Аркадий Шушпанов,Ирина Черкашина,Юлия Рыженкова,Дарья Зарубина,Наталья Болдырева,Сергей Игнатьев,Юстина Южная,Мила Коротич
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
– Наноносителях, – поправил Джозеф автоматически.
– Один черт, – махнул рукой док. – Я мог бы сделать неплохой бизнес… В первые недели две. – Глубоко вздохнув, он поглядел с укоризной. – Цивилизация многое потеряла вместе с крахом патентной системы.
Джозеф не знал, что это.
– Ты тоже оттуда? – спросил он.
– Будь я местным, разве я стал бы помогать тебе?
– Иншаа-ла, – ответил Джозеф.
– Не понял?
– На все воля Аллаха, – пояснил он, толкнув тележку дальше. – Если я выжил, значит, Ему не угодна моя смерть.
– Джус витае ак несис [12]12
Право распоряжаться жизнью и смертью.
[Закрыть]. – Хмыкнув, док зашаркал следом.
– Что? – бросил Джозеф через плечо.
– Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку, – загадочно ответил док. Джоз не рискнул расспрашивать дальше, боясь окончательно запутаться. Так было всякий раз. Док как будто говорил на другом языке, и хотя все слова его были понятны, редко когда из них удавалось извлечь смысл.
Они молча шли по узкому, бесконечному коридору, и Джозеф поглядывал уже на ушедшего в себя дока, опасаясь, что тот не читает больше названий на корешках и им придется возвращаться, чтоб отработать стеллаж заново. А у него уже болела спина.
– Приближается время служения в храме, – сказал Джозеф, остановившись.
Док поднял на него бессмысленный взгляд.
– Ритуалы проводятся в городе, прямо в нашем… доме хранителей, в любое время, как только возникнет необходимость. А церемонии – перед приходом Юго-Западного ветра. Он дует пятьдесят дней, неся с собой тучи пыли. Его называют Хамсин.
– Я мог бы сделать такой бизнес, – повторил док печально. – Что ты тут говорил?
– Нам надо уходить отсюда, док. Уходить до того, как ветер принесет песок из пустыни.
– Ты думаешь, я не хочу уехать отсюда? – Док сощурился зло. – Да я все деньги вбухал в эту экспедицию. Думал, поеду на юг, буду торговать себе потихоньку, пока не умру. А эти дикари, прячущие лица под повязками! Они уничтожили мой товар! Разбили все флаконы до последнего и увели верблюдов!
Его пухлые щеки тряслись от негодования, слюна брызгала с губ.
– Это сделали люди твоего отца!
Выплеснув злость, он снова стал маленьким, сальным, обрюзгшим человечком.
– …Неплохую монополию вы организовали тут.
– Док Уильям Эвери. Я дам тебе денег на покупку верблюдов. А еще я отдам тебе столько своей крови, сколько понадобится, чтобы вернуть все потерянные тобой средства.
– Можешь не утруждаться, – усмехнулся док. – Я просто налеплю новые этикетки. «Нано эликсир Эвери»! Разницы особой не будет. Я правильно понимаю?
– Да, – ответил Джозеф, опуская взгляд. Ему было очень стыдно.
* * *
– Док Билл Эвери? – спросил он, когда дряблый, обрюзгший человек, прикорнувший на жестком, неудобном стуле напротив, пошевелился наконец и открыл глаза.
Человек приподнял воображаемую шляпу.
– А ты младший мальчишка старика Джейкоба? Очень похож.
– На кого? – спросил Джозеф, зная ответ.
– На отца и старшего брата, я видел их во время последнего ритуала.
Закряхтев, док Эвери выпрямился на стуле, повел плечом.
– Хотя, ей-богу, сейчас тебя не узнает и родная мать. Но эта форма черепа, скулы, надбровные дуги, ось, так сказать, фронтале [13]13
Лобная кость.
[Закрыть]… А фонте пуро, пура дефлюит аква! [14]14
Из чистого источника чистая вода и вытекает.
[Закрыть]– завершил он, подняв палец. И добавил, прочтя непонимание в глазах собеседника: – Добрая ветвь доброго дерева.
Встал, потрепав по макушке, словно ребенка. Шаркая, побрел к ржавой, покосившейся раковине в самом углу. С натугой открутив вентиль, набрал кружку воды. Принялся жадно пить.
Джозеф сглотнул невольно.
– Я… сильно пострадал?
– О!
Док выплеснул остатки воды, ополоснул кружку и, налив еще, вынул из кармана грязный плоский флакон.
– Ничего такого, с чем не смог бы справиться «Волшебный эликсир Эвери»! – сказал он, выдрав зубами пробку.
– Вы шарлатан, – ответил Джозеф, чувствуя, что краснеет.
– Да ну?
Прищурив глаз, Эвери следил, как одна за другой падают в кружку мутно-желтые капли.
– Может, мне не стоило лечить тебя в таком случае? Говорят, носитель нано может исцелить себя сам.
– Наноноситель никогда не болеет, – ответил Джозеф тихо.
– Именно поэтому тебя столкнули с обрыва? …двадцать пять.
Закончив, док Эвери подошел, сел на край его койки, продавив скрипучие пружины так, что Джозефу показалось, будто он падает. Снова.
– Пей. Горькая как полынь, но если выпьешь все, я, так и быть, разведу тебе супу из концентратов.
– Я не хочу есть, – сказал Джозеф.
– Тогда придется кормить тебя силой.
Широкая мозолистая ладонь приподняла его голову, и край кружки коснулся губ.
– Пей.
Он послушно глотнул. Напиток был не горче, чем сабур [15]15
Застывший сок алоэ.
[Закрыть]. Он выпил все до дна, не поморщившись.
* * *
Иногда ему казалось, что все это было не с ним.
Он снова, как и много месяцев назад, сидел на ступенях храма. Вот уже третий день он выходил и сидел тут. Солнце не жгло, грело, позволяя валяться на ступенях до самого вечера. Ему казалось, что сила вливается в него вместе с солнечными лучами. За эти три дня он научился ходить почти не приволакивая ногу. Они поедут верхом. Далеко-далеко на север. Его пугала эта поездка, он мог не пережить ее, но пройдет еще неделя, другая, и на площадь перед храмом мертвого города начнут стекаться толпы. Выплеснутся за ее пределы, разбредутся по широкой паутине улиц. Целый день под холодным мартовским солнцем будут молиться они, обратив лицо на восток, а с приходом ночи зажгут факелы, начав церемонию.
Его отец выйдет из храма, отворив вены, как при кровопускании. Кровавая цепочка протянется вниз, по ступеням, оросит очищенный от песка камень прежде, чем кровь тонкими струйками потечет в огромную чашу посреди площади. Рабы, не имеющие собственности, чтобы оплатить ритуал, будут потом тайком приходить и лизать плиты, на которые падали капли крови Наноносителя, веря в чудесное исцеление от болезней. А пока они откроют ключи, выпустив воду из неиссякаемых источников. Бросится к чаше изможденная дневною молитвой толпа, и настанет время танцев и песен под звездами.
Дрожь прошла по плечам Джозефа. Он поднял взгляд, заметив, что солнце уже коснулось краем барханов. Вечер принес прохладу, а ночь обещала быть ледяной. Вынув из кармана, в который уж раз он развернул орошенный его кровью листок.
Текст, выписанный каллиграфическим шрифтом, строился в идеально ровные колонки. Одна из них была обведена красной, неровной и толстой чертой. Рядом на полях стоял восклицательный знак. Он снова пробежался взглядом по строчкам, которые знал уже наизусть.
« Крупное мошенничество вскрыла плановая проверка качества выпускаемой фармакологической продукции. Суду еще предстоит выяснить, что заставило всемирно известную корпорацию НаноРоботикс максимально удешевить производство, изъяв из ряда дорогостоящих лекарств их основной компонент – наномашины, выполняющие контроль над биологическими системами человека на молекулярном уровне. Вся продукция корпорации отозвана со складов. До завершения расследования не представляется возможным сказать, как долго смертельно больные люди отдавали деньги за эти пустышки и как скоро был бы обнаружен обман. Благодаря так называемому «эффекту плацебо», а также безграничной вере в могущество новых технологий, в состоянии ряда больных наблюдалось сильное и стабильное улучшение».
Закрыв глаза, он покачал головой. Вздохнул и, запахнувшись плотнее в куртку верблюжьей кожи, задремал. Сегодня он хотел дождаться дока.
– Вставай. Эй! Вставай, Джозеф! – Док говорил громким шепотом.
Это разбудило лучше, чем крик.
Он распахнул глаза.
– Глянь-ка, кого я привел, – сказал док и отодвинулся в сторону.
За его спиной стоял, склонившись в поклоне и прижав руку к сердцу, человек пустыни. Белая ткань скрывала его лицо, и все равно Джозеф вздрогнул.
– Давай, – приглашающее махнул рукой док, – расскажи ему обо всем, что случилось.
Человек в белом бурнусе не шелохнулся.
– Говори, – велел ему Джозеф на своем родном языке.
Тот выпрямился, встретившись с ним взглядом.
– Мой господин, – начал он, – иншаа-ла. Ты жив, хотя должен был быть мертв. А твоя семья и город, в котором ты родился и жил…
Что-то оборвалось в груди. Невольно он прижал руки к сердцу.
– Да, мой господин, – продолжил кочевник, – печальные вести принес я тебе. Твой старший брат разбился вскоре после твоего посвящения, упав с коня на скачках, а у твоей сестры случился выкидыш. Плод ее греха был так ужасен, что ее побили камнями, зарыв по горло в песок. После разум покинул другого твоего брата. Твой отец закрыл двери в свой дом, и больше не было ритуалов в молельной комнате, и никто не лечил больных. Когда луна трижды обновила свой лик, случилось первое убийство. Фархад, торговец верблюдами, прервал игру в нарды, сославшись на головную боль… Больше голова его не беспокоила. Потом убийств уже никто не считал.
Джозеф не верил своим ушам. Все плыло, будто он перегрелся на солнце.
– И тогда люди пошли к дому отца твоего и просили простить их за смерть дочери. Он вышел к ним, отворив вены, и шел по улицам, покуда не истек кровью, и люди ползли следом, слизывая капли вместе с песком. А когда он упал наконец, то проклял всех, испивших его крови.
Кочевник замолчал, и Джозеф увидел вдруг, как тот дрожит, словно щенок, забытый на улице холодною ночью.
– Их смерть была воистину ужасна.
– Мой брат, – прошептал Джозеф, не узнавая собственного голоса. – Он жив еще?
– Да, мой господин. – Кочевник вновь замолчал на три удара сердца. – Его поят и кормят.
Джозеф опустил взгляд.
В его кулаке трепетала, терзаемая резким ночным ветром, сложенная вдвое бумага. Он разжал ладонь, выпустив ее, и та понеслась, шурша по плитам площади. Он перевел взгляд на дока Эвери, внимательно изучавшего его лицо.
– Много больных в городе? – спросил Джозеф.
– Да, мой господин, – ответил кочевник.
– Что скажешь, Эвери? Ты сможешь помочь мне?
– Фраус меретур фраедум [16]16
Обман порождает обман.
[Закрыть]… – ответил док тихо.
– Док!
– Я видел этих людей, Джозеф.
Оглянувшись на кочевника, док шепнул одними губами:
– Они лишь думают, будто больны, мальчик.
Док взял его руку, сжал ладонь между ладоней.
– Без тебя мне не справиться.
– Это будет в первый и последний раз, – сказал Джозеф. – Ты слышал?! – крикнул он кочевнику. – Больше никаких ритуалов! Никаких чудесных исцелений в молельной комнате! …никаких Наноносителей.
– Мой господин, вы исцелите город?
– Иншаа-ла гадан [17]17
Завтра будет видно.
[Закрыть].
Незадолго до прихода горячего ветра пустыни из-под храмовых сводов на ступени невысокой лестницы вышел, чуть приволакивая ногу, последний Наноноситель. Плечи его гнулись, будто сведенные судорогой, голова неловко сидела на скособоченной шее, сломанный нос и змеистый шрам во всю щеку украшали лицо. Только волосы, того же пшеничного цвета, что у отца и старшего брата, развевались, подхваченные резкими порывами иссушенного, спертого воздуха.
Ниже под ступенями, ведущими к храму, под низким бежево-серым небом лежали павшие ниц люди. За их спинами касался краем барханов раскаленный солнечный шар.
– Иншаа-ла, – сказал последний Наноноситель, и площадь ответила вздохом.
Произнесенные вполголоса слова прокатились, умноженные сотнями голосов. Он снова замолчал, пока не услышал, как шуршит перекатываемый ветром песок да хлопает пола бурнуса кочевника, замершего в тени невысокого дома.
– Сотни лет мои предки жили здесь, не принимая вашей веры, но расплачиваясь за ваше гостеприимство кровью и чудесным даром исцеления. – Он снова смолк, ожидая, пока уляжется гул людских голосов. – Сегодня я…
Он откинул полу куртки, вынимая из внутреннего кармана завернутый в кожаный чехол инструмент своего отца. Обнажил ланцет, не спеша пускать его в дело.
– … Джозеф, сын Джейкоба, в последний раз проведу для вас Церемонию.
В этот раз ждать пришлось дольше. Рябь прошла по площади, когда люди приподнимали головы, взглянуть на него украдкой.
– Я в последний раз проведу для вас Церемонию, – повторил он тише, заставив гул голосов смолкнуть, – и стану Эрбаби-иман [18]18
Человек веры, правоверный.
[Закрыть]. Как и вы.
Лезвие сверкнуло в лучах заходящего солнца, когда он отворил вены, и кровь, запузырившись, побежала по ладоням, закапала с пальцев на ступени.
Пошатываясь и приволакивая ногу, он сошел по ступеням храма и двинулся по узкому проходу меж распластавшихся на земле людей к огромной каменной чаше в центре площади.
Имам Махди стоял рядом, готовый дать знак рабам. Сухие тонкие пальцы пощипывали редкую бородку.
Чувствуя, что не рассчитал силы и время, Джозеф прибавил шаг, спеша опустить кровоточащие руки в чашу. Док поднялся навстречу, готовый перевязать его раны.
Когда последний Наноноситель упал, навалившись грудью на высокий борт, свесив безвольные, немеющие кисти в растрескавшуюся полусферу посреди главной площади мертвого города, имам Махди взмахнул рукой, приказывая повернуть рычаг, и ледяная вода ударила тугою струей, смыв кровь с покрасневших ладоней.
– Ну что же ты, – сказал док, осторожно усаживая его под бортом заработавшего фонтана.
– Никто не учил меня, – ответил Джозеф, слабо улыбаясь.
– Не хватало еще, чтобы ты повредил себе сухожилия.
Док скоро перетягивал его руки жгутом.
Джозеф устало прикрыл глаза.
Тишина разлилась над городом. Ни одного радостного крика не пронеслось над домами. Лишь шелест тысяч ног да шорох одеяний нарушали всеобщее безмолвие. В ожидании проблеска первых звезд сгустился сумрак. Низвергалась к ночному небу и падала с шумом вода.
– Мой господин?
Джозеф поднял голову навстречу темному внимательному взгляду.
– Не губи цветов надежды, и соберешь плоды веры, мой господин, – сказал имам Махди, все так же пощипывая бороду.
– Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его, – ответил Джозеф. – Доктор Уильям Эвери, – обернулся он к доку, – ты не откажешься открыть здесь свою клинику и взять меня к себе учеником?
Переглянувшись, док Уильям Эвери и имам Махди одновременно кивнули.
Дарья Зарубина
Весенний трамвай
Март уже перевалил за середину, а весна все не наступала. Уже бежала в разломах асфальта талая вода, и солнце сверкало в ней пронзительно и ярко. Но весны не было. Весны, голосящей, как счастливая канарейка, шумной, докучливой, вечно молодой весны. Март молчал, словно заживо погребенный, изредка отчаянно вскрикивая автомобильными сиренами и граем прилетевших грачей. Март молчал, и Мика никак не понимал, почему.
Ему вдруг подумалось, что это от возраста. Что, в конце концов, ему совсем недавно стукнуло сорок. И, вполне возможно, он наконец-то перестал быть Микой и повзрослел, и теперь весна навсегда замолчала для него, как и для тысяч других спешащих взрослых.
Михаил подошел к остановке и по привычке бросил взгляд на рельсы и провода и приготовился ждать, недоуменно разгоняя ботинком комья тающего снега, мокрой ватой громоздящиеся в лужах. Мимо прошел крупный, одетый в ватную куртку дворник, но, оглянувшись, сделал пару шагов назад и постучал Мику по плечу.
– Ты че, мужик, иногородний? – спросил он участливо. – Давно у нас не был?
Мика поднял голову, с трудом выныривая из собственных мыслей.
– Ты тут зря стоишь, – продолжал дворник, – трамвая не будет.
– Долго? – спросил Мика.
– Никогда, – резюмировал дворник и ухмыльнулся: – Сняли трамваи. Завтра рельсы убирать начнут. Ты что, телевизор не смотришь? Объявляли же…
Телевизор Мика действительно не смотрел, потому что телевизора у него не было. Скучно было тратить время на перелистывание программ. А свежие новости с неизменным удовольствием рассказывала бабушка. И, надо сказать, в ее выпусках новостей был один очень значимый плюс – бабушка всегда пересказывала только хорошие новости. Возможно, поэтому Мика был единственным человеком в этом городе, который не знал о беде.
Трамваев больше не будет. Новость обрушилась на него как лавина. И сразу стало понятным погребальное молчание марта и мучительное опоздание весны. Трамваев не будет. Не будет гудения влажных рельсов, хрустального звона проводов, веселого громыхания колес, не будет монотонного пения вагонов, и дрожания, и пульса.
Мика отошел от остановки и побрел в сторону вокзала, чтобы поймать автобус. Маленький душный загазованный автобус, медленный и неопрятный, как арба, колышущийся из сторону в сторону на каждом повороте и неприлично стонущий от привычной жестокости водителя. Разве мог этот дурно пахнущий, едва ворочающий шинами мул сравниться с породистой грацией трамвая, с металлическим цоканьем гарцующего по городу, на длинных промежутках пути пускающегося в звонкий упоительный галоп.
Мика любил трамваи с детства. Того самого раннего солнечного детства, когда любовь не требует доказательства и ответа. Из-за этой любви он поступил на исторический факультет и даже написал диссертацию, посвященную роли трамвая в истории города. Пожалуй, это могло бы показаться странным. Как человек, помешанный на скрипке, который поступает не в музыкальное училище, а идет в искусствоведы, потому что не хочет играть на скрипке, он просто хочет знать о ней все. Мика никогда не думал становиться водителем трамвая, он хотел писать о трамваях. Собирал материал, проводил дни в депо. Однако диссертацию так и не защитил. Как-то не пришлось. Как не пришлось жениться, завести детей, обзавестись какой-нибудь более-менее стоящей профессией. Но любовь к трамваям осталась. Любовь к трамваям, которых больше не будет.
Михаил выскочил из автобуса с неприличной для взрослого, уже немного раздавшегося в талии мужчины резвостью и быстро пошел в сторону кованых ворот дома престарелых. Из невысокого, посеревшего от времени здания, как осенние сморщенные горошины из лопнувшего стручка, высыпали старики. Они разбредались по своей щедро отмеченной неустанной работой времени территории. Рассаживались на скамейках, рассыпали по столам черное в белых оспинах домино, разматывали бесконечные носки и шарфы, нещадно нанизанные на спицы. Бабушка уже ждала, прохаживаясь вдоль ограды и слегка приволакивая правую больную ногу. По морщинкам в основании круглого курносого носа и заложенным за спину рукам Михаил догадался, что бабушка была встревожена его опозданием.
– Мика, ты задержался, мой дорогой, – пробормотала она, опираясь на его руку и поглаживая внука по предплечью.
– Сначала пошел на трамвай, – оправдываясь, произнес Мика, но бабушка не позволила ему закончить, настойчиво потащив в сторону заросшей беседки. Летом беседка утопала в зелени, но сейчас, в середине марта, это был лишь мертвый белый остов, опутанными коричневыми змеями прошлогоднего вьюна.
– Мне необходимо, чтобы ты встретился с одним человеком, Мика, – наставительно произнесла бабушка, пресекая любые возражения. – Возможно, он покажется тебе немного настойчивым, даже странным. Но я прошу тебя, ради меня, выслушай все, что он скажет. Ты ведь обещаешь мне? Обещаешь?
Мика пожал плечами в знак молчаливой капитуляции, и бабушка улыбкой поблагодарила его. По всей видимости, она явно не ожидала такого быстрого согласия. Мика всегда любил стариков, и бабушка без зазрения совести пользовалась этой любовью, отдавая внука на съедение своим многочисленным приятелям и приятельницам, которым в момент душевного кризиса был необходим внимательный и, желательно, молодой слушатель. Слушатель, способный искренне удивляться, выслушивая километры давних историй, поросших мхом уточнений, дополнений и легкого художественного вымысла. Свои из дома престарелых на эту роль никак не подходили, поскольку уже без малого лет тридцать как совершенно потеряли способность к удивлению. К тому же все истории были уже по нескольку раз рассказаны и перерассказаны, отчего возможность снабжать их новыми душераздирающим подробностями практически сводилась к нулю. Мика удивлялся живо и охотно, за что был искренне любим бабушкиными друзьями и подругами. А поскольку и ему самому общение со стариками приносило массу приятных впечатлений, он мог без всякого сожаления потратить несколько минут на то, чтобы посидеть в беседке с новым другом бабушки, пусть даже странным и настойчивым.
Однако Мика никак не ожидал, что старичок в свои немалые годы окажется настолько настойчив. Он налетел, как вокзальная гадалка, не позволив Михаилу даже самостоятельно представиться.
– Михаил Витальевич?! – Старичок схватил правую руку Мики и решительно тряхнул. – Ваша бабушка много рассказывала о вас. И чаще всего хорошее, поэтому позволю себе отрекомендоваться без лишних церемоний. Моя фамилия Лазарев. Василий Игнатьич Лазарев.
– Тот самый Лазарев? – переспросил Мика, оглядывая старичка с выцветшей льняной кепки до стоптанных коричневых штиблет.
– Тот самый, – торжественно ответил Василий Игнатьевич. – Хотя, мой дорогой друг, нас с вами разделяет такая разница возрастов, что я не вполне могу быть уверен, что мы имеем в виду одно и то же.
– Вы тот самый В. И. Лазарев, которого благодарит в своих книгах профессор Грабисов? Я думал, вас уже давно нет в живых! – Услышав тактичное покашливание бабушки, Мика осекся, но старичок нисколько не обиделся, а только с сожалением пожал плечами:
– Пожалуй, в чем-то вы совершенно правы, мой юный друг. Тот Лазарев. Молодой, тридцатипятилетний, безумно влюбленный в трамваи, который, отработав смену, гонял пыль по архивам вместе с Иваном Грабисовым, уже давно мертв. Да, когда-то я был лучшим водителем трамвая в этом городе. Когда-то, когда трамваи еще были нужны людям, я тоже был нужен. Теперь уже нет…
– Но ведь ты ни о чем не жалеешь? – спросила бабушка с надеждой, но Лазарев покачал головой и ответил:
– Жалею, Люсенька. О многом жалею… – Он потер ладонью коричневую шею над воротом соколки и снова посмотрел в глаза Мике. – Однако я попросил вашу бабушку организовать встречу с вами не затем, чтобы обсуждать мои сожаления, а для того, чтобы не умножить их в будущем. Вы ведь, Михаил Витальевич, уже знаете, что с сегодняшнего дня трамваев не будет?
– Знаю, – с тяжестью на сердце отозвался Мика.
– И вы наверняка знаете, что это такое? – Старик протянул Мике с сильным нажимом выведенный на желтоватом от времени тетрадном листке сложный, похожий на иероглиф знак.
Мика мгновенно узнал его, как узнал бы, будь даже разбужен глубокой ночью или в полной темноте наткнувшись на него в путанице линий древнего барельефа.
– Схема трамвайных путей, – ответил он без колебаний.
– Старая схема путей, – наставительно поправил Лазарев. – Как вы видите, здесь отсутствуют ветки шестого и восьмого маршрутов, которые появились значительно позже, уже в восемьдесят первом и восемьдесят четвертом.
– Восемьдесят пятом, – в свою очередь поправил Мика. Лазарев досадливо покачал головой:
– Возможно. Вполне возможно, – пробормотал он, извиняясь. – Мне, мой юный друг, уже восемьдесят восемь. В таком возрасте цифры иногда берут верх над памятью. А знаете ли вы, что это такое?
И Лазарев вытащил из нагрудного кармана другой листок, чуть меньше, густо изрисованный арабскими буквами. На первый взгляд листок напоминал кривовато отксерокопированную страницу из учебника по русскому языку для иностранных студентов, но, присмотревшись, Мика понял, что русские слова были вписаны черной шариковой ручкой, но настолько ровно и мелко, что издали ничем внешне не выделялись из остального текста. Но самое главное, в центре листа, окруженный крючками и точками совершенно незнакомого Мике языка, был довольно точно изображен тот же причудливый знак.
В ответ на невысказанный вопрос Лазарев прищурил выцветшие голубые глаза и ткнул корявым, желтым от никотина пальцем во второй рисунок:
– Этот документ, мой дорогой друг, как вы наверняка догадываетесь, не имеет никакого отношения к истории трамвая. Это, в сущности, даже не документ. Скорее, почти документ… Документ, но… – старичок замялся, мучительно подбирая слова. – В общем, это ксерокс с антикварного издания одного старинного сборника арабских сказок.
– И там указано назначение этого рисунка? – торопливо спросил Мика. И этой неприличной торопливостью вновь заслужил укоризненный взгляд бабушки, которая, казалось, совершенно не вслушивалась в разговор, а занимала себя тем, что наблюдала за внуком, уже давно не надеясь на его природный такт. Похоже, эту историю она слышала не однажды. И, судя по всему, находила в ней рациональное зерно. Мика доверял бабушке. А значит, мог принять в качестве достойного доверия документа кривую ксерокопию труда кого-то из последователей, а возможно и предшественников Шахерезады.
Лазарев же был поглощен бумагой, словно видел ее впервые. Он не заметил ни бестактной торопливости Михаила, ни грозного взгляда Люсеньки. Старик водил пальцем по линиям рисунка и щурился, стараясь разобрать пометки на полях.
– Согласно сказке, этот знак способен удерживать в заточении некоторые древние разрушительные силы, – многозначительно, с расстановкой произнес он.
– Им что, джиннов в бутылки запечатывали? – пошутил Мика.
– Если бы джиннов… – сокрушенно покачал головой Лазарев, недовольный его легкомысленным тоном. – Этим знаком запечатывали значительно более странных существ, если так можно говорить по отношению к ним. Они были уздой для сил, удерживающих время.
– Вы так страшно об этом говорите, – засмеялся Мика, – словно они заживо сжирают целые этносы. Что же плохого в том, чтобы удержать время? Я бы, например, не прочь немножко отмотать назад, лет на двадцать-тридцать…
Лазарев нахмурился, на его лице отразилось какое-то странное выражение недоверия и удивления, какое бывает порой у очень суеверных людей. Он быстро глянул на бабушку, но та казалась совершенно безучастной и утратившей интерес к разговору. Лазарев придвинулся ближе к Мике, схватив его за запястье сухой, расчерченной синими жилами рукой:
– Поймите, Михаил Витальевич! – возбужденно заговорил он, переходя на шепот. – Они не замедляют время. Они останавливают его. Замыкают в одном бесконечном неподвижном мгновении. Без жизни. Без истории. И, поверьте мне, это мгновение не имеет ничего общего с тем, в котором существуем мы с вами.
– Вы что же, – поморщился Мика, – хотите сказать, что вдруг вылезет из-под земли какая-нибудь тварь, расщепит нас всех на атомы и устроит себе тут коммунизм в отдельно взятом городе? И все эти далеко идущие выводы вы сделали, опираясь на совпадение рисунка трамвайных линий нашего города с магическим знаком из книжонки арабских сказок затертого года?
Мика засмеялся и махнул рукой. Но Лазарев и бабушка смотрели на него неодобрительно и серьезно.
– Ты обещал мне выслушать все, – наконец напряженным голосом проговорила бабушка, пристально глядя внуку куда-то в переносицу, отчего по спине Мики, как в детстве, пробежал холодок.
– Так это еще и не все?! – стараясь по-прежнему казаться веселым и уверенным в себе, воскликнул Мика, но сам тут же почувствовал, что особой уверенности в его голосе не прозвучало.
– Сядь и слушай, Мика! – отрезала бабушка, строго сжав губы, и Михаил повиновался, даже как-то обмяк, хотя внешне еще старался показать, что он взрослый, сорокалетний мужик, способный настоять на своем, но ради родственных чувств готовый выслушать маразматические бредни назойливого старикашки.
Бабушка фыркнула и, медленно и тяжело поднявшись со скамьи, вышла из беседки.
– Чтоб тебе было свободней, – язвительно произнесла она через плечо и, шаркая туфлями, двинулась в глубь парка, постепенно обходя все скамейки, густо усаженные старушками. Бабушкины подруги, все в выцветших до сизого и серого шерстяных платьях, вязаных шалях, смешных пальто и плотных коричневых чулках, явственно напоминали голубей. Приближение бабушки к каждой скамейке вызывало в группах седовласых голубиц взрывы сдержанного приветливого воркования. Видимо, сидящие расспрашивали о новостях в большом мире. Бабушка только отмахивалась, изредка сердито поглядывая в сторону беседки.
Лазарев и Мика некоторое время смотрели ей вслед.
– Она, похоже, вам верит, – наконец с изумлением в голосе пробормотал Мика, заглядывая старику в глаза, и Лазарев кивнул.
– Она мало кому доверяет, – добавил Мика, и старичок снова склонил голову, соглашаясь.
– Значит, у меня тоже нет поводов вам не верить. В конце концов, единственное, чем я рискую, так это тем, что буду выглядеть дураком. Но, надо признаться, это меня мало волнует. За сорок лет я так и не сумел сделать себе имидж умного человека, и, похоже, начинать уже поздновато.
Лазарев снова кивнул, но Михаил не заметил этого, потому что пододвинул к себе разложенные на скамейке листки и принялся внимательно всматриваться в рисунки.
– Значит, вы серьезно полагаете, что под городом что-то есть, – задумчиво проговорил он, постукивая пальцами по серой от дождей доске скамьи. – Силы, способные обернуть время вспять. И насколько?
Старик потер пальцами переносицу и задумчиво посмотрел сквозь собеседника, обдумывая ответ:
– Я думаю, для этой штуки есть некое оптимальное положение маятника времени, состояние покоя. Поэтому наше сегодняшнее состояние можно принять за отклонение маятника. Следовательно, как только знак будет разомкнут, в месте разрыва время начнет раскручиваться в обратном направлении до нулевой точки.
– Тогда это больше напоминает телегу, которую тащат на гору. Отпустим – съедет вниз, в низину. Потому что если это маятник, то прежде чем успокоиться, он еще и прошлого черпнет, – поправил Михаил. – Только какие у вас есть доказательства?
Василий Игнатьевич не ответил, вместо этого он тяжело поднялся и зашагал прочь от беседки. Мика поспешил за ним. Не говоря ни слова, они вышли за ворота, и серьезный Лазарев направился прямиком в липовую аллею, по обеим сторонам которой шли блестящие полосы рельсов.
– Вот доказательство, – молча указал он. Михаил подошел и уставился удивленно на то, что старик называл «доказательством», – огромный, в два человеческих обхвата пень, еще достаточно свежий, чтобы в деталях рассмотреть годовые кольца. Видимо, дуб спилили на прошлой неделе. Грозный великан мешал честолюбивым градостроительным планам нового губернатора. А пень остался, ждал решения своей участи. Лазарев подошел еще ближе и ткнул пальцем в потемневшую древесину.
– Видишь кольца? – спросил он у Мики так, словно после этой фразы его молодой собеседник должен был все понять, принять и кинуться спасать мир.
– Вижу, – отозвался Михаил, ни капли не понявший и к спасению мира совершенно не готовый.
– Видишь… эти… кольца, – Василий Игнатьевич выразительно глянул на него при слове «эти».
– Ну, – все еще не понимал Мика.
– Ты где-нибудь видел ТАКИЕ кольца?! – грозно спросил старик, раздраженный непонятливостью молодого товарища.
Кольца и впрямь были странные. Точнее – кольцо. По краю шли нормальные, годовые. Потолще – когда лето выдавалось дождливое, потоньше – в засушливый год. Но ближе к середине до самого центра шло одно широкое кольцо, словно все время, пока росло это дерево, зима так и не соизволила наступить.