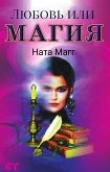Текст книги "Дети Хедина (антология)"
Автор книги: Наталья Колесова
Соавторы: Ник Перумов,Ольга Баумгертнер,Аркадий Шушпанов,Ирина Черкашина,Юлия Рыженкова,Дарья Зарубина,Наталья Болдырева,Сергей Игнатьев,Юстина Южная,Мила Коротич
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
Людмила Минич
Широкими мазками
Ему не следовало приезжать. Это было ошибкой, но Лена написала такое теплое, душевное письмо…
«А я про тебя рассказала ребятам. Удивлялись, спрашивали, какой ты сейчас. С виду мало поменялся, но мы всего минут пять в коридоре болтали…» И дальше в том же духе. Просила не сердиться на маму – это она сообщила его адрес.
«Хорошо хоть только адрес, а не, например, персональный код, с нее бы сталось», – подумал тогда Кирилл, но по мере чтения он ударился в воспоминания и невольно смягчился, даже «поплыл», хотя особого повода ностальгировать не было.
Он редко приезжал в родные места. Только из-за мамы. Та упорно не желала перебираться ни в Сиэтл, ни в Прагу, не забывая, впрочем, регулярно жаловаться, что он совсем ее оставил, не желает видеть и вообще «зазвездился». Последнее ему не нравилось больше всего, любимый ею сленг начала века отдавал почти что архаикой. Но это еще ничего по сравнению с желанием до конца своих дней не покидать насиженное место лишь потому, что «здесь остаются могилы дорогих ей людей», то есть отца Кирилла, маминых родителей и еще двух-трех родственников, которые тоже шли в расчет. Наверно, это смотрелось бы вполне уместно в середине прошлого столетия, но никак не нынешнего. С другой стороны, частые разговоры по ГС мало чем отличались от полноценных визитов, разве что потрогать собеседника нельзя, потому Кирилл решил оставить все как есть.
И вот пару месяцев назад маме решили поставить импланты, хотя сердце у нее всегда работало как часы. Или почти идеально. Но мониторинг показал, что важная мышца мало-помалу изнашивается, необходима плановая, ничем не примечательная операция – и все восстановится. Ближайшие восемь лет – с гарантией, а если повезет, то и десять-двенадцать. Пришлось всеми правдами и неправдами отложить дела и срочно лететь домой. И надо же, в Центре сердца он встретил Лену Самойленко.
Не узнал ее в белом халате, зато она его – сразу. Разговор получился короткий, почти на ходу. Кирилл преувеличенно интересовался ее жизнью, чтобы самому избежать допроса, вяло обещал как-нибудь состыковаться, потом воспользовался тем, что она спешила, исчез, в тот же день улетел и почти забыл о встрече.
Но Лена не забыла. И это приятно. Обычно бывшие одноклассники растворяются в пространстве сразу после аттестата. А ведь когда-то, до Конвенции, все было иначе. Кирилл слышал, что в самом начале соцсетей поднялся редкостный бум: люди стремились в свою прошлую школьную жизнь, раскапывали, находили. Трудно сейчас поверить, но мама подтверждает, что это чистая правда. Она сама любила подолгу «зависать», болтая с бывшими одноклассниками, похваляясь, перемывая всем косточки и ударяясь в бесполезные воспоминания. А после двадцатого года все постепенно сошло на нет. Кирилл родился в двадцать первом, сразу после Конвенции. Он жил в другом мире, и этот мир нравился ему гораздо больше. Кто бы что ни говорил.
И вот письмо. Если бы оно пришло неделю назад, Кирилл бы спокойно его удалил, но вчера он закончил первичную обкатку очередной своей «гениальной» идеи, был оглушен возможностями, озабочен побочными эффектами и, конечно же, моральной стороной. Как показывает опыт, именно она зачастую отдает тяжелым рикошетом. В общем, ему требовался отдых. Надо отвлечься, успокоиться и через три-четыре дня взглянуть на проблему без лишних эмоций. Нужны были новые впечатления, никак не связанные с работой. Уж отвлекаться так отвлекаться.
Сначала ему показалось, что время для встречи с прошлым не самое лучшее. Валькина годовщина. Но из письма ясно следовало, что за шестнадцать лет очень многое забылось, да и самого-то Вальку по-настоящему уже никто не помнит. Зато ежегодные сборища его памяти для пяти-шести человек до сих пор оставались четко соблюдаемой традицией. Иногда присоединялись «залетные».
Теперь они приглашали Кирилла. И он внезапно решился – новые впечатления вполне можно извлечь из хорошо забытых старых. Кроме того, ему всегда нравились странные совпадения, а случайная встреча с Леной попадала именно в этот разряд.
И пожалел. Письмо читалось так, как будто его желают видеть, будут рады. Оказалось, рада только Лена Самойленко.
На самом же деле Кирилл так легко обманулся, потому что не вспомнил самого важного. Лена всегда была такой… солнечной, что ли. Лучилась мягкостью, вечно разгребала чужие конфликты, мирила случайных спорщиков. Она… всегда все понимала, что бы ни случилось. Она всегда готова была понять. Настолько редкое качество, что Кирилл его больше ни у кого не встречал.
Лена просто решила помочь. Всем сразу. Поверила в то, что время лечит.
Оно лечит только тех, кто этого хочет.
В своем просчете Кирилл убедился еще на подходе к маленькой группке бывших одноклассников. Дежурно улыбнулся одними губами, отвечая их откровенно-оценочным взглядам.
– А вот и наша звезда… – протянул Тимур.
Можно было тут же раскланяться, повернуться и уйти, но обострять и без того напряженную ситуацию и подставлять Лену не хотелось.
Он поплелся вслед за всеми из ухоженного парка в лесную зону. Как только появилось вино, Кирилл понял, зачем забрались в такую глушь, – здесь сохранялись традиции, о которых он давно уже забыл. Пришлось послушно подставить стаканчик.
– Мне чуть-чуть. Только пригубить.
– А что? Здоровье не позволяет?
Вадим с самого начала то ли ссору затевал, то ли просто хотел продемонстрировать чужеродность пришельца.
– Не позволяет, – согласился Кирилл. – Совсем. Но сегодня можно чуть-чуть. За Вальку.
На него впервые посмотрели по-человечески.
– Ну, за его покой тогда. Земля пухом.
Кирилл сделал вид, что тоже глотнул. Старинный ритуал соблюли, потихоньку все разговорились. Как и ожидалось, его расспрашивали мало, друг другом тоже особо не интересовались. Даже на этих коллективных сборищах придерживались неписаного закона невмешательства. Разговор крутился вокруг злосчастного Вальки, по ходу еще и Лиснера – как же без него во всей этой истории, Конвенции «с нечеловеческим лицом». Много лишнего наговорили. Кирилл мешался в разговор минимально, никому ничего не доказывал. Как только начали расходиться, исчез из их жизни без всякого сожаления.
В парке он замедлил шаг, неспешно прошелся по аллее. Теперь можно отдохнуть…
Его нагонял торопливый перестук каблучков.
– Кирилл! Пожалуйста, не обижайся!
Лена чуть не плакала, и он остановился, не стал отговариваться, ссылаясь на дела. Она ведь ни в чем не виновата. Она хотела как лучше.
– Да все нормально, Лена. Какие обиды.
– Не знаю, что на них сегодня нашло!
– Лена, я правда не обиделся. Видишь, абсолютно спокоен. Не притворяюсь нисколько. Ужасного ничего не случилось. Это тебе нужно прийти в себя.
Она перевела дух. И все равно не поверила.
– Сядем?
Кирилл пожал плечами.
– Как хочешь.
В молчании дошли до скамейки, молча сели. Лена несколько раз порывалась что-то сказать, но в самый последний момент не решалась. Наконец не сдержалась:
– Ты их тоже должен понять… Ты понимаешь… Ну, как бы тебе объяснить…
– Я их прекрасно понимаю. Честное слово, – он улыбнулся. – Еще раз повторяю: не обижаюсь. Ни на них, ни на тебя. Тебя, кстати, тоже понимаю. Но если ты хотела нас примирить, то зря. Это все равно что несколько столетий назад мирить христиан и мусульман.
«Вообще-то правильнее было бы сказать «католиков и гугенотов», – подумалось ему. Но вносить поправку Кирилл поленился.
– Ну, это ты… преувеличиваешь. Просто им не повезло…
– Всем сразу? – бросил Кирилл.
– Что?
– Я спрашиваю, всем сразу не повезло? Насколько я понял, никто не собирается сводить счеты с жизнью? Вслед за Валькой.
– Ты зря вот так…
– Я не иронизирую. Я просто ничего о них не знаю, но насколько я заметил, Глузкер и твоя подружка Ксения, они вполне довольны жизнью. И хаяли систему вслед за всеми, за компанию. Вадим… не похож на неудачника, просто зол на всех, и Карл Лиснер здесь совершенно ни при чем. Зоран всегда меня недолюбливал, потому и стремился уколоть, очень грубо и неловко. Но он тоже вполне доволен жизнью. Кто еще? Ты и Тимур. Да, у Тимура что-то явно не сложилось, и теперь он думает, что имеет полное право поливать грязью Лиснера и меня в придачу. Вот насчет тебя… Разрешаешь?
Она неуверенно кивнула.
– Получается, ты всем старалась что-то доказать, чтобы я не очень обижался? Да? Чтобы не чувствовал себя несчастным, лишним и так далее. Встала на защиту. Нашла кучу умных слов, которым сама не веришь, Тимура страшно разозлила. Теперь вон переживаешь. Получается, что это я тебе навредил. Потому что оказался не в том месте. Впредь не повторится.
– Ты… ну… – Лена решительно выдохнула. – Кажется, что все это не с тобой. Как будто ты со стороны наблюдал, вот.
– Частично. Я просто четко формулирую, чтобы мы целый час не сидели и не извинялись друг перед другом.
– Хочешь сказать, что тебе пора? – спросила она резковато.
– Конечно, нет. Лена, теперь я тебя прошу: не обижайся на то, чего не было. Я никуда не тороплюсь, все, что хотел, увидел, уезжаю завтра. Если хочешь поговорить, давай пропустим все ненужное.
– А ты правда на них не?..
Кирилл вздохнул.
– Ты знаешь, с одной стороны, наше общество – система динамичная. С другой – страшно консервативная… или пусть лучше будет инерционная. Парадокс, – он едва заметно усмехнулся, раньше это в голову не приходило. – Вот мировые религии, лет двадцать назад они почти отошли, и как-то сразу, правда?
Лена хмурилась, стараясь понять, к чему он клонит.
– На смену что-то должно прийти. Человечество требует. Я не говорю, что Конвенция – это оно. Нет. Но это… как же лучше сказать… Первая птичка.
– Первая ласточка?
– Угу. Совсем язык забываю. Да, первая ласточка. Другие подходы, другое качество. Я не говорю, что все замечательно, но это есть. Попробуйте сделать лучше, предлагайте! Но вместо этого люди просто делятся. Большая часть делится на принимающих новую систему и не принимающих. Еще есть более гибкие: кто-то сначала не принимает, потом видит в ней свою выгоду, учится использовать систему и переходит в чужой стан. И наоборот.
– Всего четыре типа?
– Вообще-то их пять. Пятые теряются в принципиально новой ситуации, не понимают, что делать. Они действуют ситуативно и становятся похожими на других. Или просто идут ко дну.
– И что?
– А то, что не может быть идеальной системы. Учитывающей абсолютно все. Нужды всех и каждого. Как только решается одна проблема, сразу возникает следующая. Как только появляется что-то новое, пусть даже оно приносит плоды, увесистые, красивые, вкусные, найдется тот, кто начнет выискивать червивости. И привлекать всеобщее внимание, рассказывать, что если бы не было яблок, то не было бы и червяков. А кто-то думает о том, как сделать так, чтобы червяков стало меньше. Вот и вся разница. А кто-то еще должен эту яблоню посадить. Еще больше разница, чувствуешь?
– Это ты про Лиснера?
– И про него тоже.
Все в классе знали, что Карл Лиснер – его кумир, хотя сам ученый погиб еще в двадцать седьмом, когда мальчишке едва исполнилось шесть. Вполне возможно, что глубокое и трепетное увлечение могло бы не состояться, но отец Кирилла всю жизнь посвятил борьбе «с новой, абсурдной Конвенцией». Все этапы этой грандиозной работы, будь то в зале суда или с общественными организациями самого разного толка, бесконечно муссировались дома: с мамой, друзьями, коллегами-юристами, матерыми сподвижниками всех мастей. К концу жизни отец приобрел реноме «неподкупного борца», соответствующий авторитет в определенных кругах и даже подался в политику. Без особого, впрочем, успеха.
С детства в доме постоянно мелькало ненавистное имя Лиснера. Но в школе Кирилла ждал сюрприз: там рассказывали совсем другое! Как и все общество, его небольшой школьный мирок тянулся в разные стороны: кто-то восхищался его отцом, а кто-то просто смеялся. В четвертом классе мальчишка громко повздорил с учителем и решил раз и навсегда доказать целому миру, что его отец занимается полезным и важным делом. С тех пор он начал собирать материал: скрупулезно прочесывал сеть, вытягивал на свет давно похороненные в ее недрах архивы, а потом втянулся, захваченный открывшимися перспективами. Года через два он сам превратился в убежденного сторонника Конвенции, и к школьным скандалам прибавились домашние. Именно тогда он понял: абсолютно все можно представить в каком угодно свете. Доводов за и против всегда навалом.
А началось все с Волны. Так ее называли. Самый пик ее пришелся на страшный две тысячи пятнадцатый. Хотя по-настоящему завязалось все еще в тринадцатом, потихоньку, неявно, и потому очень долго никто не хотел замечать масштабов грядущего апокалипсиса. А потом СМИ вопили, что «конец света» все-таки настал. Подкрался незаметно, приняв форму неудержимой волны суицида, быстро набиравшей обороты. Мало-помалу безобидные брызги превращались в вал цунами. Люди, которые еще вчера порицали самоубийц и с удивлением поводили плечами, вдруг замыкались, изменяли своим пристрастиям и вскоре благополучно следовали на тот свет, словно получив какой-то сигнал. И далеко не подростки, не старики, уставшие от жизни. Большинство – от двадцати до сорока. Конечно, среди них попадалось немало откровенных неудачников, но гораздо больше тех, кого обычно называют состоявшимися и даже успешными. А еще Кириллу, листавшему сетку, очень часто встречалось выражение «прививка против общества».
Он заинтересовался, начал копать, хотя рыться в недавнем прошлом с каждым днем становилось все неприятнее. Выяснилось, что люди почти всегда оставляли прощальные сообщения, а если нет, то на словах объясняли друзьям или родным причины своего поступка и отключались прежде, чем те успевали что-то предпринять. Они хотели, чтобы их услышали. «Надоело», «жрите сами», «мне скучно», «ненавижу всех», «я больше так не могу», «задолбали», – вот что они говорили. С небольшими вариациями. И вторая часть: «нет смысла жить», «в жизни нет смысла», «мне незачем жить», «никому не нужно, чтобы я жил», «им все равно и мне тоже», «я устал так жить».
Прививка против общества. Мир так и не узнал, кто первым произнес эти слова. И каждый понимал их по-своему.
Вот тогда-то Кирилла и свалила жуткая ангина. Проходила и через несколько дней возникала заново. Потом перешла в воспаление легких с какими-то странными, редкими осложнениями. Он долго провалялся в больнице, вышел почти прозрачный и через месяц попал туда снова. Лечащий врач несколько раз подолгу беседовал с мамой, потом с отцом, и, наконец, в палате появился Олег. Так его представили. Он просидел у Кирилла часа два, тот постоянно плакал и мало что мог объяснить. На следующее утро дело пошло лучше, потом и вовсе на поправку. Именно тогда Кирилл решил для себя: он хочет стать психологом. Как Олег, как Лиснер. Ведь многим, кто оставлял эти страшные сообщения в пятнадцатом, просто не хватало рядом Олега.
Лиснер же был настоящим гением. Пока во всем мире бились в панике, подозрительно посматривая друг на друга, гадая, кто следующий, он разработал новую систему, призванную встряхнуть, удивить, излечить. Мало того, он был гением целых два раза. Потому что не стал носиться во время чумы со своими предложениями, обивая пороги, кривляясь на ток-шоу, до хрипоты ругаясь, доказывая и потихоньку утопая в болоте вместе со всеми. Что и кому можно было доказать во всеобщей истерии? Но Лиснер смог – он подготовился идеально. Ружье стреляет только раз, и он рассчитал свой выстрел с точностью до миллисекунды.
Кирилл много раз перечитывал знаменитые «Письма Лиснера». Ему казалось, что здесь каждому слову, каждой букве отведена своя роль. Иначе как объяснить, что эти коротенькие и простые послания распространялись по сетям, как вирусы. Может, секрет как раз в простоте? В немногословии? В искреннем желании разрешить проблему, а не искать виновных?
Лиснер так и говорил: бесполезно искать виноватых. Человечество зашло в тупик, надо это признать. Пока мы не увидим перед собою стену, мы не сможем ее перепрыгнуть. Надо что-то менять и меняться самим. И это не просто слова – способ есть. И нужно не так уж много: готовность услышать, понять и двигаться всем в одном направлении.
Семь писем день за днем транслировали практически одно и то же, и через неделю люди с разных концов мира взирали на Лиснера как на оракула. А еще они увидели ту самую стену и готовы были в едином порыве ломать ее общим лбом. И главное – в массе своей они поверили, что это нетрудно, все получится. К концу недели Волна отчетливо сбавила обороты.
И что за панацею выдумал Лиснер?
Кирилл окунулся в изучение вопроса через шестнадцать лет после «Проекта Лиснера», он и без того прекрасно знал, какова нынешняя система. В основе Проекта лежала всего лишь реформа образования, к тому же, как любил повторять отец, не слишком оригинальная по сути. Но Кирилл не поленился поднять изначальный текст Проекта, досконально в нем разобрался и до сих пор испытывал восхищение, рассматривая переливающуюся искрами манящую обертку, в которую Лиснер завернул свое детище.
Так же просто и увесисто, как в своих Письмах, он говорил о призвании, о том, что человек не является чистым листом, на котором можно писать что угодно, и в «специальном приложении» подтверждал это совершенно нереальной по силе статистикой восемнадцатилетних исследований. Он играл на эмоциях публики попроще и тут же разжевывал для подозрительных интеллектуалов: смотрите, никакой мистики, все красиво, научно, обоснованно. Решетка сознания в Проекте упоминалась тоже, но мельком, хотя в специальной части ей отводилось много места. То есть подтверждению ее существования.
Потом, зачитываясь работами Лиснера, Кирилл понял, что более всего ученого занимала именно пресловутая решетка. Ее наличие усиленно пытались подтвердить еще в конце двадцатого столетия, но робкие попытки хоть как-то объяснить «беспроводной» дрейф идей и событий всегда заканчивались сокрушительным поражением. Карл Лиснер убедительно, на языке математики, доказал: она существует, и Волна – не что иное, как следствие, объективный процесс, бороться с ним бесполезно. Больны не отдельные люди, болен мир, человечество. Жить по-старому невозможно. Почему? А разве они не писали, не рассказывали, не упрекали, не пытались предупредить? «Надоело», «нет смысла», «все равно». Им нечем было зацепиться за жизнь, они утратили интерес. И тем еще больше раскачали зловещий маятник.
По мнению Лиснера, процесс зашел уже так далеко, что оставалось одно – «резко встряхнуть систему», чтобы каким-то образом погасить инерцию. Кирилл часто задумывался: а сколько правды в той части Проекта? Наверняка ровно столько, сколько требовалось, и все же? Ведь Лиснер уже «встряхнул» всех своими Письмами, потом Проектом… Волна пошла на спад… В тот момент он мог бы предложить что угодно, потому что на него почти молились…
А он задумал ограничить самое святое – возможность выбора, да так, что сразу мало кто заметил. «Человек не рождается чистым листом бумаги, но на нем не пишет только ленивый, не замечая, что место занято». Лиснер предлагал – ни больше ни меньше – ввести постоянный отсекающий мониторинг для того, чтобы обнаружить эти самые первичные каракули, чтобы в них «вложить всю силу души». Привычное всем расхожее выражение «талантливый человек талантлив во всем» сменилось на другую концепцию – «каждый человек талантлив, надо только выявить, в чем». На практике же «выявление призвания» оказалось не чем иным, как постоянной оценкой профпригодности вместе с отсевом «нежелательных вариантов».
Кстати, вскоре после смерти Лиснера, когда подписывали Третью Конвенцию, все малопонятные, отдававшие ненаучной романтикой термины заменили на удобоваримые, более практичные. Новая формулировка «профессиональная склонность», измеряемая в процентах, в народе скоро превратилась в самую обычную «профпригодность», да так и пошла гулять, ожесточая даже сторонников новой системы своей очевидной грубостью. Тогда Кириллу исполнилось десять, тогда он и начал свой крестовый поход на Карла Лиснера, закончившийся сотворением кумира.
На самом же деле проблема крылась не в самом подходе, уж он-то доказал свою эффективность, и очень быстро, еще «в порядке эксперимента», обеспечив подписание Первой Конвенции, что закрепляла новый порядок. Рискнуло всего двенадцать стран, но к двадцать пятому году их стало сорок восемь – назрела потребность в новом документе. Первичные тест-системы, в свое время позаимствованные Лиснером у психологов и существенно доработанные, усложнялись, ветвились, быстро совершенствовались, претендуя на немыслимый ранее уровень точности. Потому-то и понадобилась вторая Конвенция. Тогда-то и утвердили официальные критерии печально известного «профессионального риска». В народе – профнепригодности.
К тому времени Лиснер уже давно утратил статус мессии. Вокруг системы не утихали страсти, сам отец-основатель то и дело отбивал нападки, пережил два неудачных покушения, однако создавалось впечатление, что любимое детище волнует его все меньше. Он отходил от Проекта, словно поджег фитиль, запустил ракету и теперь спокойно наблюдал за фейерверком.
Что же, он заслужил это право. Хотя бы из-за Волны – она очень быстро рассосалась, уже к концу пятнадцатого, и сменилась общемировыми страстями вокруг авантюрной затеи, попиравшей основы основ. Все-таки решетка Лиснера сдвинулась в нужном направлении, жизнь на самом деле приобрела тогда иное качество. Надежды мешались со страхами, но скучно уж точно не было. Происходило что-то немыслимое, новое. И сетевые архивы хранили отпечаток воодушевления той эпохи.
Кирилл ухитрился раскопать одну из малоизвестных статей своего кумира. Как раз двадцатого года. Казалось, ученый уже нисколько не интересовался образовательным Проектом. Он много и с воодушевлением говорил о решетке, названной его именем, о важности, о способах изменения сознания. В мировых масштабах. Об ускорении эволюции. О балансе с окружающей средой. Он мечтал научиться математически рассчитывать ее трансформацию, и создавалось впечатление, что разгадка близка. «Мы сможем многое предсказывать и даже управлять», – говорил ученый.
Впоследствии Кирилл методично перевернул все, но не нашел ни одного более позднего упоминания о расчетах решетки Лиснера. Может, тот оставил свою навязчивую идею? Или, достигнув успеха, предпочел скрыть результат? И если в двадцатом году он только приближался к разгадке, то как умудрился так блестяще все продумать во время кризиса пятнадцатого? Как будто основывался на очень точных расчетах. Интуиция?
Но Карл Лиснер унес секрет с собой в могилу. Авария, в которой он погиб, казалась глупой и бессмысленной. Кроме того, создавалось впечатление, что ученый года три вообще ничем не занимался. Ни одной серьезной статьи, ни-че-го. Над чем он работал? Разочаровался в своей науке?
После него осталось одно огромное расплывчатое пятно, полное вопросов, но кое-что, по мнению Кирилла, не подлежало сомнению. Решетка сознания. Существует огромное, не поддающееся определению целое, что создается всеми. А потом этот маятник, запущенный нами, возвращается и лупит нас же по голове. Вот и пресловутое развитие «по спирали». И качается все быстрей и быстрей…
Кирилл сморщился от надоедливого попискивания в правом ухе.
– Лен, давай про Лиснера потом? Мне надо ответить.
– Вызов?
– Да, минутку… Знаешь что, здесь так людно… раздражает… давай пойдем к озеру? Оно еще на месте?
Лена с готовностью кивнула, поднимаясь, и Кирилл включился.
– Ого… Извини, здесь не на минутку. Но пока дойдем, я справлюсь. Надеюсь.
Она еще раз кивнула. Не удержавшись, взглянула на его «эску», деликатно отвернулась, но когда Кирилл развернул панель в терминал, спутница нерешительно замедлила шаг.
– Кир, что за спешка! Я спокойно могу подождать.
Он машинально выдал ей очередное «все нормально», прислушиваясь к голосу Стэна, но даже не подумал остановиться. Аллея быстро переполнялась народом, стекавшимся, наверно, на какой-то детский праздник, судя по обилию детей, игрушек, ярких объемных фан-проекций, плывущих над головами, и прочей атрибутики веселья. Надо отсюда поскорее выбираться, а то можно застрять надолго.
Стэн обладал потрясающей способностью включаться в самый неподходящий момент и проделывать это на сумасшедшей скорости. Но он не мог работать иначе: между внезапными приступами вдохновения он ныл, хандрил и брыкался, зато когда «накатывало», то доставал Кирилла отовсюду и ночью и днем, требовал все и сразу. Тот спокойно мирился, за десяток лет он разучился из-за этого досадовать, привык к захлебывающимся скороговоркам, даже радовался им, предвкушая у Стэна новое озарение.
Не все же идут вперед методично, шаг за шагом. Партнер Кирилла прыгал со ступеньки на ступеньку, поочередно провозглашая то свою полнейшую бездарность, то бесконечную гениальность. Сегодня ожидался очень большой прорыв – Кириллу приходилось несколько раз тормозить нетерпеливого собеседника, на ходу его пальцы не успевали листать и перекидывать нужную инфу.
Бывшая одноклассница завороженно следила за «эской», плывущей перед ними по воздуху, и Кирилл поздравил себя с тем, что Стэну не пришло в голову проявиться на полчаса раньше. Супердорогую новинку с демонстрацией тоже включили бы в перечень его прегрешений, а Лене и так придется заглаживать свою попытку наладить отношения.
На самом же деле техноэстетика – это совсем не его, техномания – еще того меньше, просто часто приходится работать буквально на ходу. Пришлось долго ждать, пока наконец сделают фантомную сенсорную панель «без привязки», и теперь он наслаждался удобством, абсолютной мобильностью, не затекающей кистью и, если угодно, свободой.
– Все. Офлайн, – скомандовал он, панелька схлопнулась и исчезла. – Ого, мы почти пришли.
Лена промолчала. Кирилл демонстративно потянулся к запястью и отключился совсем, хотя мог ограничиться голосом. Пусть Стэн разгребает то, что получил, хватит с него. После этой прогулки почти плечом к плечу он понял, что Лена догнала его не извиняться. Ей важно что-то узнать, а может, просто услышать. Вызов спугнул ее, а следующий окончательно отобьет желание просить у него помощи. Кирилл внутренне собрался: из-за Стэна он отвлекся, умудрился ненадолго потерять контроль и тут же «поплыл», невольно втираясь в чужое пространство.
Словами надо разговаривать, словами. Пусть скажет сама, что ей нужно.
Но Лена, в противоположность, совсем потеряла нить и героически пыталась держаться естественно. Принялась расспрашивать, как работает новая «эска», и Кирилл подыграл, вытянул руку, с видимой охотой демонстрируя девайс на запястье, пустился в многословные объяснения.
– А тут, – она дотронулась до своего уха, – у тебя импланты?
– По-моему, это лишнее. Имплантами я себя натыкать еще успею. Вживил под кожу. – Кирилл усмехнулся. – Не ищи, они очень маленькие, снаружи незаметно. Если честно – очень удобно, я сам даже не думал. Присоски я почему-то постоянно терял, почти каждый день.
– Мне кажется, это не намного лучше имплантов.
– Лена, ты же врач, да еще кардиолог. В вашей области импланты – просто панацея.
– Да, именно. – Она помрачнела.
– Думаешь, это плохо?
Лена нехотя пожала плечами, точно ни в чем не уверена.
– Нет, – отозвалась наконец, – как может быть плохо то, что действительно панацея…
Кирилл не стал допрашивать.
– Вот ты очень красиво говорил, – внезапно поменяла она тему, – про червяков и яблоки. И да, ты, конечно, прав. В том смысле, что я тебя понимаю… Но ты всегда был на той стороне. У тебя не было возможности… оценить все это иначе… И как бы хорошо все ни работало, какого бы прогресса в целом ни достигли, все равно остаются те, кто за чертой. Не прижившиеся. Вот как Валька. Я знаю статистику, я много интересовалась. И сейчас таких не меньше пяти-семи процентов. А я уверена, что на самом деле больше… в разы. Что с ними делать?
– Хочешь сказать, что их бросают на произвол судьбы?
– Нет, но они все равно лишние. Как Валька.
– Я понимаю, – Кирилл выбирал слова, ощущая, что задевает за больное и ее, и себя, – сегодня день такой, Валькин. Но Вальку как раз нельзя считать жертвой системы. Он сам…
– Да какая разница! – перебила она.
– Большая!
Кирилл тоже начал чувствовать раздражение и усилил контроль.
– Очень большая! Ну, ты же помнишь. В наши годы не было теперешней строгости, не было обязательности соблюдения и прочего… – он запнулся и поправил сам себя: – Если нет угрозы жизни, здоровью, психике… Вот если бы тогда все было, как сейчас, он жил бы себе вполне достойно и благополучно, разве что плевался бы ядом время от времени. Сейчас бы его сразу отсекли. А тогда время было другое: и старое, и новое существовало вместе.
– Зато это давало ему возможность выбирать! Самому!
– И что? Разве он не выбрал? Я не знаю, что стряслось на самом деле, могу только предполагать, но скорее всего, через год он понял, что просто бездарь. На фоне остальных, разумеется, – ведь Валька никогда не был бездарью, он был замечательный, но медицина – однозначно не его! Вот отец его – светило до сих пор!
Кирилл сам заволновался. Валькина история все еще отдавала горечью, выводила из равновесия. Ведь Гарик Валентинов как раз его друг – не Вадима, не Лены и тем более не Тимура. То есть в прошлом они дружили. Кирилл уехал в Прагу, целый год не виделся с Валькой, почти не общался и мог только подозревать, почему тот порезал вены. Как это часто бывало, старые школьные связи, даже самые прочные, рвались сразу после распределения. Потому что никому не хочется оказаться менее талантливым и, в конце концов, менее «профпригодным», чем все остальные. Если раньше любые неудачи легко объяснялись неправильным выбором, давлением обстоятельств, произволом родителей, то теперь все говорило об одном: на твоем листе с самого начала было что-то не то написано. Тебе мироздание не отмерило, как другим, кто удачливее, гениальнее. Кирилл на собственном опыте знал: стоит в эту темень окунуться – и вылезти практически невозможно.
Прежний тезис Лиснера «каждый талантлив по-своему» уже давно показал свою несостоятельность. Да, людей с «выраженной профессиональной склонностью» обнаруживалось немало, но неумолимые цифры сильно варьировали, вызывая у одних необоснованную зависть, а у других неуместную гордость. Природа веселилась, как умела: кому-то оставляла всего одну-единственную область приложения, кому-то разбрасывала щедрой рукой, кого-то обрекала на «твердую универсальность», ничем выдающимся не отмеченную, зато предполагавшую наличие хорошего исполнительского таланта и широкой сферы его применения.