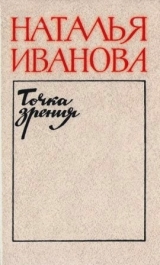
Текст книги "Точка зрения"
Автор книги: Наталья Иванова
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
А. Битов изображает множественность душевных противоречий, разнообразие мотивов поведения, сложное взаимодействие мыслей и поступков своего героя. Писатель уходит от традиционного изображения характера и обстоятельств к воплощению отражения противоречий действительности во множественности психологических импульсов одного сознания.
Оказывая больше доверия самой жизни, нежели «художеству», переходя на исповеди-проповеди, не уводим ли мы самое литературное слово от литературы? Прислушаемся, о чем пекутся сами писатели. «Прежде всяких литературных достоинств я ставлю качества душевные» (В. Распутин). «Опоры литературы – правда, любовь и совесть» (Ю. Бондарев). Писатель углубляется в этику, уходит в публицистику.
Намеренно демонстрируемая антилитературность (идущая от неприятия литературы – «все прочее – литература» – как беллетристики) связана и с процессом все нарастающего внимания к самой личности писателя, к основам его этики, к началам его работы. К писателю идут как к исповеднику и ждут от него подчас прямых «указаний», прямых и авторитетных советов. (А. Курчаткин в одном из выступлений перед читателями объяснил, что раньше, мол, были священники, перед которыми исповедовались, каялись, от которых ждали проповеди, – теперь место священников заняли прозаики. Хотя такое мнение вызвало у читателей улыбку, но доля истины здесь есть.)
Противоположен такому бессюжетно-исповедальному типу рассказа, где авторская позиция выражена недвусмысленно и однозначно, рассказ, где автор умышленно «убирает» свой голос.
Авторская позиция может быть развита в самом повествовании, во взаимоотношениях героев. Для выражения авторской позиции писатель в этом случае пользуется иными, не дидактическими и не риторическими средствами.
Буйвол Широколобый в рассказе Ф. Искандера – своеобразный патриарх расстилающегося вокруг прекрасного мира; правда, есть и свои опасности, есть и свой «ад» – бойня, или «там, Где Лошади Плачут». В спокойной, неторопливой эпической манере повествования, столь соответствующей, аккомпанирующей характеру и поведению главного героя, мы не найдем ни единого слова от автора. Перед нами постепенно разворачивается житие буйвола, картины его детства сменяются эпизодами зрелости; а непониманиебуйволом того, куда и зачем его везут, вступает в резкий контраст с нашим читательским априорным знаниемтого, что непокорного, сильного, мудрого буйвола везут не куда-нибудь, а на бойню.
Ф. Искандер подключился здесь к авторитетной отечественной традиции изображения действительности через взгляд и изображение сознания животного (вспомним «Холстомера» Толстого, «Изумруд» Куприна, «Каштанку» Чехова). Буйвол Широколобый являет собой саму естественную красоту здоровой жизни природы, ее соразмерность и величие, простоту и уравновешенность. В самом деле, буйвол – вседержитель своей вселенной: «…и ворона, выклевывающая клещей, и черепахи, лежащие на спине, были приятны главным образом тем, что они были признаками мира, спокойствия, отдыха. И он чувствовал всем своим мощным телом, погруженным в прохладную воду запруды, этот мир и спокойствие, это высокое голубое небо и это жаркое солнце, сама жаркость которого и дает почувствовать блаженство прохладной воды». Буйвол спокоен, окружающий живой мир природы живет под его защитой. Он – олицетворение силы, исполняющей «закон жизни».
Как и в рассказе В. Астафьева «Медвежья Кровь», мир в «Широколобом» принципиально разделен на живой (мир жизни природы, культуры, счастья, земли и неба, добрых людей и сильных, прекрасных, здоровых животных) и мертвый (мир насилия, смерти, тлена, вони). Вольному воздуху луга и моря противостоит не только запах равнодушного железа и разгоряченного асфальта, по которому везут Широколобого на убой, но и вонь, идущая из пасти разъяренного медведя, посягнувшего на буйволенка. В мире природы тоже есть своя жизнь и своя смерть, свет и тень, прекрасное и безобразное. Но в основном, как и в рассказе В. Астафьева, прекрасный мир природы противопоставлен насилию над ней. Люди четко разделяются по своему отношению к живому миру. Если для весовщика буйвол – это всего лишь мясо, «девятьсот пятьдесят пять килограммов», то для пастуха Бардуши Широколобый – это чудо природы, перл создания, яркая индивидуальная личность: «– Такого буйвола… – сказал Бардуша, и вдруг в голове у него смешалось все, что он думал о Широколобом – могучая память, трогательная привязанность к буйволицам, сила, храбрость, чувство собственного достоинства, – и он, не зная, о чем сказать, добавил: – Больше на свете нет… Он рог сломал в драке другому буйволу. Понимаешь, рог!»
Был когда-то Великий Буйвол, сломавший деревянные ворота бойни, ушедший в горные леса; а Широколобый воспринимается пастухом как последний Буйвол на свете.
Ф. Искандер воссоздает наивное сознание, наивное восприятие мира. Хотя повествование ведется от третьего лица, на многое мы смотрим глазами Широколобого, и слово в рассказе не просто воспроизводит действие, а находится в постоянном контрасте с реальным событием. Отсюда – особое эмоциональное напряжение рассказа. Ф. Искандер тормозитдействие. Если представить себе фабулу рассказа как отрезок прямой линии – от начала, где буйвола вгоняют в машину, до конца, где к упавшему буйволу стремительно приближается катер с отстрельщиками, то сюжетом рассказа будет постоянное нарушение этой прямой, постоянное и настойчивое возвращение к предыдущим событиям жизни буйвола. Прямая неожиданно обогащается ветвящейся и изгибающейся, живой, пульсирующей «кривой», как бы пытающейся укрепиться, уцепиться за предыдущую жизнь; но прямолинейное движение вперед неизбежно и неумолимо. И когда в самом финале Широколобый уплывает в море – наконец-то осуществляя свою мечту о вольном морском просторе, – то это не что иное, как последний изгиб живой «кривой», борющейся с прямой линией. Борьба сюжета с фабулой, изгибы сюжетной кривой – это борьба Широколобого за свою жизнь, за свое достоинство. И хотя мы понимаем, что печальный конец неизбежен, автор завершает рассказ не на смертельном исходе (последней точке отрезка прямой), нет, он оставляет это за пространством рассказа; несмотря на жестокую реальность, финалпостроен на резком контрасте, несовпадении с сюжетной развязкой. «Свобода моря была такой огромной, а люди, даже если они несут несвободу, были по сравнению с морем такими маленькими в своей маленькой лодке, что при столь смехотворном соотношении сил и беспокоиться было нечего. Шум мотора нарастал». Но и это еще не финал.
Неожиданно завершая повествование пейзажем, облитым мягким светом закатного солнца, Ф. Искандер парадоксально добился гораздо более сильного эффекта, нежели бы эффект от изображения убийства буйвола (или даже сухого авторского сообщения о происшедшем). Почему же примиряющий этот свет так сильно действует на нас, больно сжимая сердце? В возвышенно-торжественном утопическом пейзаже, где и горы, и море, и город едины и обласканы солнцем, заключен идеал автора: «Белые дома города и мягкие, пушистые холмы над ними, и цепи дымчатых гор, уходящие в бесконечность неба, и далекие, но различимые для любящего глаза пятна голых утесов над Чегемом – все, все утопало в примиряющем свете закатного солнца». Автор завершает на наших глазах картину прекрасного мироздания, указывая нам – нет, не морально, не назиданием или нравоучением, а невероятной красотой мира – истинную высоту предназначения всего живого.
Размышляя о знаменитом бунинском рассказе «Легкое дыхание», Л. Выготский писал: «Это рассказ не об Оле Мещерской, а о легком дыхании; его основная черта – это то чувство освобождения, легкости, отрешенности и совершенной прозрачности жизни, которое никак нельзя вывести из самих событий, лежащих в его основе».[34]
Именно контрапункт внешнего и внутреннего, подспудного течения в рассказе обеспечивает его многомерность, глубину. Иначе повествование останется лишь материаломк рассказу, может быть, и забавным, и сюжетно организованным – но не более того.
Вспомним историю создания гоголевской «Шинели». В основе ее лежит анекдот, рассказанный Гоголю друзьями, история о том, как некий чиновник, долго копивший деньги на ружье, совершив наконец драгоценное приобретение, на первой же охоте его потерял и с горя чуть не умер, если бы сердобольные собратья-чиновники, «скинувшись», не купили ему новое ружье. Работая от этой «точки», Гоголь написал совершенно о другом: не об умилительных товарищах, а о растоптанном, поруганном и восставшем человеке. Какое это имеет отношение к истории с ружьем? Самое косвенное. Наши же рассказчики зачастую останавливаются именно на самой первоначальной ступени зарождения рассказа. На анекдоте. Фабуле.
Так, в рассказе В. Муссалитина «Помоги подняться» («Новый мир», 1984, № 10) бес попутал героя – привел он домой некую Зиночку-Зинулю, а неожиданно нагрянувшая жена застала их в соответствующем виде. Герой выпутывается из создавшейся неприятной ситуации, ибо любит жену, а не Зиночку. Изменять плохо? Плохо. А не изменять – хорошо. Нравоучительно? В высшей степени. Прямолинейность названия – «Помоги подняться» – соответствует прямолинейности содержания.
Еще один рассказ В. Муссалитина – «Старые шрамы». Дядька, вернувшийся с фронта, сидит на берегу речки с племяшом Женькой. Мальчик восторженно слушает рассказы дяди, с восторгом включается в игру, представляя себя взрослым, отвоевавшим солдатом. Вокруг мир и тишина. Мораль? А вот и она: «Но если не найдут нас с тобой медали – не больно огорчайся. Ради них разве воевали?.. Вот награда нам, – он широко обводит рукой небо, реку, поле. – Это все наше, братец! Во веки веков».
В рассказе того же автора «Утренний разговор» повествователь, просыпаясь утром в «неперспективной» деревне Киселевке, слушает бабку Федосью. Тут, конечно, и уменьшительные суффиксы («спинушка», «спасибушки»), и восторженные восклицания («Ты полюбуйся, какой денек ноне!»). Читатель попадает как бы в перенасыщенный раствор восторженного умиления.
Остановимся на маленьком лирическом авторском отступлении (прошу прощения за длинную цитату, но она здесь необходима): «Ах, Федосья, ах, баба Федосья, как хочется верить тебе, что с твоим уходом, с уходом твоих товарок-соседок с этой земли не опустеет, не осиротеет твоя Киселевка, что снова возродится в ней жизнь, будут кричать и озоровать пацаны, будут плакать и жаловаться на свою долю бабы, будут хорохориться, пить горькое вино и горланить отчаянные песни мужики… Как хочется мне, чтобы осталась услышанной эта твоя потаенная мольба!»
Ясно, что хочет нам поведать автор: хорошо бы не исчезла в деревушке Киселевке жизнь, чтобы она продолжилась. Этого хочет и Федосья, потому и не перебирается на центральную усадьбу.
Автор старается выражаться, так сказать, литературно. Поэтому он и прибегает к известным синтаксическим приемам, в частности – повторам, дабы усилить, укрепить у читателя впечатление. В. Муссалитин и начинает-то с жаркого восклицания, которое, скажем, совершенно невероятным стилистическим «казусом» смотрелось бы в эстетически безупречной прозе В. Распутина: двойное «ах». И, наконец, пожелание повествователя, которое будто бы совпадает с Федосьиным: ему очень хочется верить, что после смерти Федосьи здесь опять «будут плакать и жаловаться на свою долю бабы», а также «будут… пить горькое вино» мужики. Завела, заманила ветвистая фраза, и объективно оказалось, что «потаенная мольба» Федосьи – это мольба о пьянстве мужиков и слезах женщин!
Так стилем разрушаются и моральные выводы В. Муссалитина. Навязчиво-очевиден нравоучительный «антипотребительский» вывод в рассказе А. Ткаченко «Моторный друг».
Как только прочтешь про то, что из салона разбитого «жигуленка» выпал роман А. Хейли «Аэропорт», этот типичный пример «моторной» масскультуры, а также про «мертвенный холодок настывающей поролоновой куртки», – сразу поймешь, против чего выступает автор и за какие моральные ценности он голосует.
Вот этот-то слишком короткий «привод» – от текста к выводу – и тревожит. Настораживает меня эта прямая – как известно, кратчайшее расстояние между точками.
Обратимся опять к Л. Выготскому, к его классическому анализу «Легкого дыхания». Выстроив сложный структурно-композиционный рисунок рассказа, ученый пишет: «Прямая линия – это и есть действительность, заключенная в этом рассказе, а та сложная кривая построения этой действительности, которой мы обозначили композицию новеллы, есть его легкое дыхание… События соединены и сцеплены так, что они утрачивают свою житейскую тягость и непрозрачную муть; они мелодически сцеплены друг с другом, и в своих нарастаниях, разрешениях и переходах они как бы развязывают стягивающие их нити; они… соединяются одно с другим, как слова соединяются в стихе».
Проста фабула рассказа В. Кондратьева «Асин капитан». Лейтенант, идущий из госпиталя к «своим», случайно встречает знакомую девушку, в которую он был влюблен до войны. Ночной разговор, появление близкого Асе (так зовут девушку) сильного человека, капитана; его деликатный уход, последние часы встречи. Вот и все. Но рассказ очень непросто выстроен. Начнем с названия: почему «Асин капитан»? Ведь рассказ-то не о нем? Уже название намечает ту линию, которая будет идти параллельно истории Аси. В. Кондартьев всячески уходит от «прямой». Рассказчик уводит то в одно, то в другое время, то в «настоящее» – время рассказывания, то в военное прошлое, а уже оттуда – в довоенное время. Слои времени как бы просвечивают один сквозь другой, переливаются; и сквозь облик встреченной на фронте Аси, жестокой, нервной, испытавшей много горя за прошедшие три года, мерцает та, прежняя калужская девушка, к которой так боялся подойти герой. Вроде бы и не виноват он перед Асей, но томит, мучает его чувство душевной вины, которую он никак не может избыть сегодня… Ведь не он же, в самом деле, виноват в ее тяжелой судьбе! Никакого морализирования, никаких «выводов» нельзя обнаружить в этом рассказе, но смысл его богаче прямолинейных нравоучений.
Ни авторских размышлений, ни авторских отступлений не обнаружим мы и в рассказах Б. Екимова. Лаконичные, «подбористые» рассказы Б. Екимова построены на той или иной социально важной (чаще всего – социально тревожной) жизненной ситуации. Глаз у Б. Екимова на такие ситуации и детали снайперский. Рассказы Б. Екимова словно бы неторопливо поведаны самой крестьянской жизнью; там, где следует, – с остановкой, с подробностью; там, где ничего существенного, на сельский взгляд, не происходит, – с прочерком. Каков из себя, скажем, герой рассказа «Музыка в соседнем дворе» Матвей, мы так и не узнаем; однако автор не преминет сообщить, что свояк и свояченица, приславшие Матвею и его жене Таисе вызов на хорошо оплачиваемую работу на Север, – «оба т у шистые, на подбор», что в селе сейчас «иные бабы весь рот золотом залепили». Слово героя явно окрашивает слово повествователя, вступает с ним в непосредственный контакт – и благодаря этому читатель допущен во внутренний мир героя.
Давая выговориться самой жизни, представляя ее объективно, без какого бы то ни было авторского нажима, лирического либо иронического «окраса», Б. Екимов не оценивает прямо поступки и действия своих героев. Оценку должен вынести сам читатель. Представим себе, сколько возмущения и горечи вызвал бы у В. Астафьева стреляющий в голубей бездельник Сапов, незадолго до голубей перестрелявший всех кур у себя на дворе. Нет, не хочет работать Сапов, ни за что ни хочет, хочет он лишь, как сам выражается, «жрать». Посылает жену пасти личных коров да кормиться у людей; катится он неостановимо, все ниже и ниже, и ничего не выходит из благих предприятий управляющего колхозным отделением Чапурина по «спасению душ» таких, как Сапов. Логика Чапурина («Как не стыдно?») недоступна ни Сапову, ни его приятелю, пришедшему из тюрьмы. Чапурин из последних сил бьется, а Сапов знай себе ворует, да еще и жеребую кобылу забивает до смерти… Интонация повествования остается в высшей степени ровной. Но – не бесстрастной, ибо авторская точка зрения на происходящее является более чем оправданной. Но авторская позиция, позиция Б. Екимова, сложна, невзирая на всю очевидную простоту его рассказов. Рассказы рождены из потребности уяснить, понять жизненную проблему, поставить вопрос, поделиться своей болью – по поводу вот таких Саповых, ни за грош спускающих собственную жизнь. Проза Б. Екимова живо наблюдательна, точна и социологична. Не «художественностью» берет Б. Екимов, а искренностью и неравнодушием к предмету. Б. Екимов остро ставит ту или иную наболевшую проблему, не предлагая решения (да оно и невозможно), но призывая читателя задуматься – над такими типами отношения к жизни, скажем, как тип, воплощенный им в «мертвой душе» – Сапове или в прирожденном хозяине Чапурине.
Но из всего вышесказанного не следует, что Б. Екимова волнуют в первую очередь – и прежде всего – лишь хозяйственно-экономические проблемы. «Живая душа» – так называется один из его рассказов. Души живые и мертвые души – вот где проходит четкая граница между героями Б. Екимова. Живая душа – это и многострадальная молодая вдова Раиса («Человек для Раисы»), оставшаяся с двумя детьми без мужа, умершего по пьяному делу у чужой бабы, Раиса, которая все «по дружечке» тоскует (а бабки все ищут ей «партию», и иного, чем переписка с заключенным, придумать не могут – нет свободных, да работящих, да непьющих мужиков в деревне); это и мальчик Алеша Тебякин по прозвищу «Быча», спасающий брошенного людьми, неучтенно появившегося на свет бычка (корова яловой числилась; главное для «мертвых» душ – как числится! О бессмертная «арифметика»!), это и Матвей («Музыка в соседнем дворе»), которого, несмотря на соблазн больших денег, не отпускают родные места. В этой своей твердой надежде, в уповании на душу живую, естественную, добрую Б. Екимов близок к Ф. Искандеру.
«Они стояли на асфальтированной площадке под ярким фонарем, в мертвенно-голубом свете которого асфальт обратился в подобие пепла». Эта фраза – казалось бы, проходная в контексте рассказа Г. Семенова «Коллекция» – на самом деле обнажает постоянное и проникающее всю художественную плоть рассказов противостояние живого и мертвого, от мельчайшей клеточки – фразы – до характера, до сюжета, композиции.
Некто Синяков, бесконечно приговаривающий – «мы же интеллигентные люди», – бухгалтер кустового управления торговли, а также владелец шотландской овчарки Норы, всю страсть своей пятидесятилетней жизни вкладывает в коллекцию птичьих чучел. Он сам и убивает, и свежует, и набивает, и развешивает их у себя в квартире. Нет у него ни семьи, ни друга, ни любимой. Г. Семенов психологически точно связал два пристрастия – к красивым фразам и к чучелам. Слово Синякова – слово с постоянной оглядкой, слово мнительное, слово-возражение – ищет себе поддержки в красивостях, в псевдокрасоте, ибо истинная красота простой, обыденной, не «возвышенной» жизни ему не доступна. Он эту «просто» жизнь – презирает, его, тщательно скрывающего от окружающих страсть к спиртному, тянет к пышному занавесу, к котурнам, к опере: «Мы разучились быть красивыми в своих чувствах, разучились красиво представлять жизнь в театре… На сцене, как на переводной картинке, все должно быть красиво, красочно, как в красивой, мечтательной жизни». Разговаривает Синяков украшенной, виньеточной, псевдолитературной речью («Я всюду ищу информацию и считаю, что все новые знания – это, так сказать, пьянящий напиток жизни»), сам себя перебивает восклицаниями, риторическими вопросами. Ему кажется, что у него есть способность «независимо мыслить, быть оригинальным и возвышенным», а на самом деле за всей этой фразой и позой – черная сила, «рвущаяся наружу из-под дырявой маски, подбитой курчавыми бакенбардами». За маскировочными словами о том, что «мы тоже дети природы», скрывается не сын природы, а ее убийца, обладатель «страшноватой коллекции», «мертвого царства» «оцепеневших птиц». Но читателю становится известно об этой коллекции лишь в конце. Писатель постепенно приводит нас к этой пиковой и одновременно финальной точке рассказа о «мертвой душе» – нет, не столько чучела мертвы, сколько их хозяин.
Г. Семенова занимает проблема ложной, сочиненной, омертвевшей (или мертвой), но притворяющейся живой, маскирующейся, мимикрирующей псевдожизни. Синяков, торопящийся скорее объявить, что он – такой же, как все, свой брат («все мы дети природы») интеллигент («все мы интеллигентные люди»), стремящийся примкнуть, прильнуть к живым, «заговаривающий» своего нового знакомого, как бы заманивающий его в свое мертвое царство, как пишет Г. Семенов, «выстраивал образ будущего друга, сочиняя его с помощью фантазии». При этом надо помнить, что писатель четко разграничивает «помощь испытанного средства – воображения», так сказать, здоровую художественную фантазию, органичную для литературного творчества, – и фантазию ложную, или, как он иначе ее называет, «игривое воображение» (рассказ «Приятная привычка»). Героиня этого рассказа, стареющая художница Жанна Купреич, скорее играет в жизнь, нежели действительно живет (а жизнь при этом стремительно проходит), завораживая себя красивой и лихой фразой: «Жизнь – приятная привычка! Не более того». Эта фраза тоже – своего рода маска: Жанна скрывается за ней, «как за вуалевой дымкой, наброшенной на лицо».
Правда «искусно прячется на донышке души», а игривое воображение «во много раз сильнее жалкой и ничтожной реальности», замечает Г. Семенов. Но это голос самой Жанны слышен через голос повествователя, вплетается в него. На самом же деле именно реальность интересует писателя, но не просто реальность, а реальность на стыке ее с «вуалевой дымкой» воображения. В облике, в голосе («она искусно играет гласными окончаниями слов»), даже в имени героини подчеркнута манерность, рисовка, искусственность, поза (немолодая уже женщина в матроске, играющая роль светской хозяйки дома-салона). Недаром слово «загадочная» Г. Семенов все же ставит в кавычки.
В этом рассказе в сюжет вплетается и голос самого повествователя, полемизирующего с критикой, прямо размышляющего о целях и задачах литературы. Рассказывать людям, не искажая правды(а это является главным «критерием оценки любого сочинения»), – так определяет он свою задачу. Борьбу реальности с иллюзией, правды – с попытками от нее спрятаться, закамуфлировать ее – писатель и прослеживает в рассказе «Приятная привычка» (кстати, мысль его прямо перекликается с мыслью Ю. Трифонова: главное – это «ощущение правдивости описываемой жизни»). С иронией звучат в рассказах Г Семенова слова о «красивой», о «придуманной» жизни, о «раковине» – доме, в котором пытается спрятаться от «жалкой и ничтожной» реальности Жанна Купреич, « играяволнующей улыбкой» или «как бы выходя из игры».
Реальность, пусть даже «жалкая и ничтожная», жива, а игра – пусть даже такая заманчивая, как игра в молодость, – мертва, словно яблони, замерзшие под окнами художницы. Я далека от того, чтобы искать в прозе Г. Семенова символы, однако яблони эти, ничего не символизируя, о многом свидетельствуют.
Свобода и раскрепощенность композиции, совмещение повествования от третьего и от первого лица, включение отступлений, смещение времен, опора не столько на внешний, сколько на «внутренний» сюжет – все это, бесспорно, характерно для современного рассказа, избегающего мертвящей прямолинейности и холодной назидательности. Однако ослабление фабульных связей в рассказе тоже имеет свои пределы. Ассоциативность хороша там, где она художественно обоснована самим авторским заданием, авторской целью, где она либо является способом изображения определенного сознания, либо способом нового авторского познания действительности. «Ассоциативный», бесфабульный рассказ требует особого напряжения стилистики, точнейшей деталировки, требует развития внутренней идеи, обеспечения небанальной авторской мыслью. Там, где этого нет, «ассоциативный» рассказ вырождается, превращаясь либо в набор претенциозных и бессвязных пустот, либо в «общее место».
И тогда, томимые тоской по настоящей, полноценной художественной прозе, мы повторяем известные слова Гоголя из письма Пушкину: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет…»
1985









