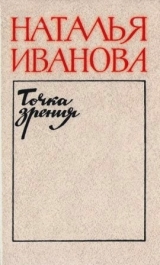
Текст книги "Точка зрения"
Автор книги: Наталья Иванова
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
Этичен и сам пейзаж Армении, ее природа, ненавязчиво и любовно выявленные человеком (арка Чаренца). Этичны, наконец, храмы, высеченные в туфтовых скалах, удивительный пример стойкости, сопротивляемости армянского духа.
Почему встреча с Арменией стала поворотным пунктом в сознании и творческой судьбе Битова? Идеалист и романтик в душе, но страстно мечтающий о реальности, о воплощенности, Битов увидел здесь «страну реальных идеалов», страну с не разорванным на «высокое» и «низкое» сознанием, с непрерванной, непрерывной могучей историей. Армения показала пример реального воплощения идеального замысла – начиная с алфавита («в нем древность, история, крепость и дух нации»), речи («я слушал чужую речь и пленялся ею. Действительно, что за соединение жесткого, сухого, прокаленного и удивительно мягкого, „нежьного“ – как сказал бы мой друг!»), природы («В этих спадающих валах была поступь великая и величественная. Они спадали и голубели вдали, таяли в дымке простора, и там, далеко, уже синея, так же совершенно восходили, обозначая край земли и начало неба»). Дело было просто-напросто в том, что здесь «все было тем, что оно есть: камень – камнем, дерево – деревом, вода – водой, свет – светом, зверь – зверем, а человек – человеком». Это возвращение исконного смысла явлениям и понятиям и есть самое главное открытие Битова в Армении. Рефлексирующее сердце автора, обремененное и измученное рефлексирующими же героями, «пунктиром», разорванностью современной жизни, прерывистой линией истории, успокоилось и обнадежилось. В этом – главные и просветляющие «уроки Армении» для Битова. Конечно, Битов писал свою книгу «любовно и идеально» – но ведь по сути «эта моя Армения написана о России», о том, что в ней истоптано, разрушено, предано, что нуждается в восстановлении и пробуждении.
В последующих за этой книгой «Птицах» Битов вроде бы удаляется от проблем культуры – но это только на первый взгляд. Природа для него столь же культурна, а ее сохранение – такая же этическая и культурная проблема: «В наш век природа – такое же камерное, культурное пространство, что и стихи о ней». Экология погранична – может быть, это тот мост между культурой и наукой, которого так недоставало человечеству?
Во всяком случае, проблемы экологические входят в ту самую обширную программу, которая разворачивается в «этику Битова» и диктует его поэтику.
Битов пытался постигнуть «свое» через «чужое», культурно и исторически отличное («Уроки Армении»).
Битов пытается постигнуть «свое» через совсем уж, казалось бы, «чужое», нечеловеческое, резко биологически отличное («Птицы, или Новые сведения о человеке»).
Познавать Армению, чтобы познать Россию.
Познавать птицу, чтобы познать человека: «Способность человека знать иную природу кажется мне катастрофически малой, но нет ничего благороднее и необходимее для человеческого сознания, чем это буксующее усилие». Познание животного мира ярче оттеняет наш мир, наши проблемы. Более того: нигде, как в языке, сказалось наше неэтичное малокультурное отношение к природе. «Кладовая природы», «природные богатства», «покорение природы» – «перебирал я все новые свидетельства человеческого разбоя, оставленные им в языке, как отпечатки немытых пальцев».
Для того чтобы определить параметры нашей этики, степень ее «этичности», Битов пишет об этике, морали животных. Лев, волк, ворон никогда, ни в коем случае «не применяют смертельное свое оружие в отношении представителей своего вида – на такое действие у них наложен сильнейший моральный запрет»; а прелестный голубок заклюет своего соперника до смерти, «дотюкает его нежным своим клювиком». Так и открывается постепенно в птице – бездна: и что стоит за красотой ее полета, и что под чистенькими перышками, и каково птице выжить рядом с человеком, и где пределы ее приручения… Мысли вроде бы очевидные (как и все в экологии); но достойна именно эта очевидность, а не эффектность, изощренность, каковые многие и принимают за мысль – на самом-то деле это лишь «вторичные признаки» мысли.
А мысль Битова – о главном, о самом что ни на есть наинасущнейшем: выживет ли Земля, если человек покинул свою экологическую нишу и занимается истощением и разрушением заповеданного ему природного мира? Уникальная Куршская коса, во многом – творение рук человеческих, любовно засаженная лесами, охраняемая, незагаженная – заповедник в том же замечательном смысле слова, как заповеднаи Армения. «Птицы» – естественный шаг Битова дальше после «Уроков Армении». От социальных, исторических проблем Битов перешел к общечеловеческой проблеме – проблеме жизни всего рода человеческого. Человек поставлен перед природой, как перед Богом: недаром в финале страшная гроза, напоминающая о ядерной катастрофе, как бы подводит решительную черту под философскими аргументами Поэта (да позволено будет здесь так назвать автора) и Ученого. Грозное предупреждение перекрывает все слова – и автор теряет способность говорить, остается одно мычание. Слово исчерпано.
Я уже говорила о том, насколько Битов опередил свое время; это сейчас мы все кинулись защищать природу и кричать об угрозе; Битов соединил экологию и угрозу миру одним из первых.
* * *
«Писать надо молча.
Только молчание родит поэта».
А. Битов. Выбор натуры
Давит ли этическая система, «практическая этика» на самого ее создателя? Не мешает ли ему предельная осознанность, осмысленность своей работы? Не убивает ли она непосредственности отношения – и к реальности, и к чистому листу бумаги?
В наше время «спонтанной» художественности и «естественности» такое существование в литературе может показаться по крайней мере двусмысленным. Битов упорно думает над тем, что он делает. Его саморефлексия культурна. Идти путем «естественного реализма» не может и не хочет. Кстати, за последние годы мы все более отчетливо видим тупики этого еще недавно блистательного направления, попытку его соединиться с «публицистичностью», выиграть за счет актуальности. За пределы собственного опыта, за пределы своей биографии, своего «ареала» такому «реализму» выйти трудно – это может кончиться ослаблением даже большого таланта. Ослаблением – в лучшем случае; в худшем случае – крахом.
В этике Битова одним из краеугольных оснований является мысль о Пушкине, «воспоминание о Пушкине». Не только потому, что все мы продолжаем, по счастью, жить в «пушкинском доме», каким является вся Россия. «Дом поэта» – это то, что держит, сохраняет и нашу культуру, и нашу природу. Недаром одна из функций поэта (по Битову) – «природоохранная». Для этики Битова чрезвычайно щепетилен и вопрос о нашем отношении к «дому поэта», о нашем поведении. Он включает в себя многое: и этику посещения (например, всегда ли мы готовынравственно к тому, чтобы переступить порог домика Чехова? или посетить Ясную Поляну?), и этику приближения к великому поэту. С одной стороны, взгляд Битова лишен всякого налета «музейности», отчужденности; с другой стороны – Битов достаточно в этом отношении суров: нельзя затаптывать тропинки культуры, следить там грязными сапогами, хватать культуру «немытыми пальцами». Есть этика посещения – но есть и этика непосещения.«Не хочу в недействующий храм, так замечательно отреставрированный для посещения».
Пушкин – тоже «страна реальных идеалов», то есть реальное воплощение идеального замысла: поэтому его образ так недостижимо притягателен для Битова, идеалиста в душе и реалиста по историческому времени, в котором он оказался. Пушкин – это обещание того, что возможно (а казалось бы, навеки утрачено). Ведь былже! Сумел, смог!
В работах Битова есть, наверное, свои слабости и неточности, на которые указали (или еще укажут) пушкиноведы. Главное, на что направлена мысль Битова, – это естественность судьбыПушкина, полное отсутствие «роли», исполнение своего предназначения: «Он так проявлен во всем, что его касалось, что рядом с ним любое другое житие окажется ограниченным ролью». Недостижимая цельность и полнота реализации – из чего они складываются? Аналитический ум Битова и тут прибегает к своему инструментарию, разъятию, разложению; но задача сохраняется – выявить этический смысл в том обещании, каким является для русского человека Пушкин.
Именем Пушкина, его масштабом, привязанностью к Пушкину освящено и отмечено у Битова многое: и проза о Леве Одоевцеве, и проза о Грузии.
Возвращение Битова на Кавказ, конечно, таило в себе сложности. После «Уроков Армении» сложно в чем-то не повториться: для малопосвященного близок и пейзаж, и образ жизни, и отношение к гостю. После головокружительного отлета «Птиц» в «Грузинском альбоме» Битов опять возвращается на землю, он опять – «кавказский пленник».
Восхищение – это первая эмоция книги. Но мы-то прекрасно помним – восхищение уже было… Мы сравниваем – возможно ли после того восхищения еще чем-нибудь так жевосхищаться?
«О боже! Мы оказались.Другого глагола опять не найду. Мы оказались. Но нет, ничего сверхъестественного. Мы оказались там же, где уже прожили всю жизнь, где именно мы и никто за нас не жил». Морщимся от высокопарности, выспренности. Что это, тост за пейзаж? В нас закипает странная и непонятная ревность. Мы сравниваем: тот пейзаж и этот. Там – холмы, божественный вид, особым образом организованное пространство, здесь – «За голубым альпийским лугом вставали огромные синие ели; их раздвигал, разгонял, прижимаясь то слева, то справа, белый ручей-река, словно гнал вниз это еловое стадо… И сердце сладко ухало вслед за взглядом, когда я плавно следил за проистеканием мира из моей точки и через безмысленное небо возвращался вспять, к себе». Красиво, ничего не скажешь. И – не слишком ли претенциозно изложено?
Но автор, погрузив нас в столь прекрасный пейзаж, немедленно «выдергивает» из него. Повествование строится по двум линиям: то, что написано о Грузии, перемежается с тем, что написано в Грузии – о себе, о своих проблемах, о своей земле. Бывший мальчик, помнящий блокадное детство, из сырого, серого, продутого финскими ветрами Ленинграда, как мог он воспринять землю армянскую или грузинскую? Теплую, окруженную светом, сияющим так, что у бывшего мальчика болят глаза, а черные очки надевать не хочется? После самого умышленного, самого умозрительного, как Ленинград-Петербург, города (помните, у Достоевского: «и поднимется, и улетит этот город»), с его расчисленностью, интеллектуальностью, расчерченностью, – перенестись в город, как будто выросший, как дерево, повисший на скале, как гнездо?
Все контрастно: свет – мрак, вечная весна – вечный ноябрь, интеллект – эмоция, солнце – фонарь, искусственное освещение, жар – холод, одиночество – семейный уют, дружество и братство… Даже так: хлеб – лаваш, сыр – лори… Здесь все обретает имя.Рай, наверное, северянин представляет таким: с голубыми округлыми холмами, которые хочется потрогать рукой, со светом, струящимся с ласковых небес, с плодами, которые – мы, северяне, так и не можем поверить – растут прямо на деревьях, с виноградом, который можно срывать с лозы. Вот эта райская первозданность и потрясает северную душу. Первозданность и естественность рая, в котором, оказывается, живут люди. Почему Битов в Грузии писал о Ленинграде? А в Ленинграде – о Грузии? Своеобразная компенсация – и чувство вины перед родиной, где уже лежит снег, или нет, еще не лежит, еще идет снег пополам с дождем, погодка не приведи господь… Серо, сыро, неуютно… Но ведь дом, родина. «Всякий кулик свое болото хвалит». Пушкин, Достоевский…
Две природы – природа естественная и природа, загнанная в клетку: с божественных холмов Зедазени автор переносит нас к клеткам ленинградского зоопарка, где томятся звери. Не просто несчастные от лишения свободы, естественного образа жизни – нет, это безумные уже звери. «Последний» медведь с явными признаками сумасшествия; «чтобы не сойти с ума – слон служит так же, как и служитель», «бесцветно-свалявшиеся неправдоподобия коров», «расползшаяся булка» – гиппопотам; «синтетический» тапир… «Обезьяны закрыты на ремонт». Козел смотрит «с лукавством шизофреника»… Вспомним слова одного из битовских героев о лесе, о естественном сообществе деревьев, – здесь же автор-герой вдруг ощущает «братство всего живого перед лицом гибели». Звери в клетках предстают как последние. Так что же, город виноват? Приблизимся к беловско-астафьевскому неприятию города вообще, города в принципе?
Но автор от клеток зоопарка переносит нас в Тбилиси и показывает, как город может существовать естественно: «город напоминает дерево, гнездо, улей, виноградник, этажерку, стену, увитую плющом». От безумия заключенных в клетки зверей – к городу, в котором «вы не сойдете с ума»: «вряд ли еще где-нибудь можно найти такие уютные переходы для обветшалой или изношенной психики». Реальность, оказывается, способна быть не только жестоко подавляющей, но и высоко поэтичной, вдохновляющей. И в разрыве между этими двумя реальностями мечется душа автора, желая «состыковать», соединить одно с другим. Вот глава под названием «Судьба» – и типично ленинградский пейзаж, болото какое-то, оказывается сказочно прекрасным, нужно лишь суметь увидеть его. Вот истинная ленинградская параллель Зедазени: «Солнце падало в болото, все более пунцовея, и вода, серенькая у ног, чуть впереди уже вспыхивала перламутром, потом лиловела, потом золотела, алела и синела, а там, совсем вдали, у противоположного берега… вдруг – чернела. Взгляду было не на чем остановиться – это была невесомость взгляда – он устанавливал такую прямую и ненапряженную связь, что – где ты, где озеро, где, тем более, дом…»
Материализация идеала возможна. Это доказывает не только грузинский пейзаж, скажем, но и Петербург – гениальная материализация идеального, реализация замысла, самый условный город на свете.
Из 165 страниц «Грузинского альбома» половина отдана России, размышлениям о ее исторических судьбах, о Ленинграде, о нашем образе жизни, о русском характере. Ассоциативность и свобода, раскрепощенность, «вольность» дыхания – вот определяющие черты этого прихотливого жанра. Мысль автора уподобляется тбилисскому городскому пейзажу, учится у него – именно поэтому еще перед нами «Грузинский альбом». Обнять своим воспоминанием как можно больше, прорастить одно сквозь другое: от условности балета – к эпохе, от эпохи – к печенью «Мария», от печенья – к этажерке, от этажерки… Кстати, почему исчезли этажерки? В ответ на этот вопрос следует целая лирическая новелла, столь неожиданно выводящая на историческое определение: «этажерочное время», так же как рассуждения о балете естественно приводят к словам: «теперь, в эпоху распределения»… Несмотря на внешнюю несжатость, раскованность, даже некоторую «болтовню», мысль автора продолжает работать точно. Почему, например, после революции выжил балет? «…Как же именно самое условное, самое господское, самое элитарное искусство стало и самым „народным“, не подвергавшимся не только остракизму, но и сомнению?» Или – хлесткая картинка из современной жизни: «Теперь, в эпоху распределения, балет наконец занял более или менее свое место: и билетов в Большой театр вы не достанете (в Кировский – тоже), и бриллианты неплохо бы надеть… фигурное по телевидению – это то же, за что выдавался нам балет, но наконец-то для всех». Этическая напряженность битовского взгляда, битовской мысли и здесь работает в полную меру. Условности, «роли», неправде, неискренности он противопоставляет два жизненных пути, две судьбы: Резо Габриадзе, создателя знаменитого театра марионеток, и Эрлома Ахвледиани, автора притч о Нико и Вано, ставших поистине народными. Реальность жизни, реальность их пути… Да здравствует материализация идеального – вот она! Можно потрогать руками!
Битову-этику чрезвычайно важно именно это доказательство.Его отношение к человеку – в принципе – достаточно требовательно, «сурово». В том же «Грузинском альбоме» есть маленькая притча: «У одной парикмахерши умерла мать. Она очень плакала по маме, и снится ей мама. „Только не плачь, прошу, – говорит мама, – мне и так очень тяжело“. „Как – тяжело?“ – естественно интересуется дочь. „Здесь очень сурово… Здесь все есть, все справедливо. Только очень сурово“». И Битов спрашивает: «не нравственная ли норма человека сурова человеку современному?»
В «Грузинском альбоме» исследуются проблемы времени и поведения человека в рамках этого времени, проблемы правды и «разрешенной» правды, «дозволенной» смелости. И все они исследуются не абстрактно, а в связи с конкретными человеческими судьбами. Норма писательской честности, по Ахвледиани, например, – «не изменять своему развитию». Норма искусства – это писать любовь – любовью, горе – горем, человечность – человечностью…
Много говорилось в критике и продолжает говориться – о пресловутом «интеллектуализме» Битова. В одном из телевизионных выступлений на провокационный вопрос о собственном интеллектуализме Битов, улыбнувшись, ответил, что не представляет себе вообще прозу вне интеллектуальности: всякая проза интеллектуальна, требует работы мысли. Но словечко «интеллектуальный» звучит как-то подозрительно, несет в себе оттенок чего-то компрометирующего: ох, этот интеллект в ущерб душе и т. д. Решительно не могу с этим согласиться. Во-первых, потому, что Битов, на мой взгляд, писатель сентиментальный. Он, как мы могли убедиться, испытывает тяжелые моральные затруднения при необходимости расстаться с героем, «убрать» его из повествования. Он никогда не стесняется своих слез. Он плачет, видя, как дрожит пенсне Чехова от грузовиков, мчащихся по Садовому кольцу. Он не может равнодушно видеть «мерзость запустения», заполнившую место, где была разрушена культура. Он способен страдать от смерти чайки, которая на самом-то деле жизнерадостными орнитологами уподоблена летающей крысе. У него болит сердце при виде дырочки в дуэльном сюртуке Пушкина…
Да и разве может не «сентиментальный дурак» отдать столько любви какой-то там чужой в принципе земле? Ощутить двойственность положения «захватчика» и моральную его ответственность?
…Интеллект Битова не первичен. Он не просто хорошо развит – он этичен, суров и строг по отношению к человеку, тем более наделенному творческими способностями, в том числе и к себе самому. Так, одна из заповедей в его «этике» отдана молчанию, его ценности и необходимости для пишущего.
Почему, например, мы мало пишем? По сравнению с классиками и не классиками – XIX века: только и делаем, что работаем, сидим за письменным столом, а в конце, смотришь, лишь единотомник или в крайнем случае – двухтомник…
Этот простодушный «вопрос Иванова» приводит Битова к размышлениям о взаимоотношении времени и писателя. «Мы хотим научиться, а надо быть.Вот и вся задача. Быть.Позволим ли мы для начала себе это? Потому что без этого, справедливо, нельзя, незачем, праздно и темно брать перо в руки. Надо попробовать осуществить те ценности, которые мы хотим на бумаге, в себе».
Битов мог бы адресовать упрек времени, той «эпохе распределения», конформизма, которая многим не позволила, казалось бы, осуществиться. Сколько вокруг неосуществившихся судеб, нереализованных замыслов, неродившихся идей! Но он снимает «упрек с нашего времени» («в ссылке на время есть нечто непорядочное»), перекладывая ответственность на нас самих. В конце концов, книги и есть поступки писателя. И плохая книга есть дурной, антиобщественный поступок, а не просто плохая книга. А писатель должен быть прежде всего благородным человеком. Иначе – все неблагородство, вся непорядочность вылезет, выдастсебя в слове. В конце концов, если нельзя писать то, что должен, лучше не писать «применительно к обстоятельствам». «Нет правильного пути в неправильных обстоятельствах. Обстоятельства всегда правильны – это те, которые даны. Есть неправильный путь».
Сурово. «Слово не дается тем, кто неправильно к нему подходит. В той или иной степени все затруднения писателя в его письме – этические. Не только осторожность или смелость, не только гражданственность или независимость – не только это есть, пусть главная, этика писателя… Есть еще этика обращения со словом, с героем, с мыслью – этика почти не описанная, не изученная, лежащая в основе».
Не потому ли, не этой ли следуя этике, и не смог Битов за пятнадцать последних лет предложить читательскому вниманию героя «литературного»? Его героями стали и Армения, и Грузия, и Пушкин; и реальные наши современники – не литературные обобщения, не «типы» или «характеры», а именно реальные лица из живой плоти и крови. Тоска Битова по воплощению идеального материализовалась именно в них – и в той любви, с помощью которой он и писал о своей любви к ним.
В конце концов его реальнымигероями стали люди, выдерживающие пристальный взгляд требовательного автора, нашедшие свою судьбу, исполнившие свое предназначение, будь то Пушкин, Руставели, Матевосян, Пулатов или Габриадзе (да простит меня читатель за столь неожиданный ряд, но этот ряд – Битова, не мой). Думаю, что мало кто из современных писателей сможет похвастаться не только таким количеством, но и таким качеством так называемых «положительных» героев. И в этом тяготении к людям, угадавшим свою судьбу, выстоявшим и победившим, приоткрывается судьба самого автора, который в этих героях реализует свой идеал.
В конце концов, в жизни действительно, как это ни парадоксально, всегда есть место поступку. Исключению из «правил игры». Он и писал о таких поступках духа, будь то Руставели, Пушкин или Габриадзе (опять простите за неожиданный ряд, но – каждый в своем роде…). А для рождения литературного героя Битову необходимо… помолчим о том, что ему необходимо, – чтоб не сглазить.
Не будем заниматься прогнозами. Как правило, они в литературе не оправдываются.
Наше дело было показать, как Битов проживает свою судьбу. Как он реализует свой идеал. Как этика писателя определяет его поэтику, сурово диктует ему и слово, и молчание.
Кто-то сказал, что писатель в России должен жить долго…
1986, 1987








