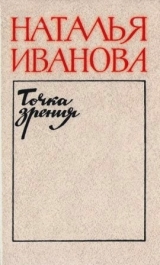
Текст книги "Точка зрения"
Автор книги: Наталья Иванова
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
Мать – матерь – Матёра: материнская основа, материнское начало, уходящее из жизни, смерть матери – все это сконцентрировано В. Распутиным в образе острова Матёры, уходящей под воду, образе столь же конкретном, столь и обобщенном – природно-историческом. Рассматривать «Прощание с Матёрой» только как повествование о конкретном случае – значит останавливаться лишь на поверхности текста. Как дерево Листвень крепит своими корнями, по преданию, Матёру к земле, так и образ В. Распутина уходит вглубь, обретая многослойный смысл. Матёра – это и реальный остров с населяющими его людьми, со старухой Дарьей, Богодулом, это и символ уходящего многовекового уклада – «Атлантиды крестьянской жизни», по точному определению А. Адамовича. Или – фольклорного «острова Буяна»? «На море-окияне, на острове Буяне»… «Некстати вспомнилась Дарье» эта «старая и жуткая заговорная молитва», замечает автор. Но нет ничего здесь «некстати», прекрасно понимаем мы. Остров Буян, расположенный посреди моря-окияна – сказочное средоточие, прообраз счастливой и богатой земли (от фольклора – через сказку Пушкина – унаследованный Распутиным в Матёре), как, кстати, и «болотце с лягушкой» – премудрой царевной-лягушкой, постаревшей Василисой – старухой Дарьей… Но этот же образ неразрывно связан и с прамотивом материнства, столь существенным для прозы В. Распутина в целом. Самым сильным художественно выражением этого прамотива и явилась распутинская Матёра.
История Матёры уходит далеко в века – «триста с лишним лет назад» надумал поселиться на острове « первыймужик», матёринский Адам. На маленьком острове этом В. Распутин умещает весь мир: «было где разместиться и пашне, и лесу, и болотцу с лягушкой». Была в деревне и своя церковь, и своя мельница; дважды на неделе садится на остров самолет – «в район народ приучился летать по воздуху». От церквушки со сбитым крестом – до самолета: ничто не обошло, не миновало Матёру, и история, и цивилизация оставили на ней свой след. «От края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре». Матёра – это и сжатая, сконцентрированная в маленький остров Земля, это и живая история этой земли – от разбойников до казаков, от арестантов до колчаковцев. «Знала пожары, голод, разбой»; «И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались другие». В. Распутин подчеркивает унаследованную от века естественность самого хода жизни, явно перекликаясь с классическим – «И наши внуки в добрый час Из мира вытеснят и нас!». Та же природно-историческая, естественная и закономерная цепь, в которой одни поколения сменяются другими… Но происходит внезапный слом, остановка: то, что для современного сознания – обычная история (затопление острова), для Матёры – трагедия нарушения естественного хода жизни, насильственного его изменения. Иным словом, чем катастрофа мира Матёры, это и не обозначишь, – тем невыносимее для Матёры, что это – дело рук человеческих. Ведь порубщики и пожогщики – ее же дети, вчерашние «мужики», как и сын Дарьи, внук ее Андрей. Одной из ключевых, эмблематических сцен в повести является разрушение старого кладбища, воспринимаемое матёринцами как надругательство над их прошлым. Естественное вытеснение одного поколения другим заменено убийством полного соков дерева-Лиственя, искусственным прекращением жизни, насилием, уничтожением «огнем и мечом» – топором и пожогом.
Неразрешимо? Необратим ход событий, сомкнутся волны над Матёрой? Надо строить ГЭС, не может не идти вперед цивилизация – но ведь и культура Матёры исчезает! Обе – правы? В том-то и состоит подлинный трагизм предложенной В. Распутиным ситуации: писатель не облегчает задачу, списывая гибель Матёры на исторический процесс, на «времена».
Сравним современную интерпретацию мотива матери-природы с гоголевской. Если в перевернутом «петербургском» сознании Поприщина вдруг возникает как мечта и реальная поддержка матушка и природа – или природа-матушка: «Вот небо клубится передо мною, звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем, сизый туман стелется под ногами; …вот и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном?» – сыновний крик о помощи, обращенный к матери-природе, – то в сознании потомков Дарьи (и Матёры!) при мысли об обреченности самой Матёры ничего не возникает.
Повесть «Прощание с Матёрой» напечатана в 1976 году в журнале «Наш современник». В начале того же года в «Дружбе народов» появилась новая повесть Ю. Трифонова «Дом на набережной».
И тут, и там – дом. Дом на краю воды. Дом – модель мира. Только если у В. Распутина это самообеспеченный остров, на котором есть все– и пашня, и лес, и даже болотце с лягушкой, то у Ю. Трифонова – это не природная, а социальная модель действительности. В доме на набережной и в соседнем домишке на Дерюгинском подворье тоже есть все:и красная профессура, и НКВД, и скромные совслужащие с девизом «не высовываться», и дворник, и швейцар, и мелкая шпана, и уголовники, – каждой твари по паре представлено и на этом «острове», как бы плывущем по волнам истории, омываемом временем. Где сейчас герои повести? Смыло, унесло, затопило: «они… плывут, несутся в потоке, загребают руками… меняются берега, отступают горы, редеют и облетают леса…» Мотив потопа, кстати, явно родствен у Трифонова мотиву пустыни:«Вот так в песках пустыни открывают давно сгибшие и схороненные под барханами города – по контурам, видимым лишь с большой высоты, с самолета. Многое завеяно песком, запорошено намертво». Как пустыня, так и поток смывает все следы, все усилия человеческие: «Проходят десятилетия, и, когда уже все давно смыто, погребено, ничего не понять, требуется эксгумация…» Эксгумация – это то, чего не желает видеть и знать Глебов, но чем занят автор, эту тяжелую обязанность не в состоянии разделить с ним ни один герой: всех унесло, запорошило, смыло; только Глебов не «утонул», вынырнул; однако его в роли раскопщика прошлого представить себе невозможно – он не желает ничего помнить.
Мотив эксгумации есть и в «Прощании с Матёрой». Перед назначенным переездом в поселок люди выкапывают, переносят на новое местожительство прах предков, в надежде, видимо, унести с собой и духовную крепь с ними. Зачем? «А они держат нас» – центральная мысль одного из «болгарских» (1966) рассказов Ю. Трифонова «Самый маленький город», как бы отвечающего на этот «распутинский» вопрос. Есть, конечно, и в мире Матёры свои «беспамятные» и отступники, есть свои Глебовы, у которых намеренно короткая память. Клавка Стригунова так и говорит: «Давно надо было утопить. Живым и не пахнет… Не люди, а клопы да тараканы. Нашли где жить – середь воды… как лягушки…
И ждала, не могла дождаться часа, чтобы подпалить отцову-дедову избу и получить за нее оставшиеся деньги».
Но есть и свои памятливые, помнящие о «кладбище, пристанище старших». Остров – «твердь», вокруг него – не просто вода, а «течь», противоположная по составу своему основе, Матёре. «Черная вода», как пишет об омывающей дом на набережной воде Ю. Трифонов. «Волны сомкнулись над ним», «до потопа» – все это слова из трифоновской повести.
В «Прощании с Матёрой» одним из ключевых эпизодов является предфинальный – остров Матёра как бы уходит, теряется в тумане: «Все сгинуло в кромешной тьме тумана». Плывет на катере Павел, сын Дарьи, кричит в тумане: «Ма-а-ать! Тетка Дарья-а-а! Эй, Матё-ра-а!» («…струна звенит в тумане… Матушка, спаси твоего бедного сына!» Но, в отличие от гоголевского «кромешного мира», у В. Распутина не сын обречен, а мать…). Не откликаются ни мать, ни Матёра, объединенные в последнем крике Павла. «Кругом были только вода и туман. И ничего, кроме воды и тумана».
Так и дом на набережной растворяется в тумане прошлого, погружается в волны, исчезает навсегда. «Дом рухнул», – пишет Трифонов. Остаются – Павел («Прощание с Матёрой») и Глебов («Дом на набережной»). Лишь они выплыли из этого потока.
Ценностное отношение Трифонова и Распутина к исчезающему в волнах неизбежного времени «дому-острову» разное. Да и сами эти два «острова» во многом противоположны, слишком разные на них обитают жители. Но само совпадение художественных ситуаций в обеих повестях, явная перекличка мотивов обнаруживает неожиданное родство Распутина и Трифонова, несмотря на все внешнее несходство (расцененное критикой даже как противоположность). «Воды глубокие плавно текут», – сказано Пушкиным; и эти «глубокие воды», питающие художественную мысль и Трифонова, и Распутина, на самом деле текут из одного социально-исторического и культурного источника.
Основанные на глубокой литературно-исторической прапамяти, злободневные самой «протяженностью» мысли, произведения этих двух прозаиков непосредственно связаны и с «Медным всадником», отчетливо поставившим неразрешимую проблему противоречий между вымечтанным личностью достоинством частной жизни и – торжествующей государственной и исторической необходимостью, приводящей личность к краху и безумию.
Помимо писателей, открыто заявляющих свою родовую связь с фольклором и явно включающих фольклорное художественное мышление в состав своей «крови» (тот же В. Распутин), несомненное влияние фольклора можно обнаружить и у столь «литературно-письменного» прозаика, как Ю. Трифонов.
Так, треугольник «Ганчук – Соня – Глебов» – своеобразная модификация традиционного фольклорного треугольника «царь – царевна – Иванушка-дурачок». Глебов так же «мыряет» в ганчуковские «терема», как Иванушка «мыряет» к царевне. Нелепый в своей огромной шубе, Ганчук похож не только на «купцов Островского», как указывает в тексте Ю. Трифонов, – он похож и на проигравшего в споре с Иванушкой незадачливого сказочного царя, в прошлом – героя и рубаку («Ганчук – это звучало страшновато для врагов»). Недаром образ Ганчука связывается Трифоновым с бывшим румянощеким богатырем, «Ерусланом Лазаревичем». А обитает этот – в прошлом «богатырь» и «царь» – в «тереме», откуда все остальное, даже кремлевские дворцы видны сверху, с птичьего полета (об этом, кстати, думает «мырнувший» Глебов: «каждый день видеть дворцы с птичьего полета!»).
Даже к Глебову Трифонов подбирает пародийно-фольклорный аналог, подсвеченный современным арго: «Это было, как на сказочном распутье: прямо пойдешь – голову сложишь, налево пойдешь – коня потеряешь, направо – тоже какая-то гибель. Впрочем, в некоторых сказках: направо пойдешь – клад найдешь. Глебов относился к особой породе богатырей: готов был топтаться на распутье до последней возможности, до той конечной секундочки, когда падают замертво от изнеможения. Богатырь-выжидатель, богатырь – тянульщик резины. Из тех, кто сам ни на что не решается, а предоставляет решать коню».
Ю. Трифонов явно и резко снижает фольклорные прообразы своих героев. В. Распутин в высшей степени серьезенв подключении своей прозы к фольклорной основе. И сама Матёра (остров Буян) с Лиственем и «хозяином», и образ матушки (старуха Анна и старуха Дарья) насыщены фольклорным смыслом, углубляющим современную проблематику, проясняющим ее онтологический смысл.
В. Маканин в повести «Где сходилось небо с холмами» связывает смерть матери с сюжетным развитием повествования. Оговорюсь: эта смерть – не только смерть реальной матери. Аварийный поселок, где прошло детство композитора Георгия Башилова, замещает мальчику родительский мир и родительскую опеку.
О смерти матери и отца сообщается в самом начале повествования в подчеркнуто спокойной, эпической интонации, хотя эта смерть не естественная(насколько может быть естественной смерть), а внезапно-катастрофическая (родители погибли во время пожара на заводе). Эпичность повествования о смерти и похоронах подчеркнута образами солнца, степи, деревьев: «Солнце сияло, на столах под кленами еда, а мамку и папку похоронили – надо играть. И раннее утро, вокруг пьют и поют – надо играть. Мальчик свесил на гармонику голову, а люди, вдруг заговорившие разом, обожженные, пьяненькие, объясняли ему, что никто никогда так замечательно не играл, как он». Дар мальчика сразу связывается со смертью родителей. Родина замещает ему мать. Как в образе Матёры В. Распутин сочетает идею родового места с образом конкретной матери – старухи Дарьи, так в образе аварийного поселка В. Маканин тоже сочетает образ родины – и матери, родины-матери. Но – по сравнению с В. Распутиным – В. Маканин резко меняет пейзаж, освещение, цвет. Аварийный поселок – тоже своеобразный островв мире. Три барака, стоящие буквой «П», с четвертой стороны как бы закрытые заводом, замыкают пространство этого мира («поселок был совсем невелик… и ничего не стоило обойти его кругом, особенно летом»). Это остров в степи, отделенный от остального мира невысокими холмами, – «где сходилось небо с холмами». « Междомьемзвалась внутренняя часть „П“, всегда солнечная и жаркая…» Поселок и его жители, увиденные глазами ребенка, тоже окрашены фольклорной образностью: «детство… сделало их в глазах мальчика великанами, громадными людьми». Однако никакой ожидаемой фольклорной идилличности в этом образе поселка нет – недаром он аварийный. Но катастрофы случаются в нем столь часто, что они воспринимаются жителями уже и не как катастрофы, а как запрограммированная закономерность жизни, характеризующаяся ритмической повторяемостью. Этой повторяемости В. Маканин дает специальное, как бы простодушно-эмпирическое обоснование: «Завод был в значительной степени автоматизирован, но старого образца, так что пожары случались и более того – были предусмотрены». Это конечно же специально «ложный ход», ложная причина; но от повторяемости и ритмичности, от всей этой запрограммированности рождается образ поселка, свыкшегосясо своей неестественной катастрофичностью, ставшей уже как бы и естественным образом жизни.Люди привыкли. «Над плоским заводом стелились живые красные клубы дыма», «подвижное и живое: восходящие клубы дыма», «шевелящиеся клубы дыма», «дым был черный, дым стелился» – постоянная деталь поселкового пейзажа, еще более угрожающая своей обыденностью и постоянством. Трубы завода дымят, как трубы крематория, – испуская «живой» дым, в котором сгорели и родители будущего композитора: «Отец сразу и умер, обгорев, а мать еще дышала». Ничего не осталось в поселке, связанного с красотой народной жизни, – ничего, кроме песни. Люди, живущие здесь, не смогли «опредметиться» ни в чем – ни в архитектуре, ни в резьбе по дереву, ни в утвари. Быт их гол и некрасив. Материальная культура поселка крайне примитивна и вызывающе неэстетична. Таким образом, песня здесь является не одной из форм народного сознания, а единственной и центральной формой.
Аварийный поселок тоже уходит под воду времени, как и Матёра, как и Дом на набережной. Мы и здесь можем сказать, что «волны сомкнулись над ним».
Три раза приезжает в поселок ставший уже столичным жителем, а затем – и композитором с мировой известностью Башилов. И три этих посещения фиксируют постепенное исчезновение того уклада жизни, при котором прошло детство героя. Уходят в землю поставленные в междомье столы, за которыми собирались все жители поселка, пели и плакали, и поминки и свадьбы справляли. Сначала – чуть покосившиеся, затем – разбитые, а в конце концов: «Столов не было, на их месте в земле торчали остатки опорных столбиков, гнилых, не достававших Башилову и до колена. От скамей тоже осталось мало: из шести уцелела одна, притом была полуповалена и одним концом лежала прямо на земле». На этом аварийном «острове» тоже были свои «великаны», свои мудрые старухи. Умирают жители, приходят на их место люди новые, и песен, и обычаев не знающие. Да и старых как будто подменили: дед Чукреев, у которого Башилов спал в детстве, теперь требует с него полтинник, проявляя прагматическую цепкость и полное отсутствие лирических воспоминаний о далеком прошлом. Полтинник за койку – вот чем встречает героя его «малая родина». Да уже и не родина вроде – одно лишь географическое место. Родовые связи порваны – и отнюдь не усилиями «городского» композитора (что было бы ожидаемо). Родовое место исчезло. Вместо него – новый поселок, с новыми жителями и новыми отношениями. Мать умерла —теперь уже окончательно. Отношений потомка с предками нет. Предков как подменили: нельзя же считать все тем же стариком, согревавшим сиротское башиловское детство, Чукреева, о котором теперь сказано – «такой шустрый, улыбчивый, такой деловой старик». Дед становится «умником». На противоположном конце авторской мысли – блаженный дурачок Васик, безумный,единственный хранитель родового места, музыкальной, песенной памяти. Васик – блаженный, мычащий, вечный, обиженный «взрослым» миром ребенок («они меня бьют»).
Перерождение началось давно.
Не с людей даже – а с их песенного дара.
Дар этот существует от века.Как раньше говорили – дар божий: «Аварийщики пели не только на поминках – они пели и при рождении ребенка…» Дар народный, не индивидуальный; поют все —и женщины, и мужчины, и взрослые, и дети, поют всегда– как птицы поют: «и пели просто так, от скуки, долгими вечерами». Уральские казачьи песни не «изображаются» В. Маканиным в тексте, он лишь называет их. Прирожденная, народная песенность – неотъемлемая черта образа жизни аварийщиков, а не просто чей-то отдельный талант – заявлена в повести как данность, не нуждающаяся в объяснении или даже изображении. В. Макании не показывает, какони поют. Поют – и все, этого достаточно.
Дар исчезает. Это – плата. Был у некоего Ахтынского великолепный голос; отвез он Жорку Башилова в Москву, поступил тот в музыкальное училище – а дар (голос) у Ахтынского и исчез. С одной стороны, В. Маканин дает этому случаю вполне реалистическое обоснование: дорвался, мол, Ахтынский в Москве до ледяного пива. С другой – оставляет причинно-следственную ниточку, ведущую к успеху Башилова.
Закон сообщающихся сосудов.
Башилову – училище, у Ахтынского – голос долой.
Башилову – талант, европейская слава; а из поселка песня ушла. Исчезла.
«Все соки высосал», – бросает в лицо Башилову бабка Алина. Чем лучшеБашилову – тем хуже(не в смысле материальном, нет, музыкауходит, душа) поселку. Сознание своей вины мучает Башилова: «Ты ведь знаешь, я виноват перед своим поселком, я виноват».
Но ведь дитя гармонии Моцарт не уменьшает музыку в мире – напротив, он ее преумножает. Уменьшает Сальери.
Дитя аварийного поселка увозит музыку с собой. Почва скудеет.
Есть в таком споре В. Маканина с традиционным пониманием взаимоотношений «высокой» и «низовой» культуры современная жесткость взгляда.
То, что лежит в основе авторской позиции В. Распутина (чувство вины, которое неведомо прямым сыновьям и внукам Дарьи), В. Маканиным персонифицировано в герое.
Кстати, тут В. Маканин повторяет свою собственную схему – только на ином витке. Сюжетной основой рассказа «Ключарев и Алимушкин» является то, как – независимо от личных намерений – успех и благо жизни словно перекачиваются от Алимушкина к Ключареву, который преисполняется чувством некоторой неловкости (как Башилов преисполняется чувством вины). В конце концов Алимушкин помирает, а процветание Ключарева идет по нарастающей.
Ключарев – как герой – появился затем в маканинской повести «Голубое и красное». Ключарев там – десятилетний ребенок, чье детство проходит в бараке аварийного заводского поселка.
Оттуда в новую повесть перешел и сам поселок, а пара «Ключарев – Алимушкин» преобразилась в пару «Башилов – аварийный поселок».
Отношения героя с «малой» родиной-матерью драматичные. Превращение ее из матери в мачеху очевидно. Вместо родственного утешения Башилов слышит одно: «Пошел отсюда!» Башилов хочет припасть к «истокам», к «корням» – а «истоки» исчезли. А вместо «корней» – сарайчик с «запорожцем» да угрюмый «племяш», которому вся эта музыкабез надобности. Башилов хочет вернуть долг, открыть в поселке школу для музыкально одаренных детей, а должок-то принять некому.
В. Маканин ужесточает ситуацию. И получается так, что именно «высокая» культура виновна в гибели «низовой». Что именно интеллигенция виновна перед народом. Хотя автор и оговаривается, что плачи, исчезнувшие в поселке, зазвучали в виолончельных сонатах Башилова, но автор же настаивает на закономерности чувства вины у композитора. Чем больше «растет» Башилов – тем меньше становятся былые «великаны».
Однако В. Маканин вводит в повествование еще одну линию – линию масскультуры, персонифицированной в ресторанном певце Генке Кошелеве. Это – как бы тень Георгия Башилова (недаром так тенево-близки по звучанию их имена и фамилии). Башилов помог Кошелеву внедриться, объективно способствует его процветанию. А уж с «музыкой» таких, как Кошелев, дело обстоит совсем ясно: как только поселковая песня адаптируется в шлягер, она неизбежно погибает. И в этом опять чувствует свою объективную вину Башилов. «Опыт не утешал своей общностью, и рискованная мысль, что композиторы прошлого также черпали и тоже истощали лоно, не облегчала ноши. А счет продолжался, счет давил, и как же было оплачивать, если из собственно сочиненных Башиловым первой и второй частей нового квартета песенники не взяли ни ноты – хитрецы, какой нюх! (Получается, что Башилов расплачивается с „народом“ посредством песенников. – Н. И.) Зато из энергической финальной темы… были сработаны искристые жизнерадостные песни… песни были талантливы, нравились, и уже год за годом вся эта веселуха звучала с эстрады, по радио – и возвратным обычным путем глушила и добивала поселковскую стихию музыки».
Проблема, которую попытался поднять В. Маканин, – это и злободневная проблема, и проблема из разряда вечных. Времена, конечно, другие; и не будет современный ремесленник Сальери доставать яд Изоры и плакать от музыки, – но вдруг отзовется у современного прозаика и пушкинский трактир (ресторан «Петушок»), и отравление композитора, правда, сниженное, травестированное: зазванный в «трактир» приятелем– музыкантом Кошелевым, он тогда отравился в ресторане вареными раками, жестоко промучился… «Остаточная интоксикация преследовала приступами: слышались то ночные шаги, то вдруг собачий лай». Отзовется и австрийскими музыкантами, и композитором С. В лейтмотиве повести отчетливо слышен прамотив.
Все реальное (и люди, и события, и их причины) носит характер абсолютно конкретный – и в то же время резко преображенный, обобщенный. Время в повести исчисляется не по годам, не течет, а пульсирует по действиям (трехкратный приезд героя). Пространство тоже конкретно (аварийный поселок) – и, однако, предельно обобщено («где сходилось небо с холмами»). Действующие лица – и люди, и эпические «великаны». Наконец, Башилов: конкретно названное лицо, но – скажем прямо – не личность, не индивидуальный характер, а функция художественного замысла.
Функциональность тоже бывает разная: схематичная и конструктивная.
В. Маканин – конструктор. Как правило, сюжеты его рассказов и повестей выстраиваются рационально, почти математически и развиваются до упора, до полной исчерпанности мысли, до последней стадии, до «агонии» (иногда и в прямом смысле слова) героя (Якушкин в «Предтече» умирает, «человек свиты» опускается на асфальтовое городское дно, неуживчивый Куренков в «Антилидере» проходит через тюрьмы и бараки, по кругам, все ниже, но не сдаваясь, ниже, ниже, пока не настигает его смерть, притаившаяся в самом начале рассказа; а иногда и начинается повествование с краткого итога, следствия, с конца– «Где сходилось небо с холмами», – а затем автор расшифровывает причину, начало). Маканин неторопливо, постепенно и закономерно разворачивает программу, как бы заложенную в судьбе человека, как программу фатально неизбежную.








