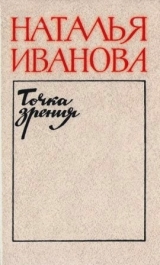
Текст книги "Точка зрения"
Автор книги: Наталья Иванова
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
II
СМЕХ ПРОТИВ СТРАХА
(Фазиль Искандер)
«Смешное обладает одним, может быть скромным, но бесспорным достоинством: оно всегда правдиво. Более того, смешное потому и смешно, что оно правдиво».
Фазиль Искандер. Начало.
О замысле повести «Созвездие Козлотура», опубликованной в журнале «Новый мир» в августовском номере 1966 года и сделавшей ее малоизвестного автора, выпустившего до того несколько поэтических сборников, знаменитым, Фазиль Искандер рассказывает так: «До этого были скитания по газетам со статьей против кукурузной кампанейщины. Я сам вырос на кукурузе, но я видел, что она не хочет расти в Курской области, где я тогда работал в газете. И я попытался своей статьей остановить кукурузную кампанию. Статью, правда, не напечатали, но писатель должен ставить перед собой безумные задачи!»
С кукурузной кампанией Искандеру справиться не удалось. Выступить в качестве проблемного очеркиста – тоже. Но упрямого абхазца это не остановило. Социальный темперамент молодого прозаика был неудержим: Искандер вскрыл и обнародовал механизм любой кампании, противоречащей здравому смыслу, ибо, как он дальновидно понимал, кукурузой деятельность активных пропагандистов по нововведениям ограничиться не может.
В «Созвездии Козлотура» Искандер живописал такую кампанию в подробном развитии: от радужных перспектив (поддержанных одним чрезвычайно высоко поставленным лицом – «интересное начинание, между прочим!») до бурного финального провала. Но как в финале драматического по накалу страстей произведения, следуя эстетике уходящего времени, должен был брезжить рассвет, герой обретать свежие силы, а автор усиленно намекать читателю на его грядущие победы, так и в финале повести уже брезжит, назревает новая, очередная кампания.
О вещах печальных и более того, социально опасных и постыдных автор повествовал в манере неожиданно-жизнерадостной. Что-что, а уныние было повествователю абсолютно чуждо. Парадоксальный этический закон этой прозы таков: постараться из неудачи извлечь как можно больше творческой энергии. Так, «для мест, подлежащих уничтожению» в очерке, повествователь делал единственное, что мог: старался их писать как можно лучше.
После появления «Созвездия Козлотура» Искандер был обвинен в «плачевном отсутствии сынолюбия по отношению к отчему краю».
Через двадцать лет он скажет в беседе с корреспондентами «Литературного обозрения»: «Сатира – это оскорбленная любовь: к людям ли, к родине, может быть, к человечеству в целом».
Но сатира молодого автора была необычной.
Смех автора был не только уничтожающим (резкая социальная направленность его была действительно очевидна), но и жизнеутверждающим. Смех словно говорил: смотрите, до чего могут дойти люди, бездумно следующие начальственным указаниям. И сколь, напротив, замечательно и удивительно жизнестойка природа, этим указаниям весело сопротивляющаяся!
В «новомирской» прозе начала шестидесятых чрезвычайно ценилось, как замечал впоследствии Юрий Трифонов, «против чего» выступает тот или иной автор. Проза эта ударяла, как мы сейчас бы сказали, в «болевые точки» общественной жизни и истории страны. Особенно высоко ценилась проза как бы совсем безыскусная, словно вышедшая из недр самой действительности. Правда искусства стремилась как можно ближе подойти к правде самой жизни, раствориться в ней. При резком повороте от лакировки действительности литература восставала против условности, как бы отказываясь от художественности. Поворот лицом к правде осуществлялся через жанры внебеллетристические.
«Против чего» направлена повесть Искандера, было ясно. Хотя написана она была совершенно иначе, чем «новомирская» проза, – легко, изящно, искрометно, вроде бы несерьезно.
В самом стиле повести были вещи озадачивающие, выбивающиеся из ткани сатиры. Девушка, разбрасывающая свидания, как цветы («Можно сказать, что в те годы она проходила сквозь жизнь с огромным букетом, небрежно разбрасывая их направо и налево»); луна, напоминающая «большой закопченный круг горного сыра» («с каким удовольствием я погрыз бы его острый, пропахший дымом ломоть, да еще с горячей мамалыгой!»); девочка, которая стояла, длинной голой ногой почесывая другую («я догадался, что она старается спрятать хоть одну босую ногу»); мужичок с олеографической картинки, улыбка которого «проглядывала из щетины его лица, как маленький хищник из-за кустов» – это все, в общем-то, мало имело отношения к сатире как таковой. Разбрасываемые – от избытка художественной энергии, буквально распирающей Искандера, с той же щедростью, с какой вышеупомянутая девушка разбрасывала свои свидания, – сцены и эпизоды свидетельствовали о широком диапазоне творческих возможностей автора, явно перерастающих сатирические рамки.
В «Созвездии Козлотура» рядом с откровенной сатирой неожиданно начинает звучать совсем иной, чужеродный, казалось бы, звук – лирическая интонация, окрашенная ностальгией воспоминаний о днях детства, о родовом доме в горном селе. После демагогической шумихи, после суеты и призрачной псевдоработы повествование переносится в другой мир, где царствует подлинность жизни, торжествует здравый крестьянский смысл, где слову отвечает дело. «Может быть, самая трогательная и самая глубокая черта детства, – замечает Искандер, – бессознательная вера в необходимость здравого смысла. Следовательно, раз в чем-то нет здравого смысла, надо искать, что исказило его или куда он затерялся. Детство верит, что мир разумен, а все неразумное – это помехи, которые можно устранить, стоит повернуть нужный рычаг». Сказано с явной грустью. Если в детстве эта вера была закономерной, то у молодого повествователя она уже явно поколеблена. Козлотуризация полностью противоречит здравому смыслу, но идет полным ходом, ибо крестьянина никто не спрашивает – он полностью отстранен от обсуждения сельскохозяйственных нововведений.
Многое объединяло Искандера с «иронической» молодежной прозой, прозой товарищей Искандера по журналу «Юность» (там он в 1962 году начал печатать свои рассказы).
Отрицали они одно и то же, противник был общий. Но что решительно ставило Искандера в особое положение – это здоровый дух созидания, опора на ценности народной жизни. Этот дух, как здоровый крестьянский запах хлеба, молодого вина и трудового пота, исходит от его прозы. Герои-шестидесятники, как правило, пытались вырваться из своей среды, уйти, улететь, уехать из опостылевшего гнезда, гневно рассориться с омещанившимися родственниками. Типический герой-бунтарь того времени гневно сокрушал полированную мебель в родительском доме. Интонация и мысль Искандера о родительском доме совсем иная: «Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зеленым двором, со старой яблоней (обнимая ее ствол, лезла к вершине могучая виноградная лоза), с зеленым шатром грецкого ореха, под которым, разостлав бычью или турью шкуру, мы валялись в самые жаркие часы».
Время в рассказах Искандера тоже было совсем другим, чем в «молодежной» прозе. Там время повествования как бы совпадало с процессом чтения, действие происходило сейчас, сегодня, в настоящем. И герой-«бунтарь» совпадал в принципе по возрасту и с читателем, и с писателем.
Возраст героев рассказов Искандера иной, и время действия – другое: предвоенные годы, война, после войны.
Подлинным открытием прозы Фазиля Искандера стало то, что мир был увиден двойным зрением: глазами ребенка – наивного, простодушного, беззащитного в своей чистоте – и глазами взрослого, вспоминающего из «сегодня» свое детство.
Переезд Искандера в Москву сыграл в выборе такой оптики, я полагаю, решающую роль.
Нет, ничего плохого, «разоблачающего» городские нравы Искандер о Москве не пишет. Интонация его рассказов о Москве остается спокойной и сдержанной. Сын Кавказа не обрушивается на столицу с гневными филиппиками. Сам облик города, его климат, его вечное беспокойство и суета, определяющие во многом и характер горожан, описаны им чрезвычайно корректно, но с явным чувством ностальгии по теплу и солнцу родной Абхазии, по шуршанию волны по гальке, по духу двориков и кофеен, по духу братства и добрососедства.
«И уже нет мамы, нет ничего, – так заканчивает Искандер „Большой день большого дома“ – рассказ о семье своей матери, о чувстве рода, о расцветающей красоте девичьей жизни. – Есть серое московское небо, а за окном, впиваясь в мозги, визжит возле строящегося дома неугомонный движок. И машинка моя, как безумный дятел, долбит древо отечественной словесности…»
В этом мире «серого неба», в атмосфере бесконечной тревоги москвичей по поводу завтрашней погоды (рассказ «Начало») – тревоги, закономерно ставившей абхазца в тупик, ибо не в поле же им завтра выходить! – естественным было внутреннее движение к самому ценному, самому святому времени, к «раю», оставленному там, то есть к миру детства. Глаза, душа ребенка позволили Искандеру и сказать горькую правду о времени, и не утратить ощущение вкуса, красоты жизни. Искандер вернулся в мир детства – «непомерного запаса доверия к миру», отрицая тем самым явное недоверие современного «неправильного» мира к человеку, с которым он столкнулся, например, после «Созвездия Козлотура». Искандер не просто «разоблачал» неправильность реальных обстоятельств, а противопоставил им свой мир.
В одной из бесед Искандер высказал следующую мысль: «Человек – существо идеологическое. Начиная от сапожника (или сына сапожника, неважно) и кончая, скажем, философом Кантом, человек создает в своей голове образ мира и действует в основном в согласии с этой созданной в голове моделью. Если нам кажется, что тот или иной человек не подчиняется никакой модели, не имеет своего идеологического дома, то это только означает, что моделью ему служит цыганская палатка, которую он свертывает и разворачивает там, где ему это удобно». Герои Искандера действительно идеологичны. И Колчерукий, и Сандро, и Чик, и бригадир Кязым, и дедушка его, да и многие другие поступают и действуют, реализуя в жизни тот образ мира, который они несут в себе. Так, дедушка, простой неграмотный крестьянин (рассказ «Дедушка»), преподает внуку не только уроки трудолюбия, но и уроки истории и этики, заставляя его задуматься над тем, скажем, что доносчик все равно кончит плохо, какую бы высокую должность он ни занимал, что любезные романтическому сердцу внука абреки «не обязательно гордые мстители и герои… что они могут сжечь сарай или ни с того ни с сего убить человека». Дедушка мягко, ненавязчиво учит ребенка критически, трезво смотреть на действительность, ненавидеть ложь, любить и понимать природу. При этом он чужд какого бы то ни было морализаторства.
Авторскую позицию Искандера можно уподобить этой позиции. Прозу Фазиля Искандера отличает высокий этический пафос, но пафос не морализаторский, не авторитарный.
Чик живет не просто в городе, доме, квартире. Он живет во дворе, и этот двор и есть художественное пространство этого мира. Жизнь вынесена во двор. Здесь готовят пищу, пьют кофе, ведут беседы и философские дискуссии, спорят и мирятся, отдыхают. Продавец Алихан парит свои больные ноги, сумасшедший дядя Коля влюбленно подсматривает в щелочку за неряшливой Фаиной, Сонькиной матерью; Богатый Портной ведет свои наблюдения; тетушка Чика угощает свою очередную подругу, Чик купает дворовую собаку Белочку, «последний русский дворянин и первый советский хиромант» гадает простодушным женщинам, вытирающим о фартуки свои натруженные руки, бывшая красавица Даша жарит на мангале мясо. Здесь же растет любимое дерево Чика – инжир, забравшись на который, можно скрыться от врагов… Этот двор, где квохчут куры, куда залетает ястреб, заезжают лошади, приходят коровы, – своеобразный ноев ковчег. Рядом – море, куда Чик мчится с Белочкой и с оравой таких же сорванцов. И побережье, и город Мухус, в названии которого легко прочитывается перевернутый «Сухум», – лишь продолжение того же двора. Во двор может зайти и бандит – но это будет «свой» бандит, как Керопчик, которого унизил бандит чужой; и Чик испытывает впервые чувство ужаса от унижения на твоих глазах другого человека («Животные в городе»).
В этом дворе перемешаны языки. Это «котел» языков, малый «вавилончик». Здесь живут абхазцы, русские, греки, персы, турки, евреи. Сумасшедший дядя Коля говорит на «затейливом языке из смеси трех языков». Уважение к другой нации здесь складывается естественно, оно входит в условия мирного дворового сосуществования, которое является больше чем сосуществованием – людей объединяют нити привязанности, дружбы, любви.
Действие повестей и рассказов о Чике происходит как бы одновременно – время живет и пульсирует в одной точке. «У меня такое впечатление, – говорится в рассказе „Долги и страсти“, – что все мое детство прошло под странным знаком заколдованного времени, – моя тетушка за все это время никак не могла выскочить из тридцатипятилетнего возраста». Это волшебное время детства: один длинный-длинный, непрекращающийся день с короткой южной ночью («Ночь и день Чика»), лишь подчеркивающей радость ожидания грядущего дня. Этот день чрезвычайно подробен, богат происшествиями, приключениями, событиями, ошеломляющими открытиями. Например, Чик с друзьями решил пойти за мастикой, сосновой смолой, из которой дети делают жвачку. Этот поход написан как эпический. Автор подробно, любовно описывает и тщательные сборы детей, и отношение их друг к другу, и испытания на пути к «счастью» обладания мастикой – то на детей бросается, играя, щенок волкодава, то нужно избежать встречи с «рыжеголовыми» – детьми первого советского хироманта, облюбовавшими сосны для себя; то необходимо вступить в драку, дабы поддержать свой авторитет. В этом походе проверяются и крепнут лучшие качества детей: вот уже и Ника не такая капризная, и Оник смелеет, да и Лесик с честью прошел весь путь. Не говоря уж о Чике, проявившем храбрость, самообладание, выдержку, волю к победе, – справедливом предводителе своей команды.
Мухусский двор вместил в себя не только разных по национальностям, по характерам детей и взрослых. Это не только «место», но и «время»: маленький его срез. Но срез, свидетельствующий о целом. Здесь живут и «богатые», и «бедные» – так их воспринимает Чик. Есть Богатый Портной, отец Оника, есть и Бедная Портниха – мать Соньки. Есть и бывший нэпман, опустившийся на самое дно, дошедший до торговли каштанами (ниже, по мнению Богатого Портного, не бывает. Зато его положение, отмечает автор, «отличалось диалектической прочностью» – когда человек уже сидит на земле, ему не страшно падать). Здесь живет семья репрессированного Паты Патарая – великого танцора, арестованного за то, что «танцевал перед начальником, оказавшимся вредителем». Слова «вредитель», «шпион» привычны в разговорах детей. Это – тревожные знаки времени. Гнусный собаколов, размышляет Чик, послан этими самыми вредителями, дабы отвлекать людей от дела. «В те времена очень многих людей подозревали в шпионстве. Чик сам в этом подозревал дядю» – сумасшедшего Колю… Дети пока не понимают, что кроется за этой шпиономанией, но инстинктивно ощущают что-то неладное: Чик, который знает о судьбе Патарая, трогательно заботится о том, чтобы до ушей Ники это не дошло. Оберегающие друг друга в эти страшные времена дети – вот высокий образ гармонии, противостоящей жестокости и несправедливости общества.
Двор – своего рода оазис взрослых человеческих отношений.
В мухусском дворе торжествуют доброта, внимание, участие, противостоящие официальной жизни, исполненной лозунгов, тревог и страхов. Двор – неформальная община, «неофициальное» государство в государстве, вырабатывающее свои законы, свою конституцию, свои «наказания» и поощрения. Живут здесь изгои, «бывшие», пострадавшие, отброшенные, не принятые властью или ущемленные ею. Но эти «отброшенные» не только остаются людьми, но и живут по законам высокой человечности и взаимопомощи. Даже любовное отношение их к животным говорит о многом – о бескорыстии, чистоте, духовности, внутренней опрятности, подлинной интеллигентности. Это маленькая республика, в которой правит своя справедливость. Здесь никто не обладает полнотой власти, никто не стремится к диктаторству – все равны, и бабушка, наделяющая соседей фруктами из своего сада, делит их поровну. Жизнь во дворе управляется естественными законами человеческого общежития, не приемлет бесчеловечности, унижения слабого, осмеяния убогого. Сумасшедший дядюшка Чика живет здесь не только в безопасности, но в атмосфере любви и приязни. Даже добродушные шлепки, которые отпускает ему портниха Фаина, в которую он безнадежно влюблен, свидетельствуют об отношении, а не о равнодушии. Ф. Искандер тонко и ненавязчиво отделяет «народ» от «толпы». Народ – это «вечнозеленый храм личности» («Утраты»), сохраняющий и умножающий достоинство человека. Двор – это народ. Толпа – это безумие стадиона, например: Чик хорошо чувствовал «многостороннюю, как бы уходящую в бесконечность глупость толпы» («Защита Чика»).
Жизнь семьи в пространстве такого дворика существует вне замкнутого пространства комнаты, вне четырех стен: она как бы вынесена – через балкончики, распахнутые окна, веранды и галереи – на воздух, на площадку двора. Она открыта всякому взору, не отчуждена, не занавешена. Все жизненные проявления становятся публичными, откровенными. Жизнь дворика в Мухусе – народная жизнь, а дерево, растущее в саду, перевитое виноградом, дерево, на котором, как обнаружил Чик, так славно и удобно сидеть, становится священным древом жизни, как бы перевитым судьбами людей, здесь обитающих.[35]
Чик – поистине дитя народа, впитавший в себя лучшие его качества. Он жизнелюбив и стоек, справедлив и совестлив: «Во всяком случае, Чик точно знал одно, что та часть головы, которая определяет, что справедливо и что не справедливо, у него работает очень здорово. Это Чик не сказал бы про многих взрослых» («Ночь и день Чика»). Он не приемлет предательства в самых разных и тонких его проявлениях. Нравственное чувство Чика необычайно развито. Он, например, чувствует неловкость, если драка несправедливая, не может серьезно драться с мальчишкой, если тот меньше, слабее его. Защищает ребят, которые не могут за себя постоять. Он щедр; исходя из собственных «богатств», готов поделиться всем, что у него есть. Чик «никогда не будет чувствовать себя счастливым, пока собаколов в городе». Чик остро реагирует не только на несправедливость, но и на напыщенную глупость взрослых, на их фальшивость: «Когда Чик был совсем маленький, он, слушая, как во дворе один взрослый, разговаривая с другим, говорит одно, а думает про другое, считал, что это такая игра. Чик замечал, что и другой взрослый при этом думает совсем про другое, так что никто никого не обманывает. Он толком не понимал, почему они в конце игры не рассмеются и не скажут о том, что они хорошо поиграли» («Ночь и день Чика»). Он сам, например, не может удержаться от искреннего смеха, если, скажем, учитель русского языка Акакий Македонович заставляет детей заучивать чудовищные вирши собственного изготовления:
Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране?
То ли вместе, то ли врозь?!
Не надеясь на авось,
Вы поймите из примера,
Нужного для пионера…
За свой открытый смех Чик поплатился вызовом в школу родителей, но привел сумасшедшего дядюшку, с которым и оставил для разговора Акакия Македоновича.
Обо всем этом повествуется абсолютно всерьез. И все перипетии Чика и его друзей, все разговоры и горячие споры взрослых о пустяках изложены автором подробно. Автор входит в положение каждого, стремится к полноте изображения каждой ситуации, как бы комична она ни была. Смех автора живет внутри этой невероятной серьезности. Чик и его дядя «пойманы с поличным»: пасли корову в границах огорода, а это «не положено».
«– Шпионы ходят по стране, – сказал милиционер.
– Знаю, – согласился Чик.
– В том числе под видом сумасшедших, – сказал милиционер.
– Знаю, – согласился Чик, потрясенный тем, что милиционер подозревает дядю в том, в чем Чик сам подозревал его когда-то. – Но он настоящий сумасшедший. Его доктор Жданов проверял.
– Этот номер не пройдет, – сказал милиционер, – я вас всех забираю в милицию. Там все выяснят… Корова не бодается?
– Нет, – сказал Чик, – она мирная.
– Вот и хорошо, – сказал милиционер и отобрал у Чика веревку, за которую была привязана корова. – Я ее поведу.
…Они вошли во двор милиции, и милиционер крепко привязал корову к забору. Там росла густая трава, и корова тут же начала ее есть…»
Смех Искандера естествен, как реакция самой жизни на неестественную формальность официальности. Смех вскрывает и убивает напыщенную фальшь, глупость и самодовольство тех, кто мнит себя наделенным властью над детьми, блаженными и коровами. Официальные «верхи» подвергаются неостановимому народному смеху. Смех побеждает страх.
Искандеру чужд сарказм отрицающий. Его смех лишен назидательности, нравоучительства, морализирования. Если хотите, это плутовской смех, веселый обман лжи, надувательство лицемерия. Он уничтожает, утверждая. Более того – этот смех целителен и спасителен, ибо без него жизнь попросту остановилась бы: трагические обстоятельства времени столь сильны, что человека без ободряющего присутствия этого смеха охватили бы отчаяние и безнадежность.
«Оттенки – это лакомство умных», – замечает автор. За спасительным смехом автора нужно читать оттенки. Проходя мимо страшного бездомного пса с костью, Чик убеждает себя не боятья, воображая, что это капитан с трубкой, «который просто так, чтобы было интересней, напустил на себя свирепость», – и проводит мимо пса детей. Так и автор проводит, спасает своих героев, бесстрашно смеясь над циклопом-временем.
Смех побеждает ложь, предательство, даже смерть. Смех священен – потому что побеждает все застывшее, мертвое, догматическое. Искандер ненавязчиво вплетает в свой текст внутреннюю пародию – например, на знаменитый гоголевский текст, не опасаясь «задеть святое». Вот он описывает речушку («или канаву, как ее достаточно справедливо тогда называли»): «Обычно воды в этой речушке было так мало, что редкая птица решалась ее перелететь, проще было перейти ее вброд, что и делали чумазые городские куры» («Богатый Портной и хиромант»).
В этом смеховом мире гипербола и гротеск соседствуют с глубоко реалистическим изображением. Несомненно животворное влияние народного комизма, связанного с изображением тела и всех его забот: приготовления пищи, ее поглощения, удовольствия, отдыха, купания, обнажения. Героев Искандера словно преследуют безмерный аппетит и неутолимая жажда: во дворе бесконечно что-то жарится или варится; тетушка Чика прекращает свое вечное чаепитие, только если оно переходит в кофепитие; в почти райском саду Чика вечно зреют какие-то фрукты (Чика радует сам круговорот поспевающих ягод и фруктов: земляника, вишня, черешня, абрикос, персик, груша, айва, орехи, хурма, каштан); Богатый Портной принципиально пьет кофе только во дворе; Алихан торгует вкусными козинаками; у Чика во время купания крадут трусы… Это веселый, поедающий, плодящийся, растящий детей, радующийся жизни мир, одушевленный смехом, уничтожающим мрачность действительности. Смех торжествует и в ситуациях, и в языке – как в объявлении, вывешенном Богатым Портным: «Ищу хорошего русского старика для сторожения фрукт. Если будет плотник или каменщик, еще лучше. Вторая Подгорная, дом 37, балкон на улицу, кричи: Сурен».
На оплакивании покойной подруги тетушки Чика и сидящую с ним за столом конопатую девочку так и разбирает от смеха («Чик идет на оплакивание»). За поминальным столом начинаются игра и веселье, побеждающие смерть. И взрослые, пришедшие попрощаться с покойной, тоже втягиваются в эту совершенно не приличествующую событиям атмосферу застольных баек. Развязываются языки, старики со смехом вспоминают любовные приключения покойницы – смех у гроба, сама смеющаяся смерть, забывшая о своих прямых обязанностях… Вспоминают они и небезопасные легенды… Начинается стихийный праздник, и вместе с ним торжествует освобождающаяся от страха смерти (да и страха перед жизнью) атмосфера вольности и народного веселья.
Время войны, которое выпало на детство Чика, тоже окрашено смехом – через его восприятие. В рассказе «Богатый Портной и хиромант», композиционно выстроенном как устный рассказ в рассказе, от которого ответвляются истории и байки других рассказчиков или рассказы по ассоциации с основным событием (отчего композиция рассказов Искандера, как правило, действительно растет и ветвится, как дерево, недаром сам автор говорит об одном из своих рассказчиков: «ветвистость его рассказов только подчеркивала подлинность самого древа жизни, которое он описывал»), говорится о том, как с помощью камней и воды «брали» двух немецких летчиков, вылезших в конце концов к радости и смеху детей – облепленными каким-то пухом и перьями, как «Дедал и Икар после неудачного полета», безмерно обиженных на странные способы ведения войны. Враг не только повергнут, но – по-искандеровски – осмеян, и страх побежден навсегда.
Смех побеждает смерть, смех побеждает войну. Мудрость народа состоит не только в том, чтобы победить врага, но и осмеять его. Бригадир Кязым из одноименного рассказа, неграмотный абхазский крестьянин (лукавый повествователь замечает, однако, что неграмотный Кязым говорил на пяти языках – к этому естественному знанию и естественному интернационализму подталкивает его сама жизнь), дознается-таки, кто украл из колхозной кассы сто тысяч рублей. Кязым находит истинного вора и остроумно загоняет его в ловушку – но рассказ был бы не вполне «искандеровским», если бы в финале жена вора не побежала – под общий хохот чегемцев – за полотенцем, в которое были завернуты злополучные деньги…
Действие рассказа происходит в Чегеме. Горное абхазское село – это тот «большой дом», то родовое гнездо, из которого вышел и знаменитый дядя Сандро, и Чик, приходящийся ему племянником. Родом отсюда и мать лирического повествователя («Большой день Большого дома»). Искандер изображает жизнь в Чегеме как своего рода начало начал всего сущего, жизнь богатырей и богатырш, сохраняя при этом живое чувство юмора по отношению к своему народу. Чегемские рассказы складываются в своеобразный чегемский эпос.
Естественность уклада, единство с природой, душевная чистота героев создают тот первозданный, почти идиллический порядок, который управляет течением жизни. «По изумрудно-зеленому косогору холма, белея беспорядочными пятнами», поднимается стадо коз.
«Сквозь далекий шум реки доносился прерывистый от большого расстояния… звук пастушеской дудки».
Но Искандер пишет отнюдь не сентиментально-идиллическую картинку. За этой идиллией притаилась трагедия, уже поджидающая свой час. Семья распадется, чуть не погибнет любимая старшая сестра, дом рухнет – это один из последних «больших дней» общего счастья и покоя. Исторические катаклизмы дышат людям в затылок. Если в цикле о Чике Искандер писал стихийно сложившуюся общину двора, то здесь он пишет родовую общность. Но «Большой день» увиден уже отсюда, с точки зрения современности, исходя из современного ностальгического знания того, что мы утратили. Он контрастен теперешнему отчуждению: «В этом мире, забывшем о долге, о чести, о совести», старенькая мать – в прошлом юная Кама – «неуклонно вела свою великую маленькую войну с хаосом эгоизма, отчуждения, осквернения святыни божьего дара – стыда. Она не только стремилась всех нас, детей своих, поставить на ноги, но и старалась всеми средствами весь наш род удержать в теплой роевой связи».
Повествование о Чегеме – это своего рода национальные мистерии, о которых рассказано с пьянящим, возрождающим смехом: это мир вечно становящийся, праздничный, полный жизненных соков.
Комическим эпосом исторической народной жизни стал роман «Сандро из Чегема».
Оговорюсь сразу. Искандер, при всей огромной любви к своему народу, при всем желании погрузить читателя в абхазский национальный мир, начисто лишен гнетущего и сковывающего пиетета по отношению к национальному характеру. Его взгляд на национальный характер свободен. Искандер не только не боится комизма в изображении своего героя или истории народа – он опирается на него.
В дяде Сандро уживаются и герой, и плут, и защитник чести, и обманщик, и вечный бездельник, и праздничный «Великий Тамада», и труженик, и по-восточному горделивый глупец (выглядит так, словно держит на привязи не обычную корову, а зубробизона), и хитрец («Он остановился в таком месте, где колхозы уже кончились, а город еще не начался»), и истинный сын своего народа (первым пришел к высокому должностному лицу с предложением вернуть древние абхазские названия рекам и горам). Искандер словно бы спаял в нем противоположные черты национального характера – он и бесстрашный рыцарь, получающий пулю за прекрасную княгиню (которая, кстати, отлично справляется с дойкой коров), и крестьянин, в поте лица своего обрабатывающий землю; он и артист, танцор, выступающий в знаменитом ансамбле Паты Патарая, и мудрец, стремящийся спасти свой народ от братоубийственной войны. Дядя Сандро стар, ему «почти восемьдесят лет, так что даже по абхазским понятиям его смело можно назвать старым человеком», и вечно молод.
В дяде Сандро брызжущее веселье соединено с печалью, как смех у гроба покойного – «самая веселая и в то же время самая печальная звезда на небосклоне свадебных и поминальных пиршеств». Дядя Сандро – герой и почти сказочный болтун и враль: «Силой своего голоса контузил… всадника, как бы самой звуковой волной смыл его с коня.
– У меня в те времена, – добавлял он… – был один такой голос, что если в темноте неожиданно крикнуть, всадник иногда падал с коня, хотя иногда и не падал».
Авторская интонация по отношению к дяде Сандро колеблется от осмеяния до восхищения, любования «его величественной и несколько оперной фигурой, как бы иронически осознающей свою оперность и в то же время с оправдательной усмешкой кивающей на тайное шутовство самой жизни». Своеобразный роман Искандера строится как система новелл, объединенных героем (хотя и не во всех новеллах он является главным действующим лицом – иногда словно отходит в тень, на периферию повествования).
В трагикомическом варианте изложена и история. «В те далекие времена, – эпически повествуется в романе, – носа не высунешь, чтобы не шмякнуться в какую-нибудь историю». Народ не только смеясь расстается со своим прошлым – смеясь, он воссоздает свою историю. Так комически-серьезно рассказано о принце Ольденбургском, «просветителе» абхазского народа. Принц Ольденбургский и все его деяния описаны с чрезвычайной серьезностью, настолько умопомрачительной, что она сама собой рождает смеховой эффект. Осмеяние власти исходит от священного трепета в описании занятий этой власти – с поездками на новеньком чудо-автомобиле, с посещением рабочих, которые специально включали ненужные станки, когда приезжал принц, с кормлением черных лебедей и пеликанов свежей, только что наловленной рыбой. «Кроме всего, принц Ольденбургский много экспериментировал для украшения и развития самой природы, хотя наряду с успехами в этой области были и досадные неудачи» – так, полсотни розовощеких ангельских попугайчиков, выпущенных по его приказу на волю для украшения парка, «быстро переклевали растерявшиеся было сперва местные ястребы». Были выпущены на волю и десять мартышек обоего пола, но «вопрос о возможности приживания африканских мартышек остался открытым, потому что еще до наступления зимы их перестреляли местные охотники». В общем, «цивилизация края шла полным ходом, хотя иногда и натыкалась на неожиданные препятствия».








