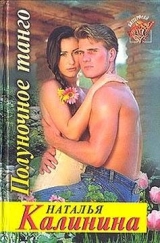
Текст книги "Полуночное танго"
Автор книги: Наталья Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 16 страниц)
– Видишь, снова скрестились наши пути-дорожки. Ты, думаю, не меня здесь дожидалась?
Оля молчала, не отрывая глаз от давно погасшей топки, устланной пепельным серебром, и думала о том, что Валерка явился кстати. Она не могла представить свое одинокое возвращение обратно – по степи, по непроходимой дороге.
Она пожала плечами.
– На большее я и не рассчитывал. Спасибо, что ногами не топаешь и не гонишь прочь. Я, между прочим, и к такому приему приготовился. А ты, барышня, тонкошкурой оказалась – стоило Зловредной Инессе собрать свой хлев, как ты сбежала, устремилась на поиски земли обетованной.
Оля невольно улыбнулась, оценив точность Валеркиной формулировки.
– А меня ночью твой Мишка с постели поднял. Ввалился не запылился и давай за грудки трясти. Будто это я тебя от него спрятал.
Она подняла голову и благодарно посмотрела на Валерку. Заметила, как плохо он выглядит. «Почернел», – сказала бы баба Галя. Наверное, подумала Ольга, и она сама за эту ночь не похорошела.
– Спасибо тебе.
– Серьезно? – В его глазах зажглись огоньки, как и тогда, когда они только познакомились. – Силы небесные, вот уж никогда бы не подумал, что в этом курятнике на краю степи меня ждет нечаянная радость.
Оля отвернулась, чтоб не расплакаться, – она вдруг почувствовала себя маленькой и беспомощной. Валерка все понял, Валерка моментально овладел положением.
– Ну, барышня, мы, кажется, договаривались с тобой дышать носом…
– …И поливать по утрам фикус.
Оля улыбнулась сквозь слезы.
– Правильно. Пока он не совсем завял. Айда по коням. – Валерка встал, расправил плечи. – Надо же, двадцать верст отмахала – и хоть бы хны. Ну и сильна ты, мать, а эфирным созданием прикидываешься. Силы небесные – двадцать верст на одиннадцатом номере!
Пес проводил их до самой машины, но ни в какую не поддался на уговоры подвезти его до города. Даже клыки оскалил, когда Валерка пытался подсадить его на заднее сиденье.
– Он как древний мудрец: хочет провести остаток жизни на природе в полной отрешенности от мирской суеты, – рассуждал Валерка, лихо преодолевая глубокие колдобины. – А нас как впрягли с детства в этот воз, так и тянем его до могилы. Сами же еще и подбрасываем в него что потяжелей. Эх, силы небесные!
Он ожесточенно крутил баранку, а по заднему стеклу машины стучали сухие будылья, заслоняя собой горизонт, за которым скрылась вчерашняя ночь.
* * *
– Вот, доставил вашу девицу живой и невредимой. Только с голоду падает, – тараторил Валерка. – Валяй, баба Галя, корми нас обоих, а то мне на казенную службу пора. Эх, и тяжел же ты, мой воз. Как бы упряжка не перетерлась. Силы небесные, а Петро что, дрыхнет еще?
Баба Галя остановилась на полпути к печке.
– Ступай у Алевтины спроси. Небось сладко спится ему под ее гладким боком.
– И он, что ли, дома не ночевал? – Валерка даже присвистнул от удивления. – Ну, баба Галя, скажу я тебе, распустила ты их, распустила. Никакого порядка в дому нету. Ладно, давай на стол.
– Ишь, никак в зятья записался? – беззлобно ворчала баба Галя, нарезая толстыми ломтями розовое сало. – А барышня-то твоя, кажись, заснула. – Она кивнула головой на прикорнувшую на сундуке под ходиками Олю. – Ишь как укатал.
– Да кабы я… – Валерка вздохнул. – Ну, а Петро насовсем, что ли, смотался?
– Кто его знает! Вчера в обед заявился со школы и, как был в сапожищах, к себе прошел. Весь пол испоганил. Гляжу, в шкафу роется. «Мать, а где у нас чемодан, с каким я на курорты ездил?» А я ему: «Опомнился когда. То ж при царе Горохе было. Изгнил давно. Который год в нем квочка цыплят выводит». Он тогда сапетку [1]1
Круглая плетеная корзинка.
[Закрыть]новую цапнул, лук прямо на пол высыпал и давай в нее свои манатки швырять. Как помешанный. После, слышу, кота зовет. Да тот, видно, подвох учуял, в подпол забился и оттуда дурным голосом мяукает. Петро грозился сегодня за ним прийти. Это та стерва его подучила. Выкусят они у меня. Во!
Баба Галя изобразила кукиш и ткнула им в сторону двери.
– Ну и дела! – качал головой Валерка, уплетая сало. – А что, молодец Петро. Вот уж от кого не ожидал! Я вот тоже рубану – так все сразу отлетит в историю. Для потомков. Нацедила бы ты мне, баба Галя, первачка, что ли. С того куста, что возле забора. За новую жизнь выпить хочется.
– Тебе ж, шпанец, на работу. Ну как дыхнешь на будущего тестя как из винной бочки?
– Ничего, баба Галя, не завянет. Он у меня еще долго походит в будущих. До самого светопреставления. Ну, чего стоишь? Давай ладанного. Да не жмись – полную банку набери. Человек не каждый день новую жизнь начинает.
– Ладно уж, – проворчала баба Галя и, покрыв голову пуховым платком, полезла с пустой литровой банкой в подвал.
– Ага, значит, Петр место жительства сменил. Ты одна в такой домине осталась, – продолжал Валерка, наливая в стакан вино. – Сашкиных детей из-за Райки знать не хочешь, с Алевтиной в старых контрах состоишь. Пусто тебе на старости лет будет. Ох и пусто.
Баба Галя молча достала из буфета еще один стакан и сама наполнила его до краев шафранного цвета вином.
– Ну, и за что пить будем? – спросил Валерка, подняв свой стакан. – За новую жизнь, что ли? За то, чтоб она хотя бы не хуже старой была. Поехали.
Он осушил стакан одним глотком.
– Я бы на твоем месте открыл торговый дом «Ибрагим и компания», дефицит весь бы распродал, а потом двинул налегке в лавру грехи замаливать. – Валерка похрустывал соленым огурцом. – Эх, баба Галя, и позавидовали бы тебе: вольный ветер в ушах свистит, над головой вороны с галками каркают. Как выразился классик: «Благословляю я свободу и голубые небеса». Поглядишь мир, а не какой-то там «Клуб кинопутешественников» в телевизоре. Если хочешь, вместе можем туда податься. – Валерка, не дожидаясь приглашения, снова наполнил свой стакан. – У тебя и дом какой-то темный стал, и тишина, как на кладбище.
– Хватит тебе, пустобрех, языком ляскать! – неожиданно осерчала баба Галя. – Залил чуть свет глаза и над старухой иезуитничаешь. – Она всхлипнула и утерлась концом платка. – Легко ль одной в такие года? Ведь для них, гадов, спину гнула – по базарам пудовые сапетки с ранней вишней таскала, пионами каждый год у городского сада торговала, чтоб им кому пальто, кому костюм справить. Пианину у Яшки Комара взяла, когда у Александра в пионерском доме слух нашли. А они еще этим же самым и бьют по глазам. Петька вчерась, значится, заявляет с порога: «Вы, мать, как куркуль, – все в дом да в дом тянете». – Баба Галя, чуть успокоившись, отхлебнула из стакана. – Ну-ну, поживешь на казенной квартире, не то запоешь. Не больно на свою школьную зарплату пожируешь. А той пустодомке и вовсе в ихнем собесе с гулькин нос платят. Тебе еще нацедить ладанного?
– Нет, баба Галя, хватит. – Валерка посмотрел на часы и встал из-за стола. – Новую жизнь нужно начинать с ясной головой. – Он на секунду задержал взгляд на спящей Оле, медленно застегнул куртку. – Если б не она, гнить бы мне до гробовой доски в плену у импортных стенок под звон хрустальных фужеров. Красиво сказано, а? Ай да Валерий Афанасьевич, ай да артист! Да, вот так бы небось и не усек этот артист своей седой башкой, что есть на свете воля. Петька твой, гляди, раньше меня скумекал. А, да что рассуждать. Одним словом, привет семье!
Он тихо прикрыл за собой входную дверь.
– Рожна тебе не хватает, – проворчала баба Галя, убирая со стола. – Бесись на бабкины деньги, покуда жареный петух в задницу не клюнул. Жизню новую они начать порешили! Ишь какие ушлые выискались.
* * *
Оля с трудом передвигала ноги по мокрым, точно залитым маслом мостовым, топталась на одном месте, не в силах побороть сопротивление воздуха. Ее нагоняла Татьяна с огромным букетом ландышей, который она держала в обеих руках. «Письмо, письмо… Возьми письмо!» – кричала она, и эхо ее голоса еще долго блуждало в темных подворотнях старых особняков. А Валерка хохотал, запрокинув голову, и дергал за веревочки смешных пузатых кукол, которые корчили злые и глупые рожи. Потом Оля бежала лабиринтами московских улиц, проваливалась в темные ямы, карабкалась по отвесным лестницам в небо. Вконец обессиленная, лежала плашмя на голой земле, которая стремительно неслась по орбите, и кто-то горячо шептал ей: «Любимая… Моя любимая…»
Она с трудом подняла веки, спустила с сундука затекшие ноги. Ходики над головой, точно продолжая ее бессвязный сон, отбивали мерно и безжалостно: «Пись-мо, пись-мо, пись-мо».
Письмо… Может, оно на самом деле ей приснилось? Может, не было этого страшного письма? Что это с ней? Оля вспомнила белые клочки бумаги, медленно падающие на мостовую, почувствовала под пальцами упругое сопротивление сложенных в несколько раз листов бумаги.
«Пись-мо, пись-мо», – равнодушно отсчитывали ходики. Оля выскочила на крыльцо.
Солнце уже совершило свой полуденный путь. Из каждого двора доносились голоса людей – начались уже работы в саду, на огороде. Баба Галя в сиреневой вязаной кофте вскапывала вилами рыхлую унавоженную землю возле старой яблони.
– Ну как, все сны пересмотрела? – спросила она у подошедшей Оли. – Небось от голода проснулась. В духовке борщ, а кабашная каша под подушкой в моей комнате.
– После поем. Давайте помогу.
– Не твоя эта работа. С непривычки такие мозоли заработаешь, что после за пианиной криком кричать будешь.
Оля взяла прислоненные к стволу яблони вилы, неумело воткнула в землю. Оказывается, не так это легко, как кажется со стороны. Черенок вихляет во все стороны, влажные черные комья точно свинцом налиты.
И все-таки в этой нелегкой работе есть и радость – она и в пахнущей щедрой свежестью земле, в которую так уютно ложатся картофелины с толстыми белыми ростками, и в жарко припекающем солнце, и в соленом привкусе пота на губах… Вот так изо дня в день копали, не разгибая спины, ее не слишком далекие предки. Бабушка, помнится, рассказывала, что в страдную пору все они, от мала до велика, жили в поле. А нынешние люди в большинстве своем утратили эту исконную связь с землей. Утратили безвозвратно. И, кажется, совсем не жалеют об этой утрате. А может, современному человеку вообще не пристало сожалеть о каких-то утратах?..
– Передохни, а я пока на стол соберу – время уже четверть второго. Господи, да я ведь еще курам сегодня не давала!
Захватив пустые ведра из-под картошки, баба Галя направилась к дому, тяжело переставляя обутые в высокие галоши ноги.
Оля втыкала вилы в податливую землю, полоска за полоской приближаясь к обсаженному крыжовником забору. В настоящий момент для нее главное – вскопать под картошку эту небольшую делянку, потом она придумает себе что-то другое. В конце концов, жизнь не что иное, как вечное стремление заполнить каким-то смыслом настоящее. Для того, чтобы не думать о прошлом.
Она разогнула приятно поламывавшую спину, вытерла пот рукавом пестрого свитера, который мать привезла ей из Парижа. Его крикливо-желтые полоски казались блеклыми в лучах весеннего солнца. Она присела на скамейку под грушей.
«Вещи, деньги – какая же это, в сущности, ерунда, – думала Оля. – А иные ведь в этом видят смысл жизни, спасение от пустоты. Кое-кто даже пытается пересчитать свое искусство на деньги… Но самое ценное не за деньги покупается. А за что тогда? За страдания? Терпение? Или за прощение?..»
Пока она не в силах ответить на этот вопрос. Она потом ответит. Чуть-чуть соберется с мыслями и ответит. Ей очень нужно найти ответ на этот вопрос.
– Гляди, как бы сквозняком не прохватило, – предупредила вышедшая на крыльцо баба Галя. – Обедать ступай, а я прилягу. В груди нехорошо.
Оля послушно поднялась со скамейки, вымыла лицо и руки под рукомойником возле веранды, нехотя вошла в дом.
А может, самое ценное на свете покой? Ну да, наплевать на все, думать только о себе, беречь себя. И никогда не поддаваться угрызениям совести и чувству вины перед кем-то. Словом, дышать носом и поливать по утрам фикус, как выражается Валерка. Только и он, кажется, далек от того, чтобы следовать этим рекомендациям.
* * *
Врач «скорой помощи», обстоятельный старик с большими красными руками, хотел забрать бабу Галю в больницу, но она решительно отказалась:
– Сам посуди, доктор, – куда ж я от своего хозяйства? Виноград еще не подвязан, картошку сажать не кончили.
– Ну, как знаешь, бабка. Ноги протянешь – не пеняй на медицину. А ты, внучка, – обратился он к Оле, – приглядывай, чтоб она лекарства вовремя принимала. И уж раз-другой танцульки свои пропусти. Плохо станет – звони нам. Ну, бабка, смотри мне, не дури.
Прихватив свой чемоданчик, он скрылся за дверью.
– Как тут не встать, – кряхтела баба Галя. – Поросенок не кормлен, куры, ежели им на ночь не дать, разбредутся по чужим дворам, да и картошка, которая на еду, не перебрана – так и гонит в рост. Сбегай, что ли, к Сашке, перекажи, чтоб зашел. – Баба Галя вздохнула. – Да нет, не надо. Райка после всем хвалиться будет, будто они за больной матерью ходят.
– Вы скажите, где что лежит, и я все сделаю, – вызвалась Оля.
– Еще тебе домашних делов не хватало!
– Может, сейчас именно их мне и не хватает.
Баба Галя зорко посмотрела на Олю из-под низко повязанного платка.
– Ладно, похозяйничай, коли просишь. Отруби для поросенка в мешке за печкой, зерно для кур в выварке на веранде. Курник, как стемнеет, на крючок накинь, чтоб коты ночью не шастали.
Оля до самого темна носилась по хозяйству. Потом спустилась в подвал, перебрала картошку, смыла соленья. С непривычки работа не спорилась: пшеницу просыпала, не донеся до курятника, и на нее тут же набросились невесть откуда взявшиеся вороны; голодный поросенок тыкался грязным пятачком в ведро и, когда она поставила его на землю, влез в него передними копытами и разлил теплые помои в грязь.
«Видел бы меня Илья, – думала Оля, обламывая в полумраке холодного подвала ростки картошки. – Небось сейчас у меня более человечный вид, чем когда я кричала на него и топала ногами. Как низко может пасть человек…»
«Моя любимая, моя любимая…» И светлей становилось в темном подвале, пламя свечи, казалось, колыхалось, в такт ударам ее не желающего смириться с потерей сердца.
Вечером баба Галя, несмотря на протесты Оли, расшуровала печку, вскипятила чайник. Ужинали в полной тишине, не нарушаемой даже телевизором. Баба Галя несколько раз подходила к окну, прислушивалась к шуму ветра, деловито хозяйничавшего в саду.
– Кажись, в калитку кто-то стучится, – время от времени повторяла она.
Прислушавшись, Оля улавливала лишь скрип рассохшихся ставен да скрежет веток по кровле дома.
К ночи старухе снова сделалось худо. Оля хотела вызвать «скорую», но баба Галя схватила ее за руку и зашептала:
– Нет, нет, не бросай меня одну. Я так скорей помру. Уже отлегло, отлегло… Ты только не уезжай в свою Москву. Попривыкла я к тебе, как к родной. У Петьки моего уже бы дочка почти с тебя была, кабы Алевтина по глупости аборт не сделала. Оно, может, Петька и правильно простил эту дуру – все ж таки столько годов вместе прожито. Мой Митрий тоже за подолами волочился, а я ж его, покойника, сколько раз прощала… А ты сегодня уж больно с лица осунулась, – вдруг сказала баба Галя, зорко поглядев на Олю. – Ничего, девка, по молодости и мне довелось страдать по суженому. А теперича думаю: не ужились бы мы с ним. Нет, не ужились. Вспыльчивый как огонь был. Бывало, как расходится по пустякам… Митрий, тот поспокойней, потише. В замужестве оно ведь не так любовь важна, как сходство по душам. Вот и ты, я вижу, натурная. Оно вроде бы и хорошо с характером быть, только таким, как мы с тобой, туго живется… Ну, ну, не серчай – не буду.
* * *
Акулов нашел Олю в конце двора, неслышно подошел сзади и долго любовался, с каким старанием она вскапывает землю, кладет в лунку проросшие кукурузные зерна, аккуратно загребает обеими руками землю.
– Прошу меня простить, что отрываю вас от работы, но у меня к вам, Ольга Александровна, очень серьезный разговор.
Она обернулась, совсем не удивленная его внезапным появлением, вытерла тыльной стороной ладони вспотевший лоб.
– Давайте присядем на лавку. Для обстоятельности, – предложил Акулов и зашагал к скамейке под начинающей распускать свои бутоны грушей.
Оля послушно шла следом, так же послушно села рядом с ним на скамейку.
Акулов взял ее руку в свою, повернул ладонью кверху и покачал головой, увидев кроваво-сизые мозоли.
– Вот ведь вы оказались какая, Олечка, – сказал он, осторожно трогая мозоли. – Больно?
Она замотала головой и, чтоб скрыть вдруг нахлынувшие слезы, отвернулась к забору.
– Я собирался прийти к вам вчера, но почему-то все ждал, что вы сама ко мне придете. Не за утешением, разумеется. Вам ведь не нужны утешения, верно?
Она не ответила, сидела все так же отвернувшись. Подумала: все-таки ей нужно утешение. Очень нужно. Пускай кто-то по-настоящему умный и сильный духом скажет, что ее жизнь еще не кончена, что впереди ее ждут радости.
– Вы, наверное, помните, что в сказках, старых и новых, добро всегда торжествует над злом. Об этом знают даже дети. Кстати, они знают и о том, что герой, отстаивающий добро и справедливость, должен быть умным, сильным, ловким. Иначе не выйти ему победителем в жестокой схватке. К сожалению, и в наше время зло, несправедливость и прочие пережитки еще не стали музейными экспонатами, так что иной раз нам с вами приходится с ними сражаться. Вы со мной согласны?
Оля глядела на него, утирая слезы.
– Мне было лет немного поменьше, чем вам, когда я, ожидая в Новороссийске парохода, которому суждено было надолго разлучить меня с родиной, пытался решить для себя проблему: должен ли я вступить в борьбу со злом, раздиравшим на части голодную и холодную Россию, или наблюдать за этой борьбой из безопасного далека. Я думал: пусть те, кто затеял эту заваруху, сами и разбираются, я же – музыкант и должен быть верен своему призванию. А какой-то тайный голос нашептывал мне: «Ты прежде всего российский сын. Твоя родная земля стонет, обливается кровью. Защити ее от врага». И я уже решился было остаться… Но тут подошел английский пароход, и все как одержимые бросились на причал. Я смешался с толпой этих несчастных людей, не в силах противостоять ее воле… Я по сей день расплачиваюсь за собственное малодушие. И нет и не будет мне за него прощения. Конечно, мою вину с вашей не сравнить, но ведь сейчас и время иное.
– В чем же моя вина, Василий Андреевич? – спросила Оля.
– В том, что вы позволили Кудрявцевой безнаказанно вершить зло. В том, что смирились с победой зла. В результате пострадали прежде всего ваши студенты – и не только потому, что лишились отличного педагога. Учебную программу в конце концов можно наверстать, но вот тот моральный урон, который вы нанесли им своим бегством, пожалуй, уже и не возместишь.
– Что же я, по-вашему, должна была делать? Вернее, каким образом? Попросить у Кудрявцевой прощения?
– Ольга Александровна, голубушка, я просто удивляюсь вашей… наивности. Других слов в данном случае не подберешь. – Акулов всем корпусом подался к ней. – Неужели вы забыли одну простую вещь: пассивное добро – это то же зло, только наизнанку. Вы скажете: старик впал в маразм, твердит банальные вещи. И вы будете правы, ибо истина всегда банальна.
Акулов встал, заходил взад-вперед по дорожке, сердито вороша своей палкой прошлогодние листья.
– Беда вашего поколения в том, что родители с детства оберегают вас от всяческих несправедливостей, а иной раз даже внушают, что наш мир справедлив. Вы же, столкнувшись в вашей самостоятельной жизни с несправедливостями, не знаете, как поступить, а потому предпочитаете уйти в сторону, переждать бурю, найти обманчивый покой. А вот ваш студент Лукьянов оказался стойким молодым человеком. Мы с ним уже успели кое-что предпринять, пока вы тут предавались поискам призрачного покоя и жестокому самоанализу. Согласен, замечательное это свойство – уметь обстоятельно и трезво анализировать свои поступки, но только не в критический момент, когда нужно стремительно действовать.
Акулов посмотрел Оле в глаза.
– Ольга Александровна, вы ведь обладаете не только талантом музыканта, но и куда более ценным даром – притягивать к себе людей. Посмотрите, скольких вы вывели из состояния спячки. Люди потянулись к вам, доверились вашему человеческому обаянию. А вы их разочаровали.
Оля встала, больше не в силах сдерживать слезы, прислонилась к шершавому стволу груши и прижала платок к глазам.
– Догадываюсь, голубушка, скорбит ваша душа по чему-то несбывшемуся, а тут я со своими проповедями. Но, как бы вам ни было худо сейчас, верьте мне: будут в вашей жизни и счастье, и любовь. – Акулов поцеловал ее измазанную землей руку. – И, прошу вас, не забывайте о том, что у вас есть друзья. И не разочаровывайте меня, старика. Сами знаете, как тяжело жить без идеала в душе. Ну а сейчас утрите слезы, и пошли вершить дела.
* * *
«Милая Татуша!
Ты, конечно же, догадываешься о причине моего долгого молчания. Надеюсь, тебе не надо объяснять, как долго приходила я в себя после твоего последнего письма. До сих пор сердце в пятки уходит, когда увижу нашу почтальоншу, хотя, казалось бы, страшней известия мне уже и не получить. Помнишь старую русскую пословицу о том, что беда в одиночку не ходит? Вот и на меня в тот самый день, который я прозвала Днем Письма, обрушилось несколько бед, от которых я и по сей день не совсем отошла. О них я расскажу тебе в другой раз. Скажу только, что сейчас многое уже позади, и я начинаю постепенно выходить из оцепенения, почти как прежде радоваться жизни и вот уже несколько вечеров подряд остаюсь в училище заниматься. Что касается Зловредной Инессы, то поверженных осуждать негоже, а она, судя по всему, доживает в директорском кресле последние дни. Знаешь, если начистоту, нет у меня на нее настоящей злости – я тоже подчас слишком бравировала своей независимостью, чем подрывала основы ее незыблемого авторитета. Беднягу можно понять.
Видишь, я уже делаю робкие шаги на поприще юмора – это чтоб к слезам не возвращаться. И все равно, дорогая Танечка, я, можно сказать, счастлива вопреки всему. Такой уж я от рождения безнадежный оптимист. И хотя внешних изменений в моей жизни не намечается, внутри начинают брать верх светлые силы.
Валерка явно что-то задумал. Баба Галя уверена, что это я расстроила его свадьбу со Светланой. (Как ты думаешь, во мне на самом деле есть что-то роковое?) «Ты, девка, такого жениха упустила – на руках бы тебя носил», – сказала она вчера. Думаю, она права, но мне пока этого не нужно. К Валерке я испытываю нежность, благодарность. Если бы не его здоровый провинциальный юмор, я бы, наверное, давно свихнулась. О Валерке у нас с тобой еще будет особый разговор. Хотя, поверь, то, что я к нему испытываю, на любовь в привычном смысле этого слова не похоже…»
* * *
Баба Галя впервые в этом году собрала на стол под старой грушей. Жужжали пчелы, деловито облетая большой домашний кулич, густо посыпанный разноцветным крашеным пшеном. Баба Галя отгоняла их полотенцем. Сердито прожужжав над ухом, они взмывали вверх, вливаясь в общий гул весеннего оркестра.
Соседка Егоровна, худосочная, с глубоко запавшими глазами-угольками женщина, уже успела отведать и крашенных в темно-луковый и синьковый цвета яиц, и жареной курятины, запив угощение несколькими стаканчиками ладанного, и теперь млела на солнышке, подставив его лучам щуплое тело.
– Смотри, Егоровна, как бы тебя удар с непривычки не хватил, – предупредила баба Галя. – Оно сейчас обманчиво – будто и не сильно жарко, а до самого сердца достает. Дай-ка я тебе Петькину шляпу принесу.
– Не бойся, Семеновна. У меня кожа сухая да толстая – не больно ее прогреешь. Оле казалось, будто в ее последнее время перенасыщенной событиями жизни наступила пауза. Она потом решит, остаться ей здесь или уехать в Москву – ей порой так хочется побродить арбатскими переулками, где когда-то они гуляли с Ильей. Еще ей предстоит решить, нужен ли ей Илья на самом деле или же это всего лишь воспоминания о первом чувстве… Ну а сейчас она будет слушать пчелиный гул, густой и вязкий, как сам мед, наслаждаться казачьей песней, которую затянули в соседнем дворе, и наблюдать, как на голубом, еще совсем светлом майском небе медленно проявляется серп молодого месяца.
Егоровна задремала, склонив набок голову. Баба Галя все-таки нахлобучила на нее старую соломенную шляпу с выцветшей ленточкой.
– Я, наверное, тоже сосну, – сказала она, накрывая кулич большой кастрюлей, чтоб не заветрил. – Ежели ты, Ольга, куда соберешься, прикрой сверху клеенкой, чтобы куры не нашкодили. Может, еще кто заглянет.
…Оле показалось, будто ее окликнули от забора. Она подошла к калитке. Никого. Лишь шарахнулся в кусты крыжовника черный Ибрагим, подстерегающий самых бесстрашных скворцов.
Оля откинула крючок и выглянула в проулок, куда выходили дворы. Возле соседского забора стоял Петр с авоськой в руке, из которой торчало горлышко бутылки и концы длинных, как палки, парниковых огурцов.
– Поди-ка сюда, – позвал он Олю, переминаясь с ноги на ногу. – Ну, и чего у вас нового? Замуж еще не выскочила?
Он переложил авоську в левую руку.
Оля покачала головой и протянула Петру руку. Он суетливо пожал ее и, обернувшись несколько раз на светлое женское платье, маячившее неподалеку, побрел к калитке.
– Хм, а это что за чучело под старым лопухом? – с добродушной ухмылкой спросил Петр, указывая пальцем на дремавшую Егоровну. – Видать, от души разговелась бабка. Гляди-ка, а у вас чисто во дворе. Ну и ну!
Петр поставил бутылку на стол, авоську с огурцами повесил на сухой сучок груши.
– А мать где? – как показалось Оле, с опаской спросил он.
– Прилегла вздремнуть. Позвать?
– Нет, нет, не зови! – Петр замахал обеими руками. – Мы сперва сами спрыснем нашу встречу. Вон и тетка идет. Иди сюда, не бойся – мы не кусаемся.
Алевтина осторожно прикрыла за собой калитку и засеменила по тропинке на своих высоких каблуках.
Петр подмигнул Оле.
– Видишь, какая она у меня гладкая. Ну садись, садись, тетка, сейчас мы пригубим по случаю праздника.
Он откупорил бутылку и плеснул в стаканы.
– А и ты, бабка, хочешь? – Петр подвинул стакан к шевельнувшейся во сне Егоровне. – Пей, пей, сегодня Бог все грехи прощает.
Алевтина присела на краешек скамейки, то и дело поглядывая в сторону дома. У нее было широкое скуластое лицо и добрые серые глаза, так не гармонирующие с черными накрашенными бровями.
– А вы, я гляжу, весело время проводите, – отметил Петр, окидывая взглядом заставленный тарелками стол. – Одна от такого веселья даже носом заклевала.
Он зашелся громким смехом и еще налил в свой стакан водки.
Оля хотела принести из дома закуски, но Петр схватил ее за руку и силой усадил на место.
– Не спеши. У нас тут на дереве своя закуска растет.
Обернувшись, он вытащил из авоськи огурец, ткнул конец в солонку и протянул Алевтине.
– Ешь, тетка. Гибрид груши с огурцом, а пахнет кабаком. Ха-ха! – Он вдруг резко оборвал свой смех. – А вон и мать. А где Ибрагим? Ибрагим! Ибраги-им!
Он стал озираться по сторонам, притворившись, будто ищет кота.
Баба Галя, замерев на мгновение на крыльце с приложенной ко лбу козырьком ладонью, вдруг по-молодому резво сбежала по ступенькам.
– Батюшки, да у нас полон двор гостей! Сейчас я табуретки из летницы прихвачу.
Она свернула с тропинки к летней кухне.
Петр торопливо глотнул из стакана, поставил его на стол, потом отпихнул от себя.
– Ишь ты, из какой посуды водку хлещут, как пьяницы под магазином, – сказала подоспевшая с двумя табуретками баба Галя. – Сейчас хрустальные фужеры принесу.
– Да сядьте вы наконец, мать, что ли! – нарочито громко рявкнул Петр. – Хватит перед глазами мельтешить. И так сойдет. Не чужие мы вам.
Баба Галя послушно опустилась на табуретку и пристально посмотрела на Алевтину. Та заерзала под ее взглядом, стала расправлять складки своего крепдешинового в мелкий синий цветочек платья.
– А ты, Алевтина, вроде бы похудела, – отметила она таким тоном, будто они расстались только вчера. – И платье тебе очень к лицу. А вот волосы зря в рыжину выкрасила. Зря.
Алевтина покрылась от смущения малиновыми пятнами.
– Вы, мать, сразу же и критикуете, – вступился за жену Петр. – Давайте лучше глотнем по капельке.
– А что такого я сказала? Я ж ей все-таки не чужая.
Петр взглянул на мать. В этом взгляде были и признательность, и теплота, и что-то еще, понятное, наверное, лишь им двоим.
– Ну и крепкую же, гады, водку нынче гонют – так в глаза и шибает.
Поставив на стол пустую стопку, баба Галя долго вытирала кончиком платка глаза.
– А это потому, что я ее на солнышке согрел. Сорок градусов своих плюс двадцать с неба. Физику, мать, надо знать.
Откинувшись на спинку скамейки, Петр расхохотался.
– Гром, что ли, рыкает, – проснулась Егоровна. – Пойду-ка я домой, белье посымаю, не то дождиком намочит.
– Напугал бедную пенсионерку. – Алевтина коснулась пальцами щеки Петра. – Смотри, как вспотел. Еще просквозит на ветру. Накинул бы чего.
– Там на вешалке в передней китель старый висит. Сбегай, принеси мужу, – наказала баба Галя.
Алевтина пошла к дому.
– Ишь, небось и это платье сама пошила. Мастерица! – похвалила баба Галя, глядя ей вслед. – Пускай и мне халат скроит из того сатина, какой я за семечки взяла. Полька в прошлый раз проймы заузила – руки не подымешь. Такой богатый отрез испортила… А я ей крепдешин подарю в белый горошек. Помнишь, ты со своих курсов привез? – Она повернулась к сыну. – Для меня яркий сильно, а ей, молодой, как раз к лицу…
Оля вслушивалась в соловьиный хор. Ей вдруг показалось, что соловьи поют и для нее тоже.




