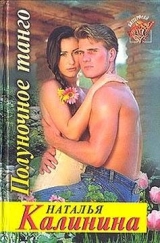
Текст книги "Полуночное танго"
Автор книги: Наталья Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Дождь припустил, когда гроб уже опустили в могилу и на него посыпались комья рыжей грязи. Плетнев увидел, как подъехавший к воротам кладбища на «газике» Чебаков подхватил под руки Алену с Лизой, на локоть которой опиралась сгорбленная, с застывшим как маска лицом Марьяна, и повел их к «газику». У машины остановился, поджидая Плетнева, сказал, указывая пальцем на его «жигули»:
– Давайте мигом, не то дорогу так развезет, что только трактором можно будет вытянуть. А они у меня все в степи, на кукурузе.
Плетнев коротко попрощался с Сашкой Саранцевым, поблагодарил за заботы Даниловну и с места рванул машину. Чебаков с женщинами ехал сзади. Плетнев видел в боковое зеркало его серьезное рыжеусое лицо и рядом с ним нахохлившуюся невыспавшуюся Алену. В глубине «газика» было темно, и Лизу он не видел.
На асфальт они выскочили в самый раз. И так уже «жигули» кое-где пробуксовывали. Плетнев затормозил на кромке, поджидая, пока неуклюжий «газик» одолеет насыпь на шоссе. Едва его колеса успели коснуться асфальта, как Алена легко спрыгнула с подножки и бросилась бегом к «жигулям».
– Ну вот, назад дороги нет. – Она весело улыбнулась, стаскивая небесно-перламутровый плащ. – «Благословляю я свободу и дождевые небеса», – пропела она. – Накройся моим плащом и удостой их своим последним «прости-прощай».
* * *
К вечеру они уже были под Воронежем.
До самолета еще было больше суток, но Плетнев решил не делать остановку – он любил ночную езду.
Сперва Алена дремала на заднем сиденье, потом пересела вперед, включила радио. Сквозь треск электрических помех пробивались звуки ми-мажорного этюда Шопена. Они крепли, заполняя собой все пространство в машине, вставая невидимой стеной между ним и притихшей Аленой. Теперь, под прикрытием этой стены, он мог спокойно думать о Лизе, не опасаясь, что Алена может разгадать его мысли. О коротком прощальном пожатии ее крепкой горячей ладони, о ее воспаленно поблескивающих в темноте машины глазах, об этом слегка виноватом: «Я напишу тебе, ладно? Один раз…»
Еще он вспоминал притаившийся среди старых раскидистых деревьев дом, в котором пахнет травами и приближающейся осенью.
* * *
Письмо Лизы пришло в ноябре. Она сообщала, что, как только Лариса Фоминична вышла из больницы, они втроем поехали в Пятигорск навестить бабушкину сестру, которая живет одна в небольшом домике на окраине города, да так там и остались.
«Марьяна вышла на пенсию по возрасту, мама, несмотря ни на что, работает на продленке в школе, ну а я преподаю русский язык и литературу в старших классах», – сообщала Лиза.
Обратного адреса она не написала. В конце письма была приписка, другим цветом и покрупнее, будто сделанная второпях.
«За домом приглядывает Даниловна. Она и могилки обещала убирать. Я раздумала его продавать, хотя поначалу не только продать – поджечь хотела… Если будет желание, можешь приехать и жить в нем в любое время. Я, наверное, не приеду туда никогда».
Оля сидела за хлипким столиком возле заставленного горшками со столетником окошка и писала письмо Татьяне, своей подруге. С Татьяной ее связывали не только годы совместной учебы и даже не концерты, которых они прослушали великое множество, пристроившись на ступеньках амфитеатра Большого зала консерватории, а еще и полная схожесть взглядов на жизнь. Кому, как не Татьяне, написать о том, что она скучает по Москве, по их студенческому бесшабашному быту, что здесь, в этом небольшом южном городке, она чувствует себя в стороне и от музыкальной жизни, и от жизни вообще.
«Ты мне, Татуша, не поверишь, но в первый вечер я самым настоящим образом разревелась. Хозяйка отвела мне лучшую комнату в доме, как здесь называют, «залу». Так вот, в этой самой зале со слониками на допотопном «Шредере», с вышитыми салфетками на музейном диване, с большим фикусом возле опять-таки музейного зеркала с мутными пятнами я вдруг почувствовала себя никому не нужной, совсем одинокой. Завалилась на высокую пуховую постель и распустила нюни. Хозяева смотрели до победы телевизор, потом проверяли засовы… Хозяйка и мне велела закрыть на ночь ставни, чтобы кто-нибудь сдуру камнем не шарахнул. Ходики так громко стучат, что я их остановила. На следующее утро она перевесила их в свою комнату. Галина Семеновна, или, как она просила называть себя, баба Галя, относится ко мне хорошо, но пока – как к гостье. Не хочу злословить, но жизнь они тут ведут престранную: все тащут и тащут в свой дом. Запасы создают такие, будто скоро конец света. Баба Галя хвалилась, что стирального порошка и мыла запасла впрок на целую пятилетку. А вдруг, говорит, подорожает. Представляешь? Правда, она войну пережила, одна с двумя детьми. Словом, как ты понимаешь, не нам осуждать…
С училищем пока тьма мороки: и педагогов не хватает, и ремонт еще не закончили в старом особняке, который нам отвел горсовет. К тому же подготовка у большинства студентов на редкость слабая – кое-кому даже приходится заново руки ставить. И так они, бедняги, зажаты, скованы за инструментом. В общем, все иначе, чем я себе представляла…»
Да, Оля все представляла иначе. Думала, преподавателю музыки придется заниматься лишь своими прямыми обязанностями. А пришлось и дважды ездить за настройщиком в областной центр, и отбивать натиск директора совхоза, возмечтавшего заполучить студентов-музыкантов на целый месяц для уборки винограда, и уговаривать кровельщиков, чтобы потише ругались, когда идут занятия. Словом, Бог знает чем пришлось заниматься и меньше всего – музыкой. Сейчас, правда, все постепенно входит в колею. На дворе стоит теплая, нарядная осень, с прохладными ночами и свежими туманными утренниками. В хозяйском саду обрезали и скрутили виноградную лозу, ждут заморозков, после которых, как говорят, «лоза лучше родит», а там зароют на зиму.
Оля сидела над недописанным письмом, но мысли ее уже были далеко. Почему-то нет до сих пор Валерки Антонова. Обычно по воскресеньям он приходит часам к двенадцати и торчит до самого вечера. Сперва Оля думала, что он приходит в гости к бабе Гале, с которой состоит в сложном, довольно запутанном родстве, но потом оказалось, что баба Галя тут ни при чем.
– Тебя не было – месяцами носу не казал, хоть и доводится мне… постой, постой… ну да, троюродным внучатым племянником по мужу, – дела все у него какие-то, – говорила баба Галя. – А сейчас и дела все по боку. Ох, смотри, девка. Правда, парень он неплохой…
Баба Галя замолкала и со значением поджимала губы.
Этого Оле можно не бояться. Иной раз ей кажется, будто от всех людей ее отгораживает прозрачная стенка. Ей все за ней видно, она понимает, что там происходит, а вот вмешаться в ту жизнь нет сил. После того, что было у них с Ильей…
– Ольга, обедать ступай, – зовет из соседней комнаты баба Галя.
Теперь она накрывает на стол не в саду под грушей, как в сентябре, а в проходной комнате, где от печки такой адский жар, что даже любитель теплых закутков черный кот Ибрагим предпочитает растянуться на полу под дверью.
Петр Дмитриевич, как всегда, поспешно вскакивает со своего места, чтоб выдвинуть для Оли стул, и тут же садится, покосившись на мать. Баба Галя еще в самом начале устроила ему разнос за то, что пробовал ухаживать за Олей.
– Она тебе в дочки годится, старый черт, а ты усы свои жидкие облизываешь. Смотри у меня, козел блудливый.
С тех пор в присутствии матери Петр Дмитриевич старается как можно меньше уделять Оле внимания. У сына с матерью странные отношения – Петру под пятьдесят, преподает в школе физику, а мать слушается без оглядки. По складу характера он полная ей противоположность. «Размазня» – презрительно окрестила его баба Галя. Зато младший сын, Александр, которого Оля видела всего раз, тот даже и внешне вылитая мамочка. Но не сложились у бабы Гали отношения с невесткой, и к сыну она, по собственному выражению, «похолодала душой».
Они молча едят густой борщ, заправленный старым салом, – за столом здесь разговаривать не принято, – пшенную кашу с «магазинным» молоком. К концу обеда на пороге появляется Валерка со своим дежурным «привет семье», веселый, попахивающий пылью и бензином. Баба Галя обедать его не приглашает – у них это не принято, но домашнего консервированного компота все-таки наливает.
– Ну как, баба Галя, спичек напасла? – с места в карьер спрашивает Валерка. – Слыхал, дорожать будут.
– Да что ты! – всплескивает руками баба Галя.
– Коробок целый гривенник стоить будет. Давай-давай – запасай. Их и так уже дают по пять штук в руки.
Валерка садится за стол и, оттопырив мизинец с черной мазутной каемкой, пьет маленькими глотками густой вишневый компот, озорно поглядывая на Олю.
Оля видит презрение в глазах Петра Дмитриевича. Да, он презирает Валерку всей душой за то, что тот постоянно разыгрывает мать, которая все принимает за чистую монету, и недолюбливает за то, что Оля, как он считает, уделяет ему слишком много внимания, а главное, за то, что Валерке дано быть душой общества.
– Ну ладно, Петро, чем зуб на меня точить, лучше бы с учеников своих стружку снимал, – самым серьезным тоном заводит Валерка. – Полчаса назад твой вечерник Митька Кусков за рупь налил мне целую канистру из казенного бака. Слыхал, он у тебя в отличниках ходит…
Петр Дмитриевич краснеет, и Оля чувствует, что ему неловко перед ней за своего вечерника, а больше – за свою беспомощность дать отпор «племянничку». Петр Дмитриевич с озабоченным видом ест вишни, звякая ложкой о стакан и выплевывая косточки прямо на синюю в белый горошек клеенку.
А Валерку несет дальше. Подмигнув Оле, он притворно внимательно глядит на Петра, потом, наклонившись в его сторону и понизив голос до таинственного шепота, говорит:
– Иду я, значит, сегодня по базару и вижу – впереди фигура знакомая маячит. Подхожу ближе – Алевтина. Повисла у военного на руке, знакомый или нет – не успел разобрать: скрылись оба в толпе, только полковничьи звезды перед глазами блеснули.
Валерка явно перегнул, и Оля от неловкости заерзала на стуле. Алевтина – бывшая жена Петра, с которой он до сих пор не оформил развода, потому что еще питает к ней нежные чувства.
– Чего я ему, старому дураку, и талдычу, – с готовностью подхватывает баба Галя. – Нагуляет на стороне, а ты по гроб алименты платить будешь.
Петр Дмитриевич наскоро вытирает рот посудным полотенцем и, вскочив из-за стола, идет к большому сундуку в углу за печкой, где баба Галя держит запасы муки и круп.
– Ибрагим, Ибрагим, айда на лавке посидим, – зовет он, и кот, прыгнув на колени хозяину, кладет ему передние лапы на плечи и с ласковым мур-муром заглядывает в глаза. Петр гладит потрескивающую электрическими разрядами кошачью спину, улыбается виновато и беспомощно.
Баба Галя направляется к печке и сердито гремит тяжелыми чугунными конфорками. Валерка глядит на Олю, наслаждаясь триумфом.
В такие минуты Оля презирает Валерку всей душой, но, прежде чем ее презрение облекается в подходящие слова, он достает из-за пазухи толстую книжку и великодушным жестом кладет ее на стол.
– Держи, Петро, свою желанную и долгожданную «Королеву Марго». Дарю. На добрую память и с наилучшими пожеланиями от господина Дюма-старшего. А мы с вами, Ольга Александровна, едем на природу. Как говорят у их в Филадельфии – на уик-энд. Заметано?
Оля не возражает. Она уже успела полюбить эти, как ей казалось, ни к чему не обязывающие лихие поездки по степным просторам, вдоль все более обнажающихся в предчувствии зимних холодов лесопосадок, между распаханными, точно вывернутыми наизнанку полями. Там и дышится, и думается легко.
Валерка с шиком выжимает газ, и его новенький рубинового цвета «жигуль» срывается с места, точно сытый конь. Они вихрем проносятся по утопающим в багрянце садов окраинным улицам, мимо поросших величественными зарослями бурьяна развалин храма.
В степи пронзительно тихо и грустно оттого, что далекое безоблачное небо возвращает в памяти другое лето.
– Что, барышня, нос повесила? Воспоминанья гложут?
Валерка поворачивает к Оле смуглое лицо и пытливо смотрит на нее рыже-карими чуть раскосыми глазами. Машина замирает посреди ухабистой дороги, неровно прочертившей степь до самого горизонта.
Внезапно Валерка извлекает из-под сиденья банку с апельсиновым соком, бутылку «Столичной». И два хрустальных стакана, аккуратно завернутых в белоснежное полотенце.
– Как в лучших домах Лондона и Жмеринки, – провозглашает он, ловко смешивая в стаканах сок и водку. – Коктейль «Прекрасная незнакомка», а по-простому – «Недотрога». За то, чтоб это было не во сне. Давай до дна.
Оля видит, как дрожат тонкие длинные пальцы Валерки, крепко обхватившие стакан.
«Сейчас начнет объясняться в любви, – думает она. – Допьет и…»
– Если я скажу, что люблю тебя давно и страстно, – это прозвучит слишком красиво и до пошлости банально. Ненавижу и то, и другое. А посему говорить об этом не стану, и целовать тебя тоже, раз ты этого не хочешь. По глазам вижу, что не хочешь. Угадал? – Валерка едва заметно ей подмигивает. – Зато когда нас свяжут навеки узы законного брака…
– Будем надеяться, это случится не так уж скоро…
– А я и не говорю, что это должно произойти прямо сейчас, – почти грубо обрывает ее Валерка. – Хотя у меня и в храме господнем, и в загсе имеются свои человечки. Им шумни только – по первому разряду все устроят. Я, так сказать, довожу до твоего сведения свою программу-максимум.
Голос Валерки звенит и рвется на высокой ноте, и Оля понимает, с каким трудом дается ему эта игра в самоуверенность.
– Здесь ты, разумеется, жить не захочешь, да я и не позволю тебе гнить в этой захудалой дыре, – продолжает Валерка. – Мы с тобой уедем в Москву или Нью-Йорк.
– Ты серьезно?
Валерка щурит свои широко поставленные глаза.
– Я, между прочим, богаче, чем здесь думают. Только я не собираюсь на этом богатстве сидеть, ибо не в нем усматриваю, выражаясь интеллигентно и цивильно, цель нашей бренной жизни. Хотя, признаться, и в нем тоже. Усекла? Я – человек современный. Ну, давай для бодрости еще тяпнем этой заморской гадости.
Валерка жадно осушает свой стакан. Оля видит тонкую струйку, сбегающую по пухлому, с ямочкой, подбородку, и ей становится жаль Валерку, себя и всех остальных людей, не защищенных от любви.
– Если по-честному, то я… я берегу тебя. Ты какая-то неземная, что ли… Ну хватит. Мотаем отсюда.
Валерка рвет с места и бешено гонит машину по пыльному проселку, ожесточенно швыряющему с ухаба на ухаб рубиновую скорлупку.
– Чтой-то вы сегодня рано, – встречает их баба Галя, прервав беседу с соседкой на лавочке возле парадного входа. – Небось зябко уже в степи.
– Угадала, баба Галя, – хохотнул Валерка. – А в машине, сама понимаешь, тесно. Вот сменю ее скоро на «волгу», тогда и зимой, гм, можно будет прокатиться.
Он резво вбегает на крыльцо и распахивает перед Олей тяжелую дубовую дверь.
Их с ходу обволакивает спертый жар прихожей, куда выходит выложенная сине-желтыми изразцами стенка печи. Оля прислоняется лбом к их неровной поверхности, и на нее вдруг наваливается тоска. Одна, совсем одна… Среди чужих и чуждых ей по своим представлениям о жизни людей. Впереди длинный вечер с унылым ужином под блекло-оранжевым абажуром, душная бессонная ночь…
– Ну что, барышня, в задумчивость впала? Никак от радости, что такой жених на горизонте замаячил? Да ты всплакни, не стесняйся – редко кому из вас такое счастье приваливает.
Оля благодарно улыбается Валерке, хотя он и не видит в темноте ее лица.
– Ладно, к чертям сантименты! Вернемся к нашей трезвой прозаичной жизни, – балагурит Валерка. – За заморские коктейли принято платить натурой. А как же иначе? Это тебе не наша расейская бормотуха. Придется тебе, дорогая барышня, весь вечер играть мне своего Шопена.
…Старенький «Шредер» дрожит и стонет под натиском фантазии. Слоники на его заставленной кружевами поверхности вздрагивают и кренятся. Валерка бесцеремонно сгребает их в кучу и швыряет на кровать. Он стоит сзади Оли, ей кажется, он вот-вот схватит ее за руки и прервет этот поток срывающихся от невыносимого напряжения звуков. Ей самой этого хочется. Но пальцы несутся и несутся дальше, уже неподвластные ее мыслям и желаниям.
Потом они долго молчат. Баба Галя просовывает в неплотно прикрытую дверь закутанную в пуховый платок круглую, как большой кочан капусты, голову и сокрушенно качает ею, увидев раскиданных по кровати слоников.
– Приличные люди не слонов, а марки собирают. Или на худой конец – бутылки из-под виски. Ты же, баба Галя, все в позапрошлом веке пребываешь, – басит Валерка в своей обычной шутовской манере.
* * *
Дождь лил уже третий день, и мерклый уличный свет, проникая в высокие окна класса, наполнял его сумраком, с которым не под силу было совладать мерцавшей на недосягаемых высотах старинного потолка белой трубке псевдодневного света.
Оля слушала ля-мажорную сонату Моцарта, смотрела на одухотворенный профиль своего лучшего студента Миши Лукьянова и думала о том, что, если завтра кровельщики не выйдут на работу, потолок наверняка почернеет. Еще до начала занятий она пыталась поговорить на эту тему с директрисой, но та лишь рукой махнула и, нарочито громко стуча каблуками, скрылась за дверью своего класса.
«Неужели ей на все наплевать? – думала Оля, вслушиваясь в светлые пассажи сонаты. – От сырости пропадут инструменты и вообще пойдут насмарку все наши мучения с ремонтом».
– Ну, Миша, вы просто молодчина! – дослушав заключительный аккорд, похвалила Оля. – Если доработать отдельные пассажи, можно и на международный конкурс.
– Вы шутите. Для этого нужно родиться… избранным. А я самый обыкновенный.
Миша покраснел и отвернулся к стене.
«Этому парню явно не хватает уверенности в своем таланте, – думала Оля. – Да и откуда ей взяться? Отец – горький пьяница, мать совсем недавно закатила скандал в преподавательской, требуя, чтобы ей не портили сына. «Нехай на завод идет. Ишь барин какой выискался – трынь-брынью занялся!» – кричала она, размахивая руками под носом у директрисы. В Центральной музыкальной школе таланты лелеют, детей с первых шагов готовят к международным конкурсам. Сколько же в провинции остается нераскрытыми по-настоящему ярких дарований! Поярче тех, кого столичные тщеславные родители с трех лет усаживают за инструмент».
– Вы напомнили мне одного французского пианиста. Он покорил всех на конкурсе имени Чайковского как раз исполнением этой сонаты Моцарта. Кстати, он тоже вырос в небольшом городке. Он верил в свой талант, а потому добился многого. Вы даже внешне чем-то на него похожи.
– Я тоже… Для меня музыка…
Миша запнулся и окончательно смешался.
– Давайте заниматься с вами каждый день? – неожиданно предложила Оля.
– Но… у меня нет денег платить вам за уроки.
Оля встала со стула и поспешно отошла к окну, чтобы Миша не дай Бог не заметил вдруг навернувшихся на глаза слез.
– Жду вас завтра в три пятнадцать. И я непременно договорюсь с Инессой Алексеевной, чтобы вам разрешили упражняться в училище.
Она задержалась у окна, давая возможность Мише уйти. Слышала, как он аккуратно складывает ноты в скрипучую сумку из грубой клеенки.
«Илья тоже вырос в глухой провинции, – думала она. – Наверное, сперва так же робел в присутствии педагога, а потом уверовал в свои силы и достиг невероятных высот. Почему-то меня всегда раздражала как раз эта его уверенность в собственной исключительности. Но, наверное, без нее невозможен настоящий взлет…»
Директриса подняла на Олю глаза и казенно улыбнулась.
– Садитесь, пожалуйста. Вы, я полагаю, по поводу кровельщиков? Говорила, говорила с начальником РСУ. Обещал новых прислать. Вас это устраивает?
– Когда он их пришлет? Не сегодня-завтра протечет потолок.
– Собственно говоря, что вы обо всем этом так печетесь? Вам никаких нервов не хватит.
– Могут погибнуть инструменты.
– Если это случится, мы подадим в суд на РСУ, и они возместят нам все убытки. – Инесса Алексеевна широко улыбнулась. – Я двадцать лет отбарабанила директором музшколы, так что все наши законы знаю назубок. Со строителями иначе как через суд каши не сваришь.
– Инесса Алексеевна, может, нам частников нанять?
– И заплатить им из собственного кармана? – Директриса щелкнула замком сумки и вынула из нее пудреницу. – У вас ко мне еще какое-то дело?
– Да. Я прошу разрешить Михаилу Лукьянову упражняться на рояле в стенах училища.
Инесса Алексеевна возвела глаза к потолку и с грохотом отодвинула свой стул.
– Господи, опять этот Лукьянов! Меня уже тошнит от него и его семейки. Вы с ним носитесь, как с бриллиантовым перстнем. Рихтера, что ли, надеетесь вырастить?
– А почему бы и нет? – Оля почувствовала, как ее щеки вспыхнули алыми пятнами. – Он очень одарен. Очень. Нет, я бы даже сказала, он талантлив. А наш долг состоит прежде всего в том, чтобы лелеять таланты.
– Нет, нет и нет! – запротестовала Инесса Алексеевна. – На государственных роялях имеют право упражняться лишь наши педагоги. Если мы допустим к ним студентов, к концу учебного года они превратятся в кучу мусора. Наш долг прежде всего состоит в том, чтобы сберечь государственное имущество.
– Но ведь Лукьянов – явление уникальное, – попыталась возразить Оля. – И потом, он так бережно, я бы даже сказала, с благоговением относится к инструменту.
– А вам известно, моя дорогая, из какой он семьи? – Инесса Алексеевна подошла к Оле вплотную и нависла над ней массивной, обтянутой пуховым свитером грудью. – Его отец дважды привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, мать…
– Плевать я хотела на все ваши трезвые доводы! – услышала Оля свой звенящий от возмущения голос. – У вас нет никакого права запретить Лукьянову заниматься на рояле в стенах училища. Иначе я… Иначе я найду к кому обратиться!..
Оля видела перед собой стеклянно-синие глаза Инессы Алексеевны. Этих слов директриса ни за что ей не простит. Черт с ней! Не станет она поджимать перед начальством хвост. Ну а нервы у нее в последнее время действительно на пределе.
Неожиданно Инесса Алексеевна пресно улыбнулась, похлопала Олю по плечу.
– Помню, я в молодости тоже горячей была. Еще какой горячей! Весь пыл по пустякам и растратила. Очень жаль, что вы мои ошибки повторяете. Хорошо, насчет Лукьянова я подумаю. Он, пожалуй, на самом деле способный студент.
Оля вышла в беззвездный мрак осенней ночи и, раскрыв зонт, побрела в сторону дома. Валерка нагнал ее возле центрального универмага, распахнул дверцу машины. Она благодарно плюхнулась на мягкое сиденье.
– Извини, к подъезду не подал – не хотел твоей Инессе вконец настроение портить. Понимаешь, ее, бедняжку, намедни старый хахаль спустил с горки без тормозов, так что ей край как нужно своей скрипучей тачкой на кого-нибудь наехать.
– А тут я на дороге очутилась. Так, что ли?
Валерка присвистнул.
– Да плюй ты на них всех. Сама видишь – кукольный театр. Посмеялся, похлопал в ладоши – и забыл. Играй себе Шопена и береги нервы.
– Что это вы все о моих нервах так печетесь? – вдруг взорвалась Оля.
– Спокойно, спокойно, крошка. Бурные эмоции нужно проявлять… сама знаешь где. Ну, может, еще иногда за роялем. А в жизни…
– В жизни нужно на все плевать.
– Умница. Усекла наконец.
– Ну и плюйте себе на здоровье. Сидите в своем стоячем болоте и плюйте на все вокруг. И берегите ваши драгоценные нервы.
Оля нащупала в темноте ручку, и когда Валерка затормозил возле светофора, выскочила из машины и нырнула в темный переулок. Она слышала отчаянные Валеркины вопли-сигналы, потом они смолкли. Остался лишь равнодушный шелест дождя и звук ее шагов.
Баба Галя собирала на стол. Увидев мокрую растрепанную Олю, всплеснула руками.
– Фулюганы пристали? Этой падлы у нас хоть отбавляй. А где Валерку черти носят?
– Он меня подвез, – тихо сказала Оля, стаскивая мокрый плащ.
– Так, значит, это он разбойник руки распустил? – Баба Галя зорко вглядывалась в Олино лицо. – Ты это правильно: не позволяй ему раньше срока баловство. Он тут не одну девку по кустам водил, а после замуж не взял.
– А я и не собираюсь за него замуж, – устало бросила Оля по пути в свою комнату.
Баба Галя неотступно шла за ней.
– Как это – не собираешься? Зачем же тогда время проводишь? Да он жених хоть куда – ему от бабки пуд царского золота достался. Она казначейшей у монашек была, вот и натягала монастырского добра будь здоров.
– Ну и что?
– Как это – что? Ты об свою пианину все пальцы побила ради заработков. Они у тебя страшные и пухлые, как у доярок на ферме. За ним как за каменной стеной жить будешь. Он тебе за холодную воду взяться не позволит, верно говорю!
Оле вдруг все на свете стало безразлично. Пускай поговорят, посудачат. Люди любят чужие судьбы устраивать. Перед Олей было спокойное румяное лицо бабы Гали – каким покоем веет от этой крепкой здоровой старухи. Вот и ей бы, Ольге, так же деловито, без суеты, вести домашнее хозяйство, сажать по весне картошку, солить на зиму огурцы… Может, на самом деле в такой жизни больше смысла, чем в этой каждодневной нервотрепке?..
Оля вдруг уронила голову в пахнущий домашним теплом ситцевый передник бабы Гали.
– Устала я. Знали бы вы, как я устала…
Она поведала о своем разговоре с Инессой Алексеевной, о Мише Лукьянове, об опасениях насчет крыши. И о том, как ей одиноко, трудно, тоскливо. Баба Галя сидела рядом с Олей на высокой кровати и кивала головой, с интересом внимая каждому ее слову.
– Мишка твой пускай к нам приходит заниматься. Небось не разобьет пианину, – только и сказала она.
…Чай пили с медом и теплыми пышками, которые баба Галя то и дело подкладывала Оле. Петр Дмитриевич, желая ее развеселить, рассказывал детские анекдоты. А потом явился Валерка с большим букетом мокрых пушистых астр и прямо с порога швырнул Оле на колени.
– Фу, скаженный, разве ж так дарят букеты? – беззлобно проворчала баба Галя. – Небось всю клумбу у своей бабки Поли оборвал. Садись, что ли, чай пить.
– За чай спасибо, только я с непрощенным грехом за стол не сяду. – Валерка бухнулся на колени, картинно закатил глаза. – Милостиво прошу простить меня, сударыня Ольга Александровна. Истомился весь от тоски по вашему ласковому словечку. Ну, скажите же…
«Паяц, – думала Оля. – Настоящий паяц. Ими обычно становятся люди с чересчур ранимыми сердцами. Может, и мне попробовать ему подыграть?..»
Она встала, прижала к груди мокрый букет и сделала чопорный реверанс.
– Прощен, прощен, прощен!
Валерка подхватил на руки спавшего на сундуке Ибрагима и закружился в вальсе, топча мокрыми ботинками чистые крашеные половицы.
– Ну, хватит дураковать на ночь глядючи, – проворчала баба Галя. – Хочешь чаю – садись к столу, а нет – вытряхивайся за дверь и людям покой дай.
– Не будет, не будет вам покоя! Я расплескаю ваше стоячее болото.
Валерка лукаво подмигнул Оле.
– Ты лучше чаем на клеенку не плескай, – подал голос до сих пор молчавший Петр.
– А ты, Петро, не вякай. Дыши себе носом и поливай по утрам фикус. А еще за Алевтиной приглядывай, не то… – Валерка с опаской покосился на Олю. – Все, все, умолкаю в страхе перед новыми катаклизмами.
В ту ночь Оле долго не спалось. Вертелась на мягкой жаркой перине и мучилась чувством вины перед Валеркой. Кругом она виновата перед ним, кругом. И в том, что не любит его и, вероятно, никогда не полюбит. И в том, что думает прежде всего о себе. Всегда думала, потому и Илью потеряла. Валерка предан ей всей душой, Валерка готов горы ради нее свернуть, Валерка… Словом, не нужен ей Валерка. Кроме Ильи, не нужен ей никто. Глупая, несовременная, белая ворона… Теперь живи воспоминаниями о прошлом. О том, что не сбылось. А все остальное, как выражается Валерка, кукольный театр. Но можно ли прожить одними воспоминаниями?
* * *
Войдя утром в класс, Оля прежде всего подняла глаза на потолок. Ей показалось, что лепные украшения угрожающе набрякли, сдерживая воду. Кровельщиков нет и в помине. «Какой дурак в такую дождину за одну зарплату на крышу полезет? – сказала за завтраком баба Галя. – Это же не у себя над головой каплет».
Дождь упрямо сеет прозрачное просо. И Оля кутается в шаль, с надеждой вглядываясь в обложенное тучами небо, напрасно отыскивая в нем хоть маленький просвет.
Миша Лукьянов все шпарит наизусть. Талантлив, черт, и, что очень важно, работать умеет. Оля кладет ладонь на обшлаг его обтрепанной курточки.
– Когда же вы успели все это выучить? И где?
Миша нехотя возвращается к реальности.
– Вчера занимался в красном уголке механического техникума, сегодня с утра – здесь… Если вы не очень устали, сыграю вам сонату Листа.
Миша начинает играть величественное, нисходящее в таинственные глубины жизни вступление, возвещающее о жестокой борьбе темных и светлых сил.
Подняв глаза к потолку, Оля замечает большое серое пятно над роялем – с него вот-вот готова сорваться тяжелая мутная капля.
– Миша, потолок! – кричит она, хватает со стула свой плащ и набрасывает его на крышку рояля. – Я… я побежала за людьми. Вот еще шаль…
Во всем особняке ни души. Лишь в комнате под лестницей, где сидит сторож, горит свет.
– Дядя Федя, потолок в пятом классе потек! – кричит Оля, распахнув дверь. – Вы – туда, я – в горсовет.
Уже с улицы слышит шаги старика, сотрясающие деревянную лестницу.
У входа в горсовет ей преграждает путь милиционер, но она его отталкивает и бежит по длинному коридору, оставляя на плюшевой дорожке мокрые грязные следы.
…Голова кружится так, как в детстве на карусели. То ли от подогретого вина, которого она по настоянию бабы Гали выпила целую кружку, то ли от пережитых тревог. Но теперь они позади. Баба Галя одобрительно качает головой. «До самого главного начальства дошла. Ну и ушлая ты девка». Петр нет-нет да поднимет голову от контрольных работ, которые проверяет за обеденным столом, и улыбнется Оле весело и доброжелательно. Или все это чудится…
* * *
«Дорогая Татуша!
Я уже описывала тебе свои злоключения с крышей и со зловредной Инессой, как прозвали ее с легкой руки Валерки. Так вот, крыша в полном порядке, даже на чердаке сменили подгнивший настил, а вот Инесса… С того самого дня она зачислила меня в свои личные враги. Здоровается лишь в присутствии посторонних, обычно же шествует мимо, гордо неся свой бюст. Честно говоря, меня это мало заботит, тем более что дела в училище идут, тьфу-тьфу, неплохо.
Все мои студенты делают заметные успехи, что было отмечено на позавчерашнем классном вечере. Я уже не говорю о Мише Лукьянове – тот шагает семимильными шагами. Благодаря Мише я тоже стала поигрывать, даже подумываю выступить с сольным концертом (пока это, правда, в неопределенном будущем). Все-таки не правы те, кто считает неблагодарной педагогическую работу. От иных студентов такой запас энергии получаешь, что можешь горы свернуть. С Мишей мы проводим много времени. Он обычно провожает меня домой, требуя все новых и новых рассказов о концертах, консерваторской жизни, системе преподавания Генриха Нейгауза. Вообще я всерьез начинаю подумывать о том, что Мише нужно ехать учиться в Москву.




