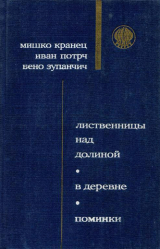
Текст книги "Лиственницы над долиной"
Автор книги: Мишко Кранец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
– Убей, мамочка, – шепотом молила Альбина, – пусть они не мучают меня…
Яковчиха вздрогнула, вдруг поняв, что сделает это.
Но тут Минка вырвалась из рук солдата, бросилась к матери, пытаясь заслонить ее, и дико закричала на немецком языке, который учила в школе:
– Ich, ich schießen, ich, ich, nein Mutter, ich![8]
Яковчиха поняла Минку. Силы окончательно покинули ее, она не могла унять дрожь. Еле слышно прошептала она девочке:
– Стреляй, Минчек, стреляй, если можешь, стреляй, чтобы она не мучилась, только вначале стреляй в меня, чтобы мне не видеть это…
Теперь у солдат появилась новая забава. Один дико кричал:
– Nein, die Mutter soll schießen, die Mutter![9]
А другой орал во всю глотку:
– Nein, das Kind, das Kind soll schießen![10]
– Seh’ du, die kleine Banditin![11] – скалил зубы офицер. Он схватил Минку за плечи, солдаты сунули ей в руки автомат и толкнули к Альбине, к постели.
– Минчек, стреляй, убей меня, – шептала Альбина.
– Минчек, убей, – шептала мать, – и меня убей. – Яковчиха вырвалась из рук солдата, который должен был сторожить ее, но позабыл об этом, увлекшись происходящим, кинулась к постели и сбила с ног офицера. Минке – и тогда, и потом – казалось, что автомат выстрелил сам по себе, но она никогда не сомневалась в том, что действительно собиралась стрелять. Она уже не могла остановиться и, почувствовав, что освободилась от вражеских рук, обернулась и яростно начала стрелять в солдата, который кинулся на Яковчиху, в офицера, который пытался подняться с пола, держа в руках револьвер.
– Минчек, Минчек! – кричала обезумевшая мать, упав на мертвую, окровавленную Альбину, – и меня, девочка, и меня тоже, Минчек!
Увидев, что трое солдат лежат на полу комнаты в лужах крови, Минка кинулась в коридор с диким криком:
– Никого, никого не пущу – всех убью, всех!
Услышав выстрелы в доме Яковчихи, немецкие солдаты выскочили из трактира и других домов; поднялась суматоха, дом Яковчихи окружили, закидали гранатами; Минка стреляла из окон – никто не мог понять, что случилось у Яковчевых. Прижимаясь к стенам домов, немцы пытались выбраться из села. А в это время партизаны атаковали село, – посыпался град пуль, со всех сторон застрочили пулеметы, так что солдаты едва успели отступить, захватив с собой трех убитых во время перестрелки.
Когда немцы отступили и первые партизаны ворвались в село с могучим криком: «Вперед!» – в сени неожиданно, словно свалившись с неба, вбежал Йошт Яковец. Он кинулся наверх, как человек, который спасается от смерти. Каким-то чудом Минка узнала отца и не выстрелила в него. Испуганный, с поднятыми руками, стоял он перед собственной дочерью, судорожно вцепившейся в автомат.
– Не стреляй, Минчек, не стреляй!
Бедный ребенок был настолько же ошарашен приходом отца, насколько он – ее видом.
– Спрячь меня, Минчек, ради бога, спрячь меня! – умолял он, не опуская рук и испуганно поглядывая в сени. – Там немцы и партизаны. Я убежал от немцев, да только и партизаны меня не жалуют. А я – ни тех, ни других! Спрячь меня! – Минка распахнула перед ним двери комнаты, где лежали мертвая Альбина и убитые немецкие солдаты и где была Яковчиха. И Йошт испугался еще больше. Без слов он стоял на пороге, моргал глазами, ничего не понимая. Яковчиха, удивленная его появлением, уже пришла в себя. Ее глаза засверкали. Она приблизилась к нему и, прежде чем он успел что-либо сообразить, закрыла двери и встала перед ним как грозный судья.
– Я убежал от них, – сказал Йошт, хотя Яковчиха еще ни о чем не спросила его.
– От кого?
– От немцев, – ответил он. – Они меня схватили.
Яковчиха не отводила от него упорного взгляда, и он не смел пошевельнуться. Страшные мысли роились у нее в голове. Она резко спросила:
– Где тебя схватили?
– Там, – он неопределенно махнул рукой.
– Там, где ты служишь? – спросила она. Понемногу ей все становилось ясным.
– Нет, нет, – захлебывался он ответом: – Нет, нет. Я шел домой, по дороге они меня и сцапали. – Последнее время Яковец не приходил домой даже по воскресеньям, а среди недели он и вовсе не появлялся. Яковчиха смотрела на него так, будто не решалась додумать свою мысль до конца. Она взяла мужа за руку. Он пошел за ней послушно, словно ребенок, который знает, что должен быть наказан за свои проступки. Она подвела его к постели, на которой, вся в крови, лежала Альбина. Он вздрогнул и покачнулся, сраженный увиденным. Свободной рукой прикрыл глаза; Франца сказала:
– Яковец Йошт, мы их родили, восьмерых, теперь в лесу остался только один. Если это ты привел в село немцев, которые надругались над твоими дочерьми, тогда я, своими собственными руками, убью тебя, отца моих детей и своего мужа! – Он был бледен, словно мертвец, дрожал всем телом и не мог вымолвить ни слова. Очевидно, Йошт Яковец не сомневался, что жена убьет его: его взгляд сказал ей всю правду. И Яковчиха больше не сомневалась, что немцев в село привел Йошт. И все же тогда она еще не смогла его убить. Она даже спрятала его – закрыла в комнате, когда партизаны пришли к ней узнать про Альбину. Яковчиха спрятала мертвую Альбину, спрятала мертвых немецких солдат, спрятала своего мужа Йошта. Минка лежала внизу, временами вскакивала с постели, пыталась куда-то бежать, кричала, что идут немцы, требовала, чтобы ей дали автомат.
– Ничего, ничего страшного, – с горькой усмешкой отвечала Яковчиха партизанам, которые спрашивали, что это с девочкой. – Пройдет, это пройдет, – утешала она и себя и их. Когда вечером партизаны ушли из села, Яковчиха поднялась наверх, чтобы выпустить из комнаты Йошта. В комнате она обнаружила распахнутое настежь окно.
Минка бредила всю ночь, и всю ночь Яковчиха просидела рядом с ней, а в комнате наверху лежали мертвые. И все-таки она нашла время вымыть и переодеть Альбину в самое чистое, самое лучшее белье, какое нашлось в доме, и в самое красивое праздничное платье. На следующий день – Резка и Анчка еще не вернулись из города – мать украдкой, чтобы никто не заметил, выкопала в лесочке за домом две могилы. Вечером они с Минкой перенесли туда мертвых; в одной могиле похоронили Альбину, в другой – немецких солдат. Утром Яковчиха прикрыла могилы, чтобы их нельзя было найти; Минка в это время привела в порядок комнату. Белье они сожгли, полы вымыли, и в доме вроде бы не осталось никаких следов. Казалось, так же как комнату, они вымыли и сожгли свою память и свое сердце: об этом они никогда не говорили. Вечное молчание покрыло грех, ужас, скорбь и боль.
Резка и Анчка вернулись только через два дня. Оказалось, что их в городе арестовали. Потом они закрылись с матерью. С ужасом и отвращением рассказали ей, что немецких солдат тайными тропами привел в Подлесу их отец, Йошт.
А Йошт стал появляться дома чаще, чем прежде, как будто его мучила совесть: время от времени он приходил домой даже в будние дни. Всякий раз убеждал жену в том, что жизнь у него невыносимая и он с радостью послал бы все к черту и остался дома. Он все еще боялся партизан и спрашивал, нет ли их где поблизости. А по вечерам Йошт всегда возвращался в долину.
Посещения Йошта продолжались недолго. В один прекрасный день в родном доме появился Стане, партизанский комиссар. Он заперся с матерью наверху и там, с глазу на глаз, сказал ей, что отец предатель и что он пришел его ликвидировать. Он будет ждать его здесь, в этой комнате.
Яковчиха не удивилась решению сына; она только сказала ему сухо, повелительно, будто приказала:
– Не смей отца, своими руками, не смей… Я не позволю, чтобы кто-нибудь другой убил моего мужа. Какой бы он ни был, он мой муж и ваш отец, – отрезала она. К счастью, Йошт в те дни не показывался в горах, и Стане пришлось уйти.
– Все равно, мама, знай – Йошта Яковца мы убьем; не удастся мне, прикажу другим.
После ухода сына Йошт опять появился в доме. Но лишь неделю спустя, когда из-за Урбана налетело ненастье, ей удалось задержать его до ночи.
– Я провожу тебя, чтобы с тобой чего не случилось, – сказала она. – Ночью одному идти в долину небезопасно. – Однако незадолго до полночи, когда непогода успокоилась, ей с трудом удалось уговорить его отправиться в путь – настолько он был напуган.
Вспышки молнии, которые сопровождались замирающими в дальних горах раскатами грома, озаряли небо. Временами становилось светло как среди бела дня, лишь пропасти казались еще более глубокими, а склоны – еще более обрывистыми. Франца и Йошт отправились в путь.
– Не волнуйся, все будет в порядке, – успокаивала его Яковчиха. Но он чувствовал что-то неладное и очень беспокоился. Он велел ей идти рядом, с левой стороны, там, где по обрывистому склону начинался лес, и с печальной улыбкой пояснил:
– Если будет засада, тебя не тронут.
– Кто? – спросила она.
– Понятно, партизаны.
– А почему они должны тебя тронуть?
– Говорят, я шпионю и предаю.
Яковчиха долго молчала, потом промолвила:
– Йошт Яковец, а ведь ты на самом деле шпионишь и предаешь, и нечего от меня это скрывать. Когда они надругались над Альбиной и девочкой – тогда их тоже привел ты. Меня-то не обманешь, мы слишком хорошо знаем друг друга, Йошт.
Он остановился. В блеске молнии, осветившей небо, Яковчиха увидела его лицо: на мгновение ей показалось, что это не ее муж, не Йошт, так он изменился.
– Иди! – сказала она.
А он стоял будто вкопанный. Они были на вершине горы, возле лиственниц.
– Франца, – дрожал он, – скажи, вы договорились и сейчас они меня поджидают?
– Кто?
– Партизаны.
Она сжала губы, до боли закусила их. Но ответила спокойно:
– И не пытайся бежать. Ты в безопасности только со мной. Меня не тронут.
– Тебя, конечно, – подтвердил он дрожащим голосом.
– Йошт, – она встала перед ним, – признайся мне как богу: это ты привел немцев в горы? – При новой вспышке молнии она пристально посмотрела ему в глаза.
– Нет, нет! Не я! – в ужасе закричал он. Йошт Яковец понял, что превратился в пленника своей жены, и все-таки не решался бежать: он боялся, что его ждут за кустами; на ущелье надежды тоже не было – слишком уж крут был спуск.
– Врешь! – возразила она. – Ты их привел тогда, да и сейчас ходишь и выпытываешь, чтобы привести их снова. У меня был Стане и сказал, что убьет тебя; сын убьет отца, Йошт, вот до чего дошло. И он прав.
Йошт дрожал, не в силах вымолвить ни слова. Дождавшись очередной вспышки молнии, чтобы видеть лицо жены, он спросил, стуча зубами:
– Франца, скажи по правде, они ждут меня здесь? Сегодня, да?
Она испугалась, что чувство омерзения и отвращения к нему помешает ей выполнить задуманное. Вместо ответа спросила:
– Тебе не было больно, Йошт, когда ты увидел, что они сделали с твоей дочерью?
Он молчал и только, когда она более требовательно повторила свой вопрос, пробормотал:
– Они хотели меня арестовать, убить, из-за них, из-за детей, из-за того, что те ушли в партизаны. Я ведь не думал, что они кого-нибудь поймают!
– Сегодня здесь тебя никто не ждет, – наконец ответила она на его вопрос. – Я не допущу, чтобы сын запачкал руки кровью собственного отца. Не позволю, чтобы тебя убил кто-нибудь другой. Не хочу. Ты был нашим, моим, Йошт.
Тот молчал, потом прошептал, стуча зубами:
– Франца… – Догадка подобно молнии, осветившей небо над горами, пронзила его мозг: – Ты сама… Франца?
– Да, Йошт.
– Когда, Франца?
– Сейчас, возле наших лиственниц, Йошт.
Он отскочил, но слишком поздно…
– Поскользнулся, – спокойно, невозмутимо сказала Яковчиха. – В такую ночь, когда без передышки сверкает молния, человек может на минуту ослепнуть и оступиться. Там очень крутой спуск, а внизу – белые скалы, об одну из них Йошт и разбил голову.
Она прервала свой рассказ. Что-то тяжелое, безнадежно гнетущее легло всем на душу, мужчины не решались даже перевести дыхание. Они не сводили взгляда с Яковчихи – лицо ее было спокойным и строгим, отчего казалось незнакомым. А она, нарушив тишину, продолжала с чувством нескрываемого удовлетворения:
– Стане я от этого избавила. – И вдруг заторопилась, словно хотела поскорее освободиться от мучительных воспоминаний. – Но немцы не хотели поверить, что Йошт и впрямь поскользнулся. В долине его труп осмотрел врач. У Йошта была разбита голова, и врачу пришлось подтвердить, что он мог разбить ее об скалу. – И еще торопливее стала рассказывать дальше: – Когда немцы схватили Стане, они мучили его и из-за Йошта. Но он не стал бы предателем ни за что на свете. – Сказала она гордо, торжественно.
Медленно, осторожно, словно боясь разбудить спящего, она повернулась к Петеру Заврху. Но разбудить надо было всех троих, все они стояли неподвижно, затаив дыхание, с прикрытыми глазами – мысли их были далеко. А взгляды устремлены сквозь открытое окно, куда-то поверх цветущих ветвей старой черешни.
Петер Заврх повернулся, не взглянув на Яковчиху. Медленно и почти неслышно он вышел в коридор, на минуту остановился там, как будто пытался что-то припомнить, потом спустился по ступенькам вниз, в сени. Сунув палку под мышку, он прикрыл руками лицо, сжал виски, как будто его мучила боль. И она действительно мучила его, клевала – подобно птице – в голову, но еще сильнее – в сердце. Несмотря на это, Петер почему-то вспомнил о своей сумке и направился прямо к окну, возле которого ее положил. Он взял сумку, снял с гвоздя шляпу, выпрямился и с серьезным, строгим лицом остановился посреди комнаты. Его водянистые глаза задержались на пяти похоронках и фотографиях. Священник Петер прошептал:
– Матко, Венцель, Лойзе, Стане, Альбина…
Он низко склонил голову, словно при выносе святых даров во время мессы, и некоторое время стоял неподвижно, как будто молился. Потом Петер Заврх широко перекрестился, закрыл глаза, повернулся и надел шляпу. В дверях он столкнулся с Яковчихой.
– Франца, – обратился он к ней спокойно, хотя голос его дрожал, – мы с тобой все выяснили. Объяснись с богом сама, коли до этого дойдет дело. Понадобится – позови меня, когда вернусь. Нас ждет длинный путь – тебя и меня, – и мы ничего не знаем, как там будет… Что же до твоих детей, мертвых и живых, а мертвых особенно, если б мы когда-то все же остались вместе, я бы ничуть об этом не пожалел, Франца. – И неожиданно добавил: – Было бы куда лучше, если б ты почаще сидела дома, а не у Фабиянки.
Яковчиха тепло, всепрощающе улыбнулась и сказала в свое оправдание:
– Знаешь, дорогой Петер, у Фабиянки хорошее зрение, как-никак она трактирщица, и всякого, кто идет в Подлесу, заметит. Если ей ничего не помешает, она вовремя предупредит меня, что за мной идет смерть. А дома мне все хочется прилечь; не люблю я этого. Да и воспоминания одолевают. А воспоминаний я тоже не люблю, Петер.
Он пожал ей руку, они еще раз обменялись взглядами, и казалось, они просят друг друга о чем-то и каждый хочет что-то сказать другому.
– Мама, – нарушил молчание Алеш, – завтра я вызову врача и отправлю вас в больницу.
Яковчиха обняла его как сына и воскликнула:
– А ты все такой же, как будто вчера вернулся из лесу, бедный Алеш. Человеку ничего другого не остается, как слушаться тебя – ведь ты еще во все веришь.
– Мама, – вступил в разговор и непутевый художник Яка. – Она сказала: «Я не вернусь, пока возле Урбана не зацветут черешни». А тогда мы вернемся вместе. – И добавил шутливо: – Только смотрите встречайте нас и затопите печь, чтобы мы увидели дым еще с вершины горы, от самых лиственниц.
Петер Заврх нахмурил лоб и заявил, четко и решительно:
– Что касается девушки, надо посмотреть, как у них дела с Виктором. – Очевидно, прежде чем произнести эти слова, Петер выдержал отчаянную битву с самим собой. А теперь ему казалось, что он искупает старые грехи, грехи своей молодости, когда отрекся от Францы и предпочел ей бога. – Правда, она не слишком подходит для Раковицы, – продолжал он, – и наверняка уже отвыкла от корзины, деревенской одежды и наших привычек. Она больше подходит для салонов и искусства, если вообще искусство еще интересует красота. Но, если бог решил иначе, Петер Заврх не выступит против его воли. Надеюсь, Франца, ты ничего не имеешь против этого? Пусть наши дети поступают так, как не удалось поступать нам.
Яка и Алеш посмотрели друг на друга, словно спрашивая, правильно ли они поняли слова священника, потом растерянно уставились на него самого: ничего подобного от Петера Заврха они не ожидали. Яка не посмел возразить ему; тем более не мог этого сделать Алеш, которому Яка, а теперь вот и священник разбивали мечты и планы. Да молодые люди и не успели бы возразить священнику, потому что тот уже опять обращался к Яковчихе:
– Значит, ты не хочешь причаститься, Франца?
Ее улыбка напомнила ему прежние, такие давние и прекрасные времена, времена спелых черешен, когда они, собирая черешни вокруг Урбана, непрестанно улыбались друг другу глазами, всем лицом, а она – и сочными алыми, словно зрелые черешни, губами. Слова, которые он услышал в ответ, были простыми, ясными и твердыми, и все же полными скрытой теплоты:
– Все, что я имела, дорогой Петер, я раздала – родине, фабрикам. А младшая, Минка… пусть поможет ей бог. Жаль, что и она не погибла вместе с другими за родину. Да что тут поделаешь? Когда я думаю о ней, мне все кажется, что и она погибла еще ребенком, тогда, там, наверху. Приезжает она, я ее сначала ругаю, а потом мы весь вечер плачем, а наплачемся вдоволь, отправляемся спать. В последний раз она мне сказала: «Сегодня я посплю на Альбининой кровати. Жаль, тогда вместо нее здесь должна была бы лежать я». Видишь, Петер, я раздала себя детям, а для других ничего не осталось. Ни для тебя, ни для твоего любимого бога, – надеюсь, ты веришь в него так же твердо и свято, как и раньше. Будешь молиться или разговаривать с ним, скажи, что Яковчиха никому ничего не может дать. А то, что мне дает государство, я оставляю у Фабиянки. – Она обернулась к художнику с той же всепонимающей и всепрощающей улыбкой: – А ты, Яка, возвращайся в город. Ты говорил, что опять станешь рисовать. Начни заново. Вот только когда будешь рисовать бога, нарисуй ему другое лицо. У того, который возле наших лиственниц, лицо слишком здешнее, крестьянское. Иногда он напоминает мне Йошта Яковца, а иногда Петера Заврха. Это неправильно. Пусть бог остается богом для всех, кто его сохранил и кому он еще нужен. А про Минку забудь, забудь раньше, чем спустишься в долину, если ты собираешься вниз. Это ведь она сказала, что ты, прежде чем дойдешь до города, трижды передумаешь. Не для тебя она. Да и ни для кого другого. Там, наверху, немцы убили в ней все, что в ней было святого, Яка, остальное она убила сама, когда стреляла в сестру. Пойми, – сказала она и, нахмурив брови, перевела взгляд на Алеша, – пойми, Алеш, Альбину должна была я… У меня, их родившей, у меня были на них права, у меня были перед ними обязанности. – На прощанье она обняла Алеша и прижала к себе, словно ребенка: – Я уж подумала, что ты меня позабыл… Ан нет, не забыл. Если еще побудешь здесь, приходи ко мне на похороны. И не грех будет, если поможешь нести мой гроб. Да смотри, похороните меня как следует, вы, партизаны, те, кто когда-то сидели за моим столом. Я не хочу позорить своих мертвых детей, потому что
ЛЮДИ УХОДЯТ, А ПОЗОР ОСТАЕТСЯ,
на веки вечные остается. – После этих слов она налила всем водки, в том числе и себе. Алеш сказал жалобно:
– Мама, не пейте больше! – Ничего другого он не мог сказать: что-то в нем рушилось и он готов был расплакаться, словно ребенок. – Вам надо в больницу, мама.
– И чего ты все пугаешь меня больницей, Алеш! – добродушно укорила его она. – Хочешь отнять то немногое, что у меня еще осталось, – водку. А ведь в войну она для всего годилась, сынок: для ран, для сердца, для желудка, – разве ты этого уже не помнишь?
– Тогда была война, мама.
– Жжет у меня, Алеш, повсюду жжет – в желудке, в душе – везде и всегда. – Неожиданно она протянула Петеру Заврху руку – это был жест сильного, умеющего прощать человека – и сказала: – А ты все такой же кулак, тебя даже церковь не переделала… Но ты не бойся: Минка не останется с Виктором в Раковице. Ни для хозяйства, ни для фабрики она не годится. Да и для искусства тоже, Яка. – Она примирительно улыбнулась Эрбежнику. – И для тебя, Алеш, она не подходит, для тихой, замкнутой жизни. Время ее сломало. Ну, прощайте, люди, – с этими словами она еще раз пожала каждому руку и отвернулась.
– Всех нас время пообломало, – после долгого молчания уже на вершине горы неожиданно сказал художник Яка, – Яковчих, старую, и молодую, меня и мое искусство, Алеша и его политику, и тебя, Петер, с твоей церковью. И этого бога, – он кивнул в сторону распятия. Да и бог ли это? – Он отмахнулся рукой, как будто отгоняя от себя что-то, в то время как Петер Заврх, напротив, пытался вспомнить нечто важное, совершенно позабыв про умирающего Добрина. Да и как тут было не забыть, когда болтливый Яка начал ворчать, глядя на распятие:
– Нет, этот бог и впрямь никуда не годится. Яковчиха права. На богатого хозяина Петера Заврха он еще может походить, но на Йошта Яковца в конце его жизни он не должен быть похож ни капельки! Тот бог, что посещает священника Петера, не ватиканский, а словенский. Самое лучшее сделать его похожим на Томажа Хафнера, небритого, вечно задумчивого и печального крестьянина, живущего возле Урбана…
– Болтаешь, художник, как всегда, болтаешь, – пробормотал священник Петер. – Но этого бога, и правда, надо переделать. Он не должен быть Йоштом. И корзины за спиной у него не может быть ни в коем случае. Бог не подвержен переменам. Однако пойдем дальше. Вечереет. Солнце уже отправилось за мой Урбан, а город еще далеко.
Алеш вздохнул:
– Город далеко, а Минка с каждой минутой все дальше…
– Пожалуйста, без благочестивых вздохов, – поморщился Яка, – отпущения грехов все равно не последует. Запомни, Алеш, прекрасное ускользает от человека и превращается в недостижимое. И не воображай, что красоту можно превратить в активистку и записать в женское общество; Минка не может стать женой Алеша, так же как красота – сделать своей резиденцией райком и устраивать там собрания…
Алеш бросил на него испытующий взгляд, а потом убежденно возразил:
– И все-таки она пойдет со мной. Если она вообще с кем-нибудь пойдет, то пойдет со мной, Яка, художник.
Яка посмотрел на него и спросил:
– Ты рассчитываешь на силу воспоминаний?
Алеш улыбнулся ясно, доверчиво.
– Ребенком, босая, по колено в снегу, прибежала она в бункер. Дважды спасла мне жизнь. Пойдет!
Яку поразила его убежденность. Он склонил голову и тихо проговорил:
– Я почти поверил тебе. Босая, по колено в снегу… Она любила тебя тогда?
Алеш счастливо улыбнулся:
– Да. Я был комиссаром. Хотя… наверно, она любила что-то другое, великое, непонятное для стариков и детей. Пойдет, она пойдет со мной, когда под Урбаном созреют черешни, Яка, художник!
Заходящее солнце разделило землю на широкие полосы; одни из них были покрыты темно-синей и лиловой тенью, другие, освещенные солнцем, казались чуть коричневатыми. Цветущие черешни на этих полосах превращались в лиловые букеты, леса – в широкие тяжелые темно– или светло-лиловые занавеси. Ущелья и овраги тонули в более мрачных тенях, в безднах. Склоны казались более отлогими, нивы – более широкими, стога сена – более пышными. Леса доходили до равнины, до садов, окружающих деревни, расположившись вдоль дороги, у подножья гор. Дальше тянулась широкая полоса лугов с желтыми, красными и белыми пятнами лютиков, полевых гвоздик и маргариток. Вплотную к лугам примыкал пушистый пестрый ковер нив с легкими штрихами ржи, пшеницы, клевера, овса, ячменя, картофеля, кукурузы. По краям полей и лугов стояли длинные регеля для сушки сена, на которых – словно на выставке – можно было видеть все богатства равнины. Еще дальше к подножью гор прилепился город, и отдельные его дома вскарабкались на возвышенность, словно желая посмотреть с нее на равнину. В центре города, на берегу реки, разместился вокзал. Свистели локомотивы, вагоны с грохотом ударялись друг о друга. Вдоль реки вытянулся длинный ряд высоких фабричных труб, наподобие того, как теснятся возле воды деревья. Сотни огней зажглись в мастерских; на фабричных дворах разлился неоновый свет, а над самими фабриками вспыхнули красные неоновые вывески. По ту сторону реки теснились старинные дома и церкви, они буквально лепились друг к другу, за ними тянулись окраины с редкими домишками, а еще дальше – опять горы, на которых в последних лучах заходящего солнца сверкал снег.
А рядом раскинулась равнина с деревушками, разбросанными среди садов, – казалось, это дети, которых позвали ужинать и спать, позабыли здесь свои игрушки. Равнину пересекали широкие полосы еловых и сосновых лесов, к ним примыкали более светлые полосы лугов. А те в свою очередь врезались в пестрые полоски полей, исчерченных межами.
– Словно гигантская клавиатура! – изумленно воскликнул художник и остановился. – Богатейшая палитра красок – эти разноцветные поля, которые мы никак не можем передать на полотне… Алеш, тебе не кажется? Кто-то играет на этой клавиатуре, но не политические песни. Обычную – песнь жизни, Алеш.
Алешу действительно показалось, что вокруг звучит музыка: будто кто-то невидимый сидит за гигантским музыкальным инструментом и невидимые руки с длинными пальцами тихо перебирают эти клавиши вечерних нив, лесов и лугов и извлекают из невидимых струн чудесные мелодии. Все поет, у всего своя мелодия – поют горы, освещенные последним сиянием, поют теряющиеся вдали холмы, поет река в золоте и серебре заходящего солнца, шумят и поют дороги, спешат в неизвестное – во все четыре стороны света, – по ним катятся маленькие шарики – автомобили и автобусы; поет поезд, который, словно иголка, снует по лугам, оставляя за собой нитку – белесую струйку паровозного дыма; поют отцветшие яблони и груши вокруг домов, поют клумбы с первыми цветами, возделанные девичьими руками, поет город с домами, автомобилями, вокзалом; поют фабрики, и фабричные трубы тоже превращаются в музыкальные инструменты, – все, все поет, и кто-то исполняет эту тихую мелодию.
– Это бог играет свое вечернее «Ave»[12], – говорит священник Петер. Художник Яка беспокойно хмурится, растерянно смотрит вначале на священника, потом на Алеша и, наконец, обретя душевное равновесие, усмехается:
– Насколько мне известно, бог никогда не был пианистом. Охотнее всего он перебирал струны арфы, те четыре, из времен Давида. А здесь звучит очень сильный инструмент с тысячами клавишей современной жизни, дружище Петер, начиная с фабрик и автомобилей и кончая реками и лесами.
Улицы переплетаются – узкие, пыльные, немощеные, извилистые улочки рабочих предместий, куда не заезжают автомобили, где днем копаются ребятишки и куры, а по вечерам спешат со своими мелкими будничными заботами взрослые.
Куда? Беспомощно стоят они на перекрестке, и им кажется, что по этим улицам они еще не ходили, что этих домов еще не видели, что этого города они не знают. И они пытаются отыскать что-то в своей душе: непутевый художник ищет след той, которая может его спасти, хотя сама потерялась в этом городе, активист Алеш в отчаянии стремится к чему-то невозвратимому, недосягаемому, что еще недавно, под Урбаном, казалось таким простым и само собой разумеющимся, а священник Петер с палкой и сумой в руках прислушивается к своему богу, которого несет в шелковом мешочке на груди, тому самому богу, от которого отказалась Яковчиха и которого он позабыл принести Добрину. А теперь этот бог тихонько подает голос, словно цыпленок в проклюнувшемся яйце, подает голос, поняв бесцельность затеи, из которой уже нельзя выпутаться. Утром, когда Мета приказывала ему привести парня обратно домой, все было так просто и ясно, будто человек отправлялся в город купить что-то в магазине. А теперь все – чем дальше, тем больше – запутывается: и рождение этого несчастного ребенка, и Полянчева, и старая Яковчиха, и такие болезненные воспоминания молодости, и наконец – исповедь, парализовавшая его душу. Охотнее всего он вернулся бы домой, дождался бы любимого бога и пожаловался бы ему на все ужасы жизни, которые не поддаются его слишком прямолинейному разделению на грехи и добродетель. Все, связанное с Минкой и Виктором, перестало казаться важным и значительным; главным стало то, за что человек еще продолжает бороться и чего он должен добиться. Потерянный и беспомощный, стоял он
В СЕРДЦЕ ГОРОДА С ТЫСЯЧАМИ ОГНЕЙ
и чувствовал, что его спутникам – активисту Алешу и художнику Яке – также не хватает сил и цели. Вещи переменили свое обличье, и тысячам и тысячам маленьких людей, среди которых они сейчас находятся, нет дела до какой-то там Раковицы, неприкосновенности и святости усадьбы, до родного дома Петера Заврха, им нет никакого дола до легкомысленной Минки, вскружившей голову Раковчеву Виктору, до художника Яки и активиста Алеша, как нет им дела, цветут ли еще под Урбаном черешни или нет. И уж абсолютно никому нет дела до того, что какие-то люди сидят в Минкиной комнате, обставленной заново: красный диван и красные кресла, салфетки на столе, радиоприемник, ковер на полу и тяжелые занавеси на окне, а у окна стоит священник Петер Заврх со своим проклюнувшимся богом в шелковом мешочке на груди, смотрит сквозь ночь, на город, на тысячи огней, вспыхнувших – во всех до единого – домах, на высокие фабричные трубы, которые насмешливо и вместе с тем угрожающе врезаются в небо, вглядывается в ночь над городом, прислушивается к шуму улиц, что не хотят затихать, смотрит на две гряды гор, которые текут параллельно равнине с юго-востока на северо-запад, на месяц, всплывший над огромной котловиной и теперь заброшенно висящий на безоблачном небе, так же одиноко и потерянно, как одинок и потерян священник Петер Заврх, нашедший себе в этой комнате прибежище – за портьерой у окна. У круглого столика в натянутой, неловкой позе незваных гостей сидят художник Яка и активист Алеш, а молодой красивый парень из управления внутренних дел, Мирко, как называет его Алеш, по-хозяйски развалился на диване и беспрестанно подливает им из бутылок, расставленных на столе, в шикарные фужеры на длинных ножках, которые напоминают священнику дароносицы. Священник Петер Заврх подозревает, что его любимая Раковица переселяется в эту комнату в виде мебели, бутылок, фужеров, ковров и салфеток. Художник Яка ничуть не сомневается в этом, беглым, но трезвым взглядом оценивая заполнившие комнату вещи. Яка раздражен, однако настроение у него не пораженческое, как у священника, а наступательное, и каждое слово, сказанное молодым и красивым парнем из управления внутренних дел, выводит его из себя, он едва сдерживается, чтобы не накинуться на него, и не может понять, как бедный Алеш выносит подобное унижение. Час спустя растерянный священник слышит: пьяный художник Яка пререкается с не менее пьяным парнем из управления.








