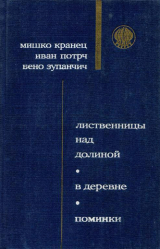
Текст книги "Лиственницы над долиной"
Автор книги: Мишко Кранец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
А Петер Заврх сказал беспомощно, умоляюще:
– Я пришел к тебе с открытой душой и хочу, чтобы все было ясно. Ты вспоминаешь молодость, Франца, только ведь она прошла. Чего ты ищешь там, Яковчиха? Может быть, ты страдала из-за этого? Я все поведал богу, и господь простил меня. – Он беспокойно теребил край скатерти.
– Я не о том, – возразила она. – По молодости я тебе во всем верила. А ты взялся за ум, надел рясу, Яковчиха забыла боль молодых лет. Пришел Яковец, женился на Францке, та родила ему восьмерых детей; думала, что родила их себе на радость, что родила их для того, чтобы они носили вместо нее корзину. А они… – И она заговорила торопливо, как будто ее что-то сильно взволновало: – А теперь выслушай меня,
ВЫСЛУШАЙ МОЮ ИСПОВЕДЬ,
обо всем, обо всем, ты, Раковчев, семинарист и урбанский священник!
Ее решительность, вернее непреклонность, поразила их. Всем им вдруг захотелось убежать, особенно Петеру Заврху с его богом.
– Пей, Раковчев, – приказала она странным, загадочным голосом. – Пей и ты, несчастный художник, ты так складно врал моей дочери об огромном, богатом, прекрасном мире, вместо того, чтобы рассказывать о корзине или о фабриках, которые больше подходят для людей из-под Урбана. Я бы не пустила тебя на порог нашего дома, если бы не знала, что моя дочь умнее тебя и уже не верит во все это. Пей, Алеш, – теперь она обернулась к нему, – когда-то ты умел много и красиво говорить о будущем. Выпейте со мной на прощание! – Она подняла стакан с водкой, одарила улыбкой всех трех мужчин и благословила их взглядом, от которого им стало совсем не по себе. – Спасибо вам за то, что пришли. А то сижу у Фабиянки и жду, когда через село пойдет смерть, и думаю, зайдет она за мной в трактир или будет дожидаться дома. И Фабиянка выскакивает на улицу, глаза у нее зоркие – она ведь трактирщица, сразу замечает, если кто идет в село. Она-то уж наверняка меня предупредит, чтобы я успела допить до дна. А когда в дом приходит священник, говорят, смерть совсем неподалеку.
– Франца, – попытался остановить ее взволнованный, вконец растерявшийся священник. – Может, нам лучше пойти в комнату? Поговорим с глазу на глаз, если ты и впрямь собираешься исповедоваться…
Она пристально посмотрела на него, потом ответила:
– Я буду исповедоваться, раз уж вы пришли. Всем троим – как-никак мы одной веревкой связаны.
Тогда Якоб воскликнул, обращаясь к Петеру:
– Пей! Жизнь, мой дорогой, во многом сильнее правил. Распростись с устаревшими канонами. Ведь мы в горах. А когда тебя навестит твой старый бог, скажи ему, что время ушло вперед, а вслед за ним ушла из прошлого и Яковчиха.
Им показалось, что священник сдался, окончательно потеряв надежду. Он поднял стакан и одним махом выпил его, словно хотел заглушить свой гнев и разочарование. Скорбь и отчаяние охватили его, когда он увидел, что и Яковчиха вылила в себя полный стакан водки. «Она же пьяная, наверно, она все время пьяная».
– Ну что, Раковчев, начнем? – спросила Яковчиха, скрестив руки на груди и чуть наклонив голову к плечу. Увидев, что он ее не понимает, она пояснила: – Я про исповедь.
– Ты с ума сошла! – ответил он изумленно. – Даже если бы тебе нужно было причастие, я не смог бы тебе его дать, ведь ты пьяная!
– Я буду исповедоваться, – еще решительнее повторила она. – Алеш! – позвала она Луканца. – Подойди к стене, прочти их имена.
Тот не подчинился.
– Зачем мне вставать, мама, они и так передо мной как живые, все пятеро – Матко, Венцель, Лойзе, Стане, Альбина.
– Нет, там, на стене, память о них, о каждом в отдельности, – сказала она. И действительно, пустую переднюю стену занимало пять похоронных извещений в рамках и под каждой похоронкой висела фотография. А раньше там были иконы.
– Ты сняла иконы? – невольно вырвалось у священника.
Она посмотрела на него, словно с удивлением:
– Тех, прежних святых, я не знала. А это мои дети, мученики, все пятеро.
Яка поднял взгляд на похоронки. Когда он бывал здесь раньше, он обращал на них внимание, но не видел в этом ничего особенного. В конце концов здесь, в горах, почти в каждом доме висит по одной, а то и по две – по три. У Яковчихи их было пять, только ведь это прошлое. Петер Заврх молча смотрел на переднюю стену, с которой пять «мучеников» вытеснили для Францы Яковчевой стародавних святых. А Яковчиха добавила с болью в голосе:
– Это мои дети. Вот уже десять лет я напрасно зову их домой.
– У Фабиянки! – съязвил Петер, рассердившийся, что она сняла со стены святых. Но она возразила ему только взглядом, а сказала спокойно:
– У Фабиянки, дома, в поле, в пути, днем и ночью, Раковчев, всегда и повсюду. – Этот ее тон потряс художника. Алеш склонил голову, полный покорности и смирения перед чем-то, чего он сам не смог бы назвать. В этот миг священник Петер со своим богом показался обоим беспомощным, потерянным, заслуживающим сожаления, а Яковчиха с ее похоронками и спокойствием – сильной и стойкой.
– Когда я дома одна, – продолжала она, – они приходят ко мне, все пятеро. Сяду, прикрою глаза, а они уже рядом, и разговаривают со мной. Они и к Фабиянке за мной приходят, когда я их позову. – От сильной боли она зажмурила глаза. Лихорадочно заторопилась, но скоро успокоилась. – Я родила восьмерых детей – четырех мальчиков и четырех девочек. – Яковчиха повернулась к священнику. – Теперь-то мне понятно, Раковчев, почему ты передумал и пошел другой дорогой. – Она усмехнулась. – Со мной у тебя было бы восемь детей, Петер! С корзиной на спине, мы с Яковцем заботились о них и ждали, пока можно будет переложить короб на их плечи. И они выросли. Но не для нас. Когда ты пришел в наши края, Алеш?
– Семнадцатого февраля, в сорок втором, мама, – ответил Алеш, словно на допросе. – Я пришел к вам, и Минка карандашом отметила этот день на стене. «Для мамы, – сказала она, – пусть помнит, когда все началось». – Яковчиха чуть кивнула. – От вас мы ушли втроем, – с улыбкой продолжал Алеш.
– А у меня осталось шестеро. – Она улыбнулась. – А потом первые двое пришли еще за тремя, – продолжала она голосом, полным спокойствия, доброты и щедрости.
– Да, мама, еще за тремя. – Теперь улыбнулся Алеш. – Каждую неделю уводили по одному…
– Всего пятеро, – подытожила она, глядя на Петера. – А теперь вместо них похоронки. Ты отдал себя богу, а я отдала детей, пятерых, родине. Тогда мы говорили: за свободу – так, Алеш? Разве я когда-нибудь сказала, что не отдам?
– «Восьмерых, я родила, – сказали вы, – и для благородного дела, если понадобится, отдам всех восьмерых».
– Всех восьмерых, Алеш, – счастливым голосом подтвердила она.
Он кивнул и продолжал:
– Вы их и отдали, даже тех, кто оставался дома. Вы все были с нами. Девочки приносили новости, были нашими связными, девочки, которым впору было играть в куклы. И себя, мама, вы тоже отдали; девять человек – родине, свободе, социализму.
– Это уж не так важно, – сказала она, прикрыв глаза. – Враги пришли в нашу страну, убивали наших людей, и я не думала о социализме. Если они воевали и за это – тем лучше. Ведь они погибли не за себя, для себя они ничего не хотели. И мне тоже ничего не нужно. Ну а если от этого будет польза и для других, тем лучше, Алеш. – Она снова повернулась к священнику и сказала со страстью: – Это тебя тревожит, Раковчев? Ты пришел исповедать меня перед смертью, вот я и исповедуюсь.
– И правда, Петер, – вмешался Яка; он заговорил тихо, медленно, с болью, в эту минуту ему казалось, что благодаря Минке это и его дом, – если подумать, что ты променял жизнь на цыплят, випавец и уютный уголок на небе, и если повесить твои заслуги вместо икон или похоронок…
Петер Заврх побледнел от злости и унижения.
– Я отдал себя служению богу во имя великой цели – спасения человека, – ответил он. – Если бы ты пошел по моим стопам, Якоб, ты бы оценил мою жертву и не говорил бы о цыплятах и випавце. – По-видимому, Петер хотел сказать еще что-то, не Якоб опередил его:
– Верно, ты пожертвовал собою, Петер. Но если принять во внимание все факты, не следовало бы тебе сейчас приходить к Яковчевой маме за наперстком ее грехов… Вспомни хотя бы о сегодняшнем визите в Раковицу…
Петер широко открыл глаза, у него перехватило дыхание, он побледнел еще больше.
– Не надо так, Якоб, – остановила его Яковчиха. – Когда Раковчев учился, времена были другие. Выбора не было: или корзину за спину, или скитайся по белу свету, и тут и там – нищета. А если ты шел учиться, да на священника – тех больше всего почитали, – тебя ждала прекрасная жизнь. И никаких бедствий. – Переведя взгляд на Петера Заврха, она неожиданно заговорила: – Я исповедуюсь тебе, Петер, тебе, парень из Раковицы, во всех грехах, за все шестьдесят пять лет своей жизни. Только с чего начинать-то, Петер? Может, вспомним, как мы учились в нашей деревенской школе и вы, мальчишки, вырезали девичьи имена на молодых деревьях вдоль лесных тропинок и ловили нас за юбчонки? Или о том, как рыскали за нами и взбирались по приставным лестницам к окнам? Или о том, что было между нами, Петер? Оставим это, – сказала она тихо, с доброй, прощающей улыбкой. – Я подарила тебе то, что ты хотел. Ты сам покончил с этим, и бог тебе наверняка простил, Раковчев, да еще и возрадовался, что ты выбрал не меня, а его, а меня бросил таскать корзину. Йошту Яковцу я об этом ничего не рассказывала, хотя именно про тебя он и хотел услышать. Что поделаешь – все вы, мужчины, одинаковые! – И Яковчиха усмехнулась.
– Франца! – еле слышно спросил совершенно растерянный Петер Заврх. – Чего ты хочешь? Что все это значит? Я тебя не понимаю.
– Наберись терпения, Петер, ведь я тебе исповедуюсь за всю свою жизнь. Если ты веришь в бога… а он, сдается мне, не торговка-разносчица, которую занимают всякие мелочи, даже самые давние… С Яковцем мы жили как все люди здесь, в горах. Таскали на спине корзины и родили восьмерых детей. Потом Яковец сказал: пусть дьявол таскает корзину, внизу, дескать, работа полегче, а заработок он будет приносить мне. И ушел в долину. Нашел себе работу, а немного погодя и женщину. Домой стал приходить редко, по субботам и воскресеньям, и все жаловался, что не может прожить на свое жалованье. Осталась я одна с восемью детьми и корзиной за спиной. К счастью, ребята уже подрастали… Потом началась война, и они, один за другим, ушли от меня. И вот однажды к нашему дому на крестьянской телеге привезли старшего, Матко…
– Он погиб в Раковице, – тихо заметил Алеш, – когда переходил через ручей. Мы не могли унести его с собой – нас окружили…
…Был он покрыт дерюгой, словно не человек. Сквозь щели телеги капала кровь – так бывает, когда крестьяне везут на поле что-нибудь мокрое и за телегой остается узкий след.
– Яковчиха! – окликнул ее возница, Плестеняк из Завирья, останавливая перед домом телегу. Он постучал кнутом в окно. – Я везу в долину твоего сына, он нужен тем, внизу. Если хочешь повидать его напоследок, выйди во двор, сам он не может зайти к тебе попрощаться.
Три девочки окружали ее, когда она шла к телеге. Прижимались к ней так, что казалось, будто идет один человек. Не плакали. Плестеняк откинул дерюгу с лица убитого и сказал горестно:
– Он улыбается тебе, Франца. Жаль, такой красивый и симпатичный был парень… Грудь прострелили… автоматной очередью. – Мать и три дочери вглядывались в лицо мертвого сына и брата, и сердца их разрывались от боли. Но тут прибежали немцы; один, ударив Плестеняка прикладом, свалил его под стену Зидаревого дома, а двое принялись избивать ее и дочерей. Потом солдат схватил ее за волосы, потащил по дороге и все орал: «Banditenmutter – Schwein, Schwein!»[5] Или что-то похожее. Плестеняк поднялся, ощупывая ребра – нет ли сломанных, – выплюнул вместе с кровью два зуба, подобрал их и тепло сказал Яковчихе:
– Не сердись, Франца, я ведь только хотел показать его тебе, вовсе не для того, чтобы эти гады и тебя убили.
– Спасибо тебе, Марко, – ответила она, тоже вставая с земли.
– Сколько их еще у тебя в лесу? – спросил тот.
– Четверо, Марко. Случится везти кого-нибудь, позови, если не пожалеешь зубов, – попросила Яковчиха, на что Плестеняк ответил:
– Позову, Яковчиха, позову. – И добродушно усмехнулся: – Ведь они мне выбили два последних, больше ни одного не осталось. Но если бы и осталось, Яковчиха, сдается мне, зубы потерять не так больно, как сына? – И погнал вола дальше. Яковчиха кинулась за телегой, за сыром, схватилась за обод, чтобы еще раз попрощаться со своим первенцем, но солдат снова свалил ее на землю. Она упала под телегу, мертвый сын проехал над ней; девочки втащили ее в дом и облили водой…
– Лойзе, мой третий, пришел ко мне на день рождения. Пришел один, остальные не смогли. В этот день я всегда что-нибудь пекла и вина доставала, чтобы выпить вместе с детьми.
…Стояла весна, и черешни буйно цвели, старые черешни возле дома Яковчихи. Вот только день был дождливый. Лойзе сидел наверху, в комнате, две сестры были с ним, а третья караулила, не идут ли немцы. Вообще-то в Подлесе всегда знали о приближении врага: по всей округе возле Урбана ребятишки бежали от деревни к деревне, от дома к дому, не забывая самых отдаленных, чтобы сообщить о приходе немцев. Яковчиха угощала своего любимца всем, чем только могла. Счастливая, с улыбкой на губах, сидела она напротив него. Он был сердечный парень, веселый, живой, самый живой среди всех…
– Война скоро кончится! – уверял он. – Разобьем немцев, вернемся из леса домой. А потом все уйдем в долину, в город, без всяких корзин, мама! – и весело смеялся.
Какой-то мальчишка летел по деревне и вопил во весь голос: «Немцы, немцы идут!» В комнату ворвалась Минка, сторожившая во дворе, и закричала:
– Немцы рядом, возле самого дома.
Лойзе кинулся в сени, к окну, глянул во двор и понял, что тут ему не пробиться. Он бросился обратно в комнату, горько усмехнувшись, обнял мать:
– Ты только не беспокойся! – И метнулся к открытому окну. Лойзе прыгнул вниз, а мать кинулась по лестнице в сени закрыть входную дверь. В этот момент загремели выстрелы. Минка, которая собиралась прыгнуть вслед за Лойзе, замерев, стояла у окна, пока выстрелы не загнали ее в глубь комнаты. Она скатилась по ступенькам в сени и с ужасом кричала:
– Мама, его убили, мама, его убили, убили… – Вот так кричала и кричала, не переставая.
Вместе с дочерьми Яковчиха выбежала из дома. Два солдата тащили Лойзе к дороге, словно убитого зверя. Яковчиха кинулась на труп сына; как и в первый раз, ее избивали прикладами, пока она не осталась лежать в грязи и в воде, ручейком стекавшей по дороге. Девочки перетащили мать к дому, туда, где посуше. Миртову пришлось дать телегу и вола. Лойзе бросили на телегу.
Минка подбежала к старой черешне, под которой погиб Лойзе, и сломала цветущую ветку. Положила ее на тело брата, будто хотела прикрыть его цветами. Солдат ударил ее прикладом, и она упала на дорогу, в грязь и воду. Но ветка черешни осталась у брата. Говорили, что ее видели в долине…
– А Венцель заживо сгорел в каком-то доме, ты помнишь, Алеш? – словно спросила она.
– Сгорел живьем, – подтвердил Луканц, он сидел совсем бледный. – Они вчетвером забрались на старую мельницу, смертельно устали, вот и уснули, не оставив караульного. Кто-то их выдал. Сдаваться они не захотели. Убили и ранили с десяток немцев.
– А Стане взяли в плен, – продолжала она, словно позабыв о сгоревшем. – Его долго мучили, мясо так и свисало с него клочьями. Лица было не узнать, остался только один глаз, второй вытек. Они хотели, чтобы он всех выдал. И еще они хотели, чтобы он им сказал, кто убил Йошта Яковца.
– Да ведь Йошт Яковец разбился недалеко от лиственниц, там, на вершине. Поскользнулся у скалы, – не сказал, почти выдохнул Яка.
Яковчиха глянула на художника, словно упрекая его за то, что помешал ей говорить. От боли ее лицо стало еще серьезнее и печальнее, и все-таки это было лицо человека, который победил в себе что-то очень страшное. Она спросила:
– По желанию людей ты поставил на этом месте распятье, так? – И не сводя с Якоба глаз, она продолжала свою исповедь; суровые слова падали в неподвижную, глухую тишину:
– Йошта Яковца убила я, своими собственными руками, потому что он стал предателем.
Яковчиха перевела взгляд с Якоба, у которого захватило дух, на Алеша Луканца, смотревшего на нее изумленно, с приоткрытым ртом, а затем – на священника Петера Заврха и, мгновение помолчав, шепотом повторила:
– Йошта, своего мужа, убила я, Петер.
Потом она резко повернулась к Луканцу, спокойная, как будто это и не она вовсе только что обращалась к священнику, и спросила у Алеша:
– Скажи, Алеш, Стане кого-нибудь выдал?
– Мама, – запротестовал Алеш, – ваши дети никого не выдали. Тем более Стане – ведь он был комиссаром.
– Значит, не выдал, – кивнула она удовлетворенно. – Я слышала, его расстреляли где-то возле Литии.
– Мучили, а потом расстреляли, – уточнил Алеш.
– А мне так и не удалось узнать, где его похоронили, – сокрушенно сказала она, как будто это больше всего печалило ее.
– Этого многие не знают, мама, очень многие, – ответил Алеш.
– Мертвым все равно, где лежать, – продолжала она. – Когда человек умер, родные места да и вообще весь мир теряют для него свою красоту… А они со мной, здесь, на стене. Стою перед ними, и представляется мне, что эта комната – их вечный дом. Дом, – подчеркнула она, – а не кладбище. Место, куда дети приходят играть, когда на улице идет дождь. Здесь я их родила, здесь они росли, а сейчас вернулись сюда навсегда. Мне все чудится, будто они живые. Когда я вхожу, кто-нибудь из них улыбается мне, а то все рассядутся вокруг стола и разговаривают со мной.
– Яковчиха, – перебил ее Петер Заврх, он совсем потерял терпение. – Тебе не кажется, что было бы лучше прекратить этот разговор? В конце концов я не за этим сюда пришел. – Он попытался встать, намереваясь уйти, но не смог. Его руки беспокойно шарили по столу. Он словно искал, за что бы ему ухватиться, чувствуя, как от него ускользает что-то главное, существенное. А несчастный художник не смог придумать ничего умнее, как сказать Петеру Заврху:
– Давай, священник, выпей, вишневка домашняя, Фабиянкина. – И сунул ему под нос полный стакан настойки. Священник потерянно уставился на художника, как будто не узнавал его. Против своей воли он протянул руку за стаканом и даже чокнулся с Якобом и Алешем, обескураженными, наверно, не меньше, чем он. Яковчиха дала знак Якобу, который поспешил наполнить стаканы. Тогда она обратилась к Петеру:
– Выпьем, Раковчев, – и, подняв стакан, чокнулась со священником. Окончательно сконфуженный Петер Заврх жалобно посмотрел на своих спутников, потом выпил, словно это был приказ свыше. Яковчиха внезапно поднялась, худая, маленькая и вместе с тем – высокая, прямая, гордая, показывая им, а с ними и всему миру, что она умеет устоять в горе, в несчастье.
Подобно тени подошла она к священнику, слегка дотронулась до его плеча, а затем опустила на него свою узкую костлявую ладонь с длинными высохшими пальцами. Наклонившись, шепнула ему на ухо:
– Пойдем, Раковчев!
– Куда?
Растерянный священник готов был откликнуться на любой ее зов.
– Раковчев, – сказала она все так же тихо, – пойдем, выслушай мою исповедь до конца.
– О чем еще? – спросил он. – Твои истории мне не нужны.
– А что же тебе нужно? – осведомилась она. – Грехи? Какие? Кража? Не краду. Прелюбодеяние? Для этого я чересчур стара. Пока была замужем, была верна мужу, а до замужества знала только Раковчева, студента, и этот грех тебе известен. Других мужчин не знала. Сплетни? Сплетнями я не занимаюсь. Не верю в бога? Но я ни во что не верю. Нет в моем сердце никакой веры, Раковчев. Так чего же ты от меня хочешь? Какие грехи собираешься мне отпускать? Но все равно, дорогой Петер, раз уж так случилось, я расскажу тебе
ПОВЕСТЬ О ГРЕХЕ,
чтобы твое сердце успокоилось. Пойдем, художник Яка, после этого ты оставишь мою дочь в покое, потому что вам все-таки не быть вместе. И ты иди, Алеш, этого ты тоже не знаешь, хотя до сих пор считал, что знаешь о нас все. Уж если вы пришли на мою исповедь, слушайте до конца. Но ты, дорогой священник, – с насмешкой обратилась она к Петеру Заврху, – имей в виду, что отпущения грехов мне не нужно, это я уже тебе сказала. Ты уйдешь с тем, с чем пришел. Грехи, о которых я расскажу, только мои. А грехов, о которых ты с охотой слушаешь каждый день, у меня нет. Сердце у меня пустое, вот я и пью водку у Фабиянки, чтобы не чувствовать себя одинокой. Пойдем, Раковчев, ты, кого я в молодости так безумно любила! – Ласково так, словно и сейчас все еще «безумно» влюблена в него, она взяла его под руку и повела за собой. Петер помимо воли подчинился ей. И уже не мог определить, хорошо это или плохо.
– Куда ты меня ведешь? – спросил он тихим, дрожащим голосом. Она ответила ему так же тихо и покорно:
– На край греха, Петер.
– Какого, Франца?
– Смертного, Петер.
Она вела его через сени к широким деревянным ступенькам и по ним дальше, на второй этаж. Коридор был освещен полуденным солнцем, которое проникало сверху, через два маленьких оконца, заставленных цветами. Якоб, идя следом за Алешем, с теплым чувством узнавал окружающую обстановку. Он даже на миг прикрыл глаза, чтобы ощутить присутствие Минки в родном доме, оживить воспоминание о горячей любви недавних дней. Однако и ему этот путь показался необычным, и он недоуменно сказал:
– Бог его знает, куда она ведет нас, мама Яковчиха.
– Она ведет нас на край греха, – повторил за Яковчихой Алеш Луканц, озадаченный ничуть не меньше, чем художник. – Но какой это грех и кто его совершил, этого я не знаю.
Дурное предчувствие закралось в душу художника, когда Яковчиха открыла дверь в Минкину комнату, в которой он бывал и раньше. Из этой комнаты Минка, как она ему сказала, «каждую ночь отправлялась в дальний путь – в детство». А в душе Алеша рушился мир, который, казалось, он так хорошо знал. Теперь он представал перед ним в совершенно ином свете. Десять послевоенных лет провели резкую границу между мечтами партизанских времен и действительностью. А Яковчиха, как ему представлялось, жила своими мечтами и в первые послевоенные годы. Пятеро ее детей не вернулись домой, а две оставшиеся в живых старшие дочери настолько выросли, что в первую же осень ушли в долину на фабрику. Рядом с ней была только Минка, пока и ее не соблазнила работа в долине. В один прекрасный день в горах объявился художник Яка Эрбежник, который был родом из этих мест. И что же тогда произошло? Минка ему об этом ничего не говорила. А когда Минка окончательно обосновалась в долине, в жизни старой Яковчихи остались только Фабиянкин трактир и, может быть, воспоминания; ничего другого у нее не было.
Оставив дверь открытой, Яковчиха ступила в комнату. Комната была просторная, с двумя кроватями по стенам, большим старым шкафом, светлым сундуком, расписанным яркими цветами, где стояла дата, свидетельствовавшая о его почтенном возрасте. Возле стола два стула и потертое кресло. На стене, у зеркала висели фотографии дочерей, в углу – распятие, перед которым горела маленькая электрическая лампадка. В кувшине на столе цветущая ветка черешни – их всегда приносила Минка.
– Комната моих дочерей, – сказала Яковчиха. Она слегка покачивалась. Священник Петер уже не сомневался в том, что она пьяна – ведь и он с трудом держался на ногах. «И ей, пьяной, я предлагал причащаться! – Его охватил ужас: – Чего доброго эту несчастную еще и стошнит!» Он безнадежно махнул рукой, и это выглядело нелепо, потому что никто не сказал ни слова.
– В другой комнате, – заговорила Яковчиха, – спали младшие, те каждый вечер затевали драку. – Она счастливо улыбнулась, вспомнив этих младших. – А когда девочки подросли, они потребовали эту комнату для себя – сюда можно попасть прямо с улицы, через окно. – И она опять усмехнулась. Потом посмотрела на Петера Заврха и спросила: – Заболталась я, да? – И продолжала: – Видишь, что тебя ожидало бы, если б ты меня по-настоящему любил и в конце концов женился на мне!
Яка удивленно моргал глазами – такой Яковчихи он и правда не знал! Он оглянулся на Луканца, тот стоял в стороне, неподвижно, словно во время мессы.
– Бедный Петер, – шепнул Яка Алешу. – Многое ему придется утаить от своего любимого бога, когда вернется к Урбану. Ручаюсь, бог не понял бы этого, даже если бы Петер рассказывал ему две ночи подряд.
А Яковчиха уже обратилась к священнику:
– Выслушай мою исповедь, Петер.
Тот нахмурился и возразил:
– Это никакая не исповедь! – И отмахнулся. – Какая же это исповедь?!
– К таким ты не привык? И все же я тебе исповедуюсь. Не ради отпущения грехов. Уж перед тобой-то я ни в чем не грешна.
Он сердито посмотрел на нее; неожиданно у него вырвалось:
– Тогда зачем водишь меня по комнатам? Меня вовсе не интересует, где спят девчонки и можно ли приставить к окну лестницу!
– Здесь спала Минка, – невозмутимо ответила Яковчиха. Но это понял только Якоб, вспомнив Минкины слова: «Отсюда я отправляюсь в дальний путь – в детство».
– А уж где спит такая потаскуха, меня интересует меньше всего! – взбунтовался Петер. Он уже не мог себя сдерживать, особенно при воспоминании о том, как эта «потаскуха» закружила голову его племяннику и теперь они на пару проматывают его Раковицу. – Я ухожу, – заявил он.
Яковчиха до крови закусила губу; ей больно было слышать оскорбление в адрес дочери. Это потрясло Якоба, а еще больше Алеша. Яковчиха заговорила. Она взяла за руку Петера, который собирался уйти, и сказала тихо, но повелительно, и Петер Заврх безропотно остановился:
– Я тебя не звала на исповедь. Ты сам на нее напросился. И теперь выслушаешь все до конца. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра Франца Яковчева закончит свой путь на земле. Бутылку водки, начатую у Фабиянки, мне уже не допить. – Она обвела взглядом мужчин, и Петер Заврх сник под ее взглядом – настолько переменилась она в этот миг. Повернувшись к ним, тихо-тихо, едва слышно она прошептала:
– В этой комнате, на этой постели немецкие солдаты на моих глазах изнасиловали Альбину, здесь они осквернили Минку, совсем ребенка. – На какую-то долю секунды она замолкла, облизнула языком сухие губы, размазав по ним кровь. Потом закончила:
– На этой постели Минка убила Альбину. Я ее об этом просила, я ей велела убить сестру. И она убила ее, потому что я, мать, не смогла этого сделать…
…В брюках и сапогах, в титовке на длинных прямых волосах, с автоматом на плече и пистолетом за поясом, с рюкзаком за спиной, улыбающаяся Альбина среди бела дня вошла в комнату. Яковчиха чинила одежду. Минка была в деревне. Старшие, Резка и Анчка, по поручению партизан ушли в город.
– Не беспокойся, мама, – весело сказала Альбина, – поблизости ни одного немца. Останусь до вечера, пока не вернутся Резка и Анчка. Потом отправлюсь дальше.
– Да я и не беспокоюсь, – ответила Яковчиха. – Иди приготовь себе поесть, ты наверняка голодная.
– Еще бы! – воскликнула Альбина. – Со вчерашнего утра ничего не ела. Немцы устроили на нас облаву, а уж тут не до еды. – Она поджарила себе яичницу из двух яиц. За едой девушка весело рассказывала матери о боях, о скором конце войны, о послевоенной жизни и о том, что она, мать, отправится вместе с ними в долину – точь-в-точь как ей говорили об этом и другие дети. И все же не позабыла добавить, что на следующей неделе придет за Резкой.
– Всех у меня уведете, – сказала мать и вздохнула.
– Всех, – засмеялась Альбина. – Если только война не кончится раньше, чем они подрастут. Хотя так, наверно, и будет.
Стояла осень – золото листвы на деревьях и мягкое солнце. Луга скошены. Люди кончали работы на полях, и в селе было пусто. Даже детей и тех было мало. Так и не выяснилось, каким образом немецкие солдаты смогли незаметно, без единого выстрела ворваться в село, чтобы сразу же кинуться по домам. Альбину схватили в тот момент, когда она заваривала на кухне чай. Минку, которая вернулась из деревни, солдат прикладом свалил на пол. Одни солдаты обыскивали дом, другие связали мать и дочерей. Альбину они не избивали, разве что несколько раз ударили. Яковчиха уже надеялась, что все закончится благополучно: девушку посадят в тюрьму, а потом отправят в лагерь. Но ее увели наверх. Яковчиха догадалась о самом страшном, только когда услышала разнузданный солдатский смех. Им с Минкой было велено ждать в комнате, и они даже словом не могли перемолвиться. В селе стоял гвалт и грохот, солдаты врывались то в один дом, то в другой, а потом стали собираться у Фабиянки, которой пришлось открыть подвалы и кладовые. Солнце уже клонилось к закату, когда два солдата отвели Яковчиху и Минку наверх, в комнату, где на постели лежала Альбина. Яковчиха не вымолвила ни слова даже теперь, когда должна была смотреть, что делают с ее дочерью, догола раздетой и привязанной к постели. Солдаты сменяли один другого. Она только плюнула в лицо тому, кто посягнул на Минку, совсем ребенка.
– Убей меня, мама, – попросила Альбина обессиленным голосом.
В ней ничего не осталось от той радостной девушки, которая несколько часов назад пришла домой и весело рассказывала матери о том, как они после войны отправятся в долину. Яковчиха зажмурила глаза, стиснула зубы, переборола в своем сердце страшную боль и ужас и ответила дочери:
– Не могу, у меня руки связаны.
Но Альбина все просила и просила мать пересохшими губами, умоляла ее, словно в бреду:
– Убей меня, мама, убей меня! Ты, которая меня родила, убей… Чтобы они больше меня не мучили! – А солдаты сменяли один другого, так что у Альбины уже и голоса не стало, и она только поворачивала голову и шевелила потрескавшимися губами, и лишь мать знала, что она все еще просит:
– Убей меня, убей меня…
– Что она говорит? – спросил вошедший в комнату немецкий офицер, увидев, что девушка пытается что-то сказать.
– Просит, чтобы мать ее убила, – объяснили ему. Офицер посмотрел на Альбину, потом на Яковчиху, осклабился, неожиданно схватил лежавший на полу автомат, приказал развязать Яковчиху и сунул ей в руки оружие со словами: «Schießen, schießen, du Alte, schießen точь!»[6] Кто-то перевел приказ офицера: пусть застрелит девушку, если хочет сама остаться в живых, иначе у нее на глазах будут мучить обеих дочерей – выколют им глаза и отрежут языки.
– Убей меня, мама, – из последних сил прошептала Альбина, – ты меня родила и убей меня тоже ты, ты, мама, ты…
Может, минуту спустя мать и решилась бы на это, но в тот миг все в ней взбунтовалось – слишком велик был ее ужас. Солдаты толкали ее к дочери, и кто-то орал над ней:
– Schießen, du Alte! Schießen, стреляйт, Mutter – точь стреляйт![7] – Ржали ей прямо в лицо и тащили к постели, к дочери.








