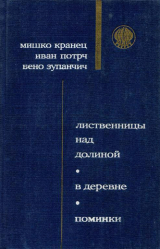
Текст книги "Лиственницы над долиной"
Автор книги: Мишко Кранец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
На лице ее вдруг появилась улыбка. Она ушла. А Рок решил, что завтра же отправится в город. «Только на ней я не женюсь, если даже получу пенсию. На что мне она с ребенком! А ребенок у нее будет наверняка».
Утром Рок не успел вычистить хлев – он рано ушел, нарядившись как в праздник. Для храбрости, перед дорогой выпил водки.
– Получу пенсию, – сказал он Марте, выходя из дому, – возьму тебя в жены. Конечно, если ты будешь одна, так и знай. Я не против детей, только о ребенке заботиться не стану. Виктор даже пенсии мне добром не дает.
– Иди себе с миром – о его ребенке тебе заботиться не придется, – отвечала она, чуть приметно сжимая губы. – Понадобится, сама обойдусь. А ты женись, если хочешь. Обо мне не думай.
«Не буду о ней думать, – сказал Рок сам себе, выйдя на дорогу. – Хватит баб на свете, если человек решит жениться».
В таком настроении, покачивая захмелевшей головой, Рок спускался с горы, как вдруг невдалеке от лиственниц и распятья увидел крестьянскую телегу с гробом, а сзади горстку людей. Он ускорил шаг. «Если нам по дороге, я могу пойти за гробом – почтить покойного, кем бы он ни был», – сказал он сам себе. Увидев Полянчеву, догнал ее и пожал ей руку со словами:
– Никак твой Тоне умер?
– Умер, бедняга, умер, – запричитала она, утирая глаза. – Что, что теперь со мной будет?
И хотя Рок был под хмельком, у него от жалости замерло сердце. Он смотрел на Малку, которая была лет на двадцать моложе его и очень пригожа даже в этой одолженной у кого-то черной одежде, заплаканная и неутешная в своем горе.
Пока они шли через лес, где вовсю куковали кукушки, распевали дрозды и другие птицы, а затем через цветущие зеленые луга и мимо плодовых деревьев, которые здесь, ближе к долине, уже отцветали, Малка не переставала горестно причитать.
– Не реви, Малка, – не выдержал Рок, у которого разрывалось сердце. – Не могу слышать я, как ты плачешь.
– Ну что ты обо мне знаешь, – сказала Малка, пытаясь сдержать рыдания. – Как мне теперь жить? Умер кормилец мой, работать мне нельзя, иначе будет приступ, а у меня ничего нет, сам знаешь. Ну, есть крыша над головой, корова, полоска земли да два лужка. А чтобы жить, нужны деньги, хоть так, на самое необходимое.
– Деньги, да, деньги, – кивнул Рок, соглашаясь.
Прошагав немного и кое-что обдумав, он решился и предложил ей, поскольку она ему явно нравилась:
– Слушай, Малка, сейчас я иду в долину, в правление, в отдел социального обеспечения – насчет пенсии. Многого ждать не приходится. Батракам начисляют по четыре тысячи динаров. Кроме того, я могу еще работать, сердце у меня здоровое, руки не ленивые. Если ты не против, я зайду к тебе на обратном пути. Расскажу, как у меня уладилось дело. Ну, как, зайти?
Несмотря на постигшее ее горе, Малка могла здраво мыслить и трезво оценивать вещи. Стараясь совладать с собою, она утерла глаза и сказала:
– Конечно, Рок, зайди, чтобы мне хоть в первый день без покойного мужа не быть одинокой.
– Хорошо, я зайду, – ответил Рок, – и прямо скажу тебе, Малка, человек я неплохой и могу даже пообещать не пить лишнего. Сама знаешь, когда человек один – все по-другому. Что поделаешь, слаб я насчет водки.
– Знаешь, Рок, – ответила Малка, уже мысленно распорядившись его пенсией, – лучше всего, когда у мужчины вообще нет на руках денег. Иначе он не может пройти мимо трактира Фабиянки, а оттуда уж не вернется ни один динар.
– Не вернется, – согласился Рок, – от Фабиянки точно не вернется.
– Покойник отдавал мне деньги целиком. Я сама покупала ему сигареты и в стаканчике иной раз не отказывала. Он на меня не жаловался.
– Ну, об этом мы еще поговорим, – сказал Рок, которому показалось обидным отдавать жене все полученные деньги. Зачем ему вообще тогда идти в долину, хлопотать насчет пенсии? Он хотел сам распоряжаться этими деньгами.
– Ну, Малка, – повторил он, – мы еще обо всем потолкуем. – Остальную часть пути он молча шагал за гробом; к этому времени они были уже в долине. Лишь под конец проговорил несколько слов в утешение все еще плакавшей Малке: – Перестань, Малка,
ОТ ТОСКИ У ЧЕЛОВЕКА ПОРТИТСЯ СЕРДЦЕ,
а у тебя, ты сказала, оно и так никуда не годится. Что поделаешь, каждый рано или поздно должен помереть.
Неподалеку от церкви бывшие партизаны сняли гроб с телеги и поставили его на носилки, которые принес им церковный сторож. Двое партизан подошли с большим зеленым венком, усеянным красными цветами. Малкин венок, который она сама сплела для покойного мужа, сунули в руки батраку Року, потому что больше никого не оказалось рядом.
Перед церковью покойного встретили капеллан и церковный сторож. Малка хотела, чтобы гроб внесли в церковь и там помолились за усопшего. Но партизаны не пожелали войти в церковь и опустили гроб на землю. Поскольку в обязанности капеллана и сторожа вовсе не входила переноска покойников, а женщинам это было не под силу, Рок сказал Малке:
– Что поделать, одному мне гроб не снести. Придется хоронить твоего мужа без церкви.
Так все и было – партизаны отнесли его к вырытой могиле. Один из них произнес надгробную речь. Он вспоминал партизанские годы, когда покойный сделался инвалидом, – события, память о которых стала уже бледнеть. Затем капеллан наскоро прочитал молитву, окропил святой водой покойного, а заодно и живых, стоявших вокруг гроба. Когда капеллан и звонарь отправились в ризницу переодеться. Малка пошла за ними следом – спросить, сколько платить за похороны – партизаны об этом и думать забыли. Капеллан при церкви святой Едрты, человек крепкий и здоровый, не на шутку рассердился, увидев, что она снова принялась рыдать:
– Тебе ли о нем реветь! Конечно, может, ты оплакиваешь инвалидную пенсию, которая у тебя уплыла. – И он с досады прибавил, чтобы ее уколоть: – Миха Хлебш тоже инвалид, восьмидесятипроцентный, если не ошибаюсь. Он, правда, получает немного меньше, чем покойный. Так ты прямо с похорон и ступай к нему. Кто знает, может, и его заберешь с собой в горы.
Она с женской легкостью мигом перестала плакать, утерла два ручья слез, струившихся по ее пухлым щекам, и уставилась на капеллана, словно не веря, что он дает ей такой совет всерьез. Помолчав, спросила:
– В самом деле? И вы думаете, я бы Хлебшу приглянулась?
У капеллана от такой непосредственности кровь закипела в жилах. Теперь он уставился на нее, пораженный, не в силах вымолвить ни слова. Малка догадалась, что насчет Хлебша он сказал ей со злости. Но его праведный гнев не слишком ее огорчил. Она попыталась разъяснить ему:
– Сердце мое никуда не годится, можете пощупать сами. Доктор сказал, если я перетружусь, у меня будет приступ. А жить как-то надо. Мне ведь никто ничего не дает даром, – прибавила она, будто желая в свою очередь его уколоть.
Капеллан, успевший уже переоблачиться, не сплюнул в ответ на ее слова, а лишь резко повернулся к ней спиной и пошел к двери. Не оборачиваясь, крикнул ей с порога:
– Не смей больше приходить ко мне. Иначе звонарь вышвырнет тебя вон. Ты мне ничего не должна.
– Спасибо, – сказала она с благодарностью в голосе. – Да я к вам и так не очень-то собиралась.
– Полянчева, – подошли к ней хоронившие Тоне партизаны, – верно, тебе нечем рассчитаться с нами за то, что мы несли гроб и с почетом похоронили твоего муженька. Хотя и существует хороший обычай – после похорон выпить и добрым словом помянуть покойного.
– Откуда мне взять денег? – воскликнула она. – Если бы он хоть повременил до первого числа… Я ведь просила его, чтобы он потерпел, не умирал. И мне бы тогда было легче. А так я совсем на бобах осталась. – И, чуть подумав, она сказала: – Не мешало бы и в правлении иногда вспоминать про людей, что отдали за страну все, когда она в них нуждалась. Но такого нет. Поэтому я дам вам на литр вина. Человек он был хороший. Ну, а дальше – как хотите. Могли бы еще и за свой счет его помянуть. А тяжелым он не был – вы не очень-то вспотели, пока его несли. Ведь у него не было руки и ноги.
Они ответили язвительно:
– Кому как не тебе знать, тяжелый он был или легкий? А за вино мы и сами заплатим – три года вместе боролись. Уж стаканчик вина он заслужил.
Товарищи повернулись и ушли. Прощаясь с Роком, Малка пожала ему руку.
– Желаю тебе, Рок, успеха, и на обратном пути зайди ко мне.
Она бродила по городу, размышляя, осудят ли ее люди, если она сейчас явится к Хлебшу, или лучше переждать несколько дней. Пусть даже Року удастся выхлопотать пенсию – Хлебш по инвалидности получает наверняка больше. Ей посчастливилось. Хлебш сам ее разыскал.
– Постой, Полянчева! – окликнул он ее, когда Малка сделала вид, будто не заметила его. – Ты что ж, и знаться со мной не хочешь?
– Ах, это ты, Хлебш? – удивилась она. Глаза ее оживились – было очевидно: сам бог посылает ей такую удачу.
– Я, – подтвердил инвалид, переваливаясь с протеза на здоровую ногу. – Зайдем в трактир, там удобнее поговорить.
– Право, не знаю, не грешно ли мне сегодня в трактир!
– Помянуть покойного-то, уж конечно, можно, так я думаю!
И в самом деле за стаканом вина куда легче было беседовать: о том, что он на восемьдесят процентов инвалид, а у нее есть крыша над головой, полоска земли, две лужайки и немного леса, корова, две курицы да кошка. И кроме того, она умеет вести хозяйство и готова заботиться о человеке!
– У тебя горе, – сказал под конец Хлебш, словно зачитывая резолюцию на собрании, – и тебе следовало бы оплакивать мужа, как подобает, это правда. Но правда и то, что нужно жить. Оплакивать его ты сможешь и потом.
Так и будет, согласилась она, а сейчас, если он и впрямь решился, им нужно зайти к ее знакомой, у которой есть ручная тележка.
– Мне она ее одолжит и мы перевезем твои вещи ко мне, конечно, так, чтобы не особенно попадаться людям на глаза.
– Постараемся, – ответил он, – ну, а если хотят, пусть себе почешут языки.
– Лишь бы ты был мною доволен, – сказала она, прикидываясь озабоченной, – о покойном я пеклась до самой его смерти. И ведь я любила его. Он никогда на меня не жаловался, еще благодарен мне был.
– Ну конечно, а как же иначе! – воскликнул Хлебш. – Еще бы он не был благодарен!
– Ведь не вдруг найдешь женщину, которая вышла бы за инвалида и заботилась о нем, – скромно похвалилась Малка.
– Конечно, не вдруг, – согласился Хлебш. – Я когда-то разговаривал с покойным, и он тебя вовсю нахваливал, я даже ему позавидовал. Холостяцкой жизни я хлебнул вдоволь. Хватит с меня! Только, чтобы тебя не смущало, – добавил он, – пенсия моя будет поменьше, чем у твоего покойного мужа.
Она ответила великодушно:
– Ну, чего там! Хотя, конечно, жаль, что ты не стопроцентный инвалид. Я так думаю: раз тебя все равно задело, пускай бы немного покрепче, тебе бы это уже не повредило, а на пенсии еще как сказалось. Да что поделаешь, – чуть приметно вздохнула она, стремясь показать свою мудрость и сочувствие, – не все поля одинаково плодородны, и не все коровы дают одинаковые удои. А жить-то надо!
– Да, жить надо, – вздохнул и он, – и тебе и мне. Думаю, вместе нам будет легче, чем врозь.
Она зашла к знакомой, взяла у нее тележку и принялась наводить порядок в чердачной комнатенке Хлебша: каждую мало-мальски стоящую вещь брала с собой – мол, на что-нибудь пригодится.
– Ну а теперь пошли! – сказал Хлебш, когда они все разобрали. – И, как говорится, в добрый час…
– Хорошо бы так оно и было, – ответила она со вздохом.
Звонарь в церкви на Урбане подумал и решил еще разок-другой легонько ударить в колокола, но потом вдруг разозлился: «Неужто я и вправду буду полдня звонить по покойному партизану! Верно, он был еще и коммунистом! Может, и не хотел вовсе, чтобы по нем звонили, да и жене его тоже все равно, звоню я или нет. И священник Петер не станет следить по часам, сколько времени я звонил».
И правда, священник не смотрел на часы, он шагал, торопясь изо всех сил, погруженный в свои мысли, которые трудно было передать словами, и его спутники тоже вряд ли смогли бы выразить то, что думали. И все же после длительного молчания между ними завязался
ИНТЕРЕСНЫЙ РАЗГОВОР О РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩАХ,
который начал священник Петер, обратившись к Яке:
– Колокольчика-то я с собой не захватил. Да и тебе бы, наверное, стыдно было звонить, как положено служке, когда он сопровождает священника, несущего святые дары.
Яка шагал, то предаваясь тоске, вызванной бегством Минки, то люто злясь на нее. Он встрепенулся и сказал язвительно:
– Ничего, и святые дары можно нести тихо, без трезвона. К тому же я мечтал стать художником, – добавил он сердито, – а не звонарем и не церковным служкой!
Священник Петер вспылил. Он ответил грубо, словно нарочно хотел унизить Яку, и это удивило Алеша:
– Эх, парень, звонарь по крайней мере ест свой трудовой хлеб и пьет свое винишко, так я думаю.
Вздрогнув, Яка нахмурился и ответил:
– Тебе жаль куска хлеба, что я у тебя съел, стопки черешневой наливки да стаканчика випавца, что я у тебя выпил? – Затем усмехнулся и сказал скорее самому себе, чем священнику: – Лучше уж воровать у крестьян с полей или из амбаров, чем проповедовать им, будто есть бог, тогда как мы оба – и ты и я – отлично знаем, как взаправду обстоят дела…
На этот раз священник не рассердился, он ответил миролюбиво и вполне серьезно:
– Для тебя бога не существует, ты давно не пускаешь его к себе на порог, а меня он сегодня ночью опять навестил…
Алеш Луканц оживился. За последние два дня он почувствовал, насколько постарел этот крестьянский, но очень неглупый в свое время священник. Алеш не рассмеялся, услышав слова священника, а спросил со всей серьезностью, на которую был способен:
– Что, опять ему не спалось? Я имею в виду бога.
– Бессонница мучает его так же, как и меня, – столь же серьезно ответил Петер. – Мы проболтали до самой мессы, обсуждали все дела. И это, парень, вовсе не шутки.
– Я же сказал, что видел его в церкви во время мессы, – вмешался Яка, намереваясь продолжить разговор на эту тему. – Он сидел на скамье один-одинешенек и думал о чем-то своем. У него такая большая борода.
Священник несколько смутился, особенно после слов о бороде, но тут опять заговорил Алеш:
– Что с него возьмешь, раз ему делать нечего! – Он стремился заглушить боль своей израненной души и в шутливом разговоре развеять горечь. Священник чувствовал, что Алеш над ним подтрунивает, но очень хорошо его знал: парень хотя и не верил в бога, зато был искренним и глубоко порядочным человеком. Этот партизан всегда был Петеру намного ближе, чем другие, заходившие к нему в военное время. Именно Алеш связал его с партизанами, за что немцы то и дело грозили ему арестом, а епископ – перемещением по службе, если он не исправится. Что поделаешь – в то время Петер беседовал с партизанами о будущем, за которое они боролись. О религии не говорили. Но когда Петер после войны остался один со своей «церковной кафедрой и исповедальней» Метой, он вдруг начал быстро стареть. Навещал его теперь только Алеш, работавший несколько лет в городе, в долине, да художник Яка, но этот бывал все реже – он стал современным художником, который не мог творить «в существующих условиях» и все больше пропадал в столице. Петера Заврха стала мучить бессонница, читать с лампой ему не разрешалось, да он и с ней-то плохо видел, вот и лежал он в постели, закинув руки за голову и мечтал до тех пор, пока его фантазии не начали переплетаться с явью. И совершенно естественно, что во время этих бессонных ночей повадился приходить к нему его добрый словенский бог, живший, очевидно, где-то в горах близ Урбана и на старости лет страдавший бессонницей, как и Петер Заврх.
– А что ему делать, нашему богу, – сказал художник Яка, – ведь словенский бог уже в те далекие времена, когда наши предки поселились здесь, принадлежал к земледельческому сословию. А с тех пор как вы начали проводить индустриализацию страны, он стал и вообще лишним. Даже погодой ведает теперь не он, а радио, которое сбивает его с толку. Он всегда жил в горах, которые наверняка были ему по душе, так же как и здешние крестьяне – этакие крепыши – из тех, что побогаче. Что ж, ему посещать теперь заседания рабочих советов? Или ходить на собрания правлений и комитетов? А может, возглавить профсоюзы? С крестьянами ему тоже не о чем разговаривать. Вот он и заходит к Петеру поболтать. Как-никак собеседник он довольно просвещенный. Если его вообще интересуют просвещенные люди.
– Умных людей, – сказал Петер самодовольно, – простых, с открытой душой, он всегда любил.
– В самом деле? – Яка даже вскрикнул от удивления, а затем кольнул и священника и Алеша. – До сих пор я был убежден, что бог и правительство любят только широкие массы, самые простонародные. А ты, Алеш, что об этом думаешь? Ты ведь все-таки частица нынешней власти.
Алеш Луканц воевал в свое время не только против оккупировавшего страну неприятеля, но и за установление новой власти, за революцию и готов был за это голову сложить. Но сейчас он почувствовал какое-то смущение – в сердце его не было больше прежнего огня, будто и не боролся он за нынешнюю власть. И все же он приготовился сразиться с Якой. Только его опередил священник Петер:
– Так кажется лишь неглубоким людишкам, дорогой мой горе-художник. Это правда, и бог и власти желают иметь в своем распоряжении широкие массы, а разговаривать они любят с избранниками. Когда бог на Синае хотел передать Израилю свой закон, он не созвал массовый митинг и не открыл собрание избирателей, а призвал на гору Моисея и вручил ему десять скрижалей с заповедями.
– То было давно, – возразил Яка, – тогда он был еще законодателем всей жизни. А теперь он вместе с тобой подтрунивает над социализмом – не правда ли, Петер, признайся!
– Нет, уж если мы с ним критикуем, то по-серьезному, – сказал Петер решительно и, усмехнувшись про себя, обратился к Алешу: – Признайся, Алеш, разве вы сами больше всех не подтруниваете над своей властью? А мы ничего особенного и не говорили, – поспешил он добавить. – Бог сказал только: пусть коммунисты сами попробуют, какова она, власть, и как управляться с массами и решать социальные вопросы. Ведь индустрия не может их разрешить, капиталисты это поняли уже давно, и крестьянам вы уделяете мало внимания, прижимаете их, даже здешних, что живут в горах и таскают всю жизнь корзину за спиной и едва сводят концы с концами.
Художник не дал Алешу возразить, он поспешил спросить священника:
– А моим искусством твой бог не возмущался? Ты не показал ему мадонну, которую я для тебя пишу?
Священник Петер поднял голову и ответил резко:
– Ты ведь, Яка, совсем не работаешь. По-моему, вы, художники, научились жить в свое удовольствие, почти ничего не делая, – но тут же смягчил свой приговор, увидев, как тот задел Яку за живое – тем более что был высказан в присутствии Алеша. – Эту твою божью матерь я не решился показать даже Алешу, а он как-никак коммунист! – И Петер, усмехнувшись, слегка обернулся к Алешу, словно ища у него поддержку. – Он превратил молодую Яковчиху в матерь божию, цветы черешни – в белые облака, а вместо ангелов у него там фабричные и деревенские девчонки из окрестностей Урбана – те, что носят новомодные чулки, сквозь которые просвечивает каждая волосинка.
Священник Петер самодовольно посмеивался. Не заметив, что Алеша бросило в краску при этом новом оскорблении Минки, он торопливо сыпал словами:
– После этого я бы не удивился, если бы он пририсовал Христу у развилки под лиственницами вместо креста корзину за плечами и превратил его в горьянца!
Священник заливался смехом; художник, уже забывший недавние обиды, улыбнулся и язвительно ответил Петеру:
– Попробуем отбросить историю и биохимию и доверимся священному писанию, из которого следует, что бог создал человека по своему образу и подобию. Не знаю, почему не могла быть раем наша милая Крайна, скажем, область между двумя Савами или Савой и Сорой? Ты утверждаешь, что тебя посещает бог? Он наверняка никуда не переселялся. Если вообще он существует, это самый обычный словенский, так сказать, краинский бог. И не было бы ничего удивительного, если бы ты встретил его с корзиной за спиной или застал за ужином у кого-нибудь из крестьян – он запивал бы молоком кусок ячменного хлеба. Здесь его дом, здесь он заканчивает свою миссию.
Священник Петер замахал палкой. Но Яка не дал ему сказать ни слова.
– Да, заканчивает, я это утверждаю. Все, что не соответствует своему времени, должно рано или поздно умереть. Что же ему – стать секретарем районного комитета и разъезжать на автомашине по собраниям? – Он перевел дух, потому что дорога поднималась круто в гору, и снова опередил священника: – И Мария тоже должна быть такой, как наши девушки – с веткой цветущей черешни, цикламеном или горечавкой в руках, окруженная горными цветами, в перлоновых чулках и перлоновой блузке, с розоватым загаром от нашего горного солнца. Человечество не вернется к прошлому, – Яка посерьезнел, развивая и углубляя свою мысль, – оно не станет искать себе бога, даже когда снова подастся из одной крайности в другую, кинется прочь от наскучивших модных салонов. Оно снова будет ценить будничный труд на фабриках и крестьянских полях и мечтать о такой красоте, какую мы видим в окрестностях Урбана, особенно когда здесь цветут черешни, цикламены или горечавки, а может быть, и о Яковчихе или какой-нибудь другой…
– Мы должны найти путь к человеку, – перебил его священник. Он хотел еще что-то добавить, но вмешался Алеш:
– Да, к человеку, к самому обычному, простому человеку, к тому, что работает на фабрике или носит корзину за спиной – все равно. И тогда уж – вперед!
Воспоминания охватили Петера, и он воскликнул:
– К человеку! А ты помнишь, Алеш, как мы все это когда-то обсуждали? И если у вашей власти есть какие-то задачи, то эта – главная. А от человека – к богу! – размечтался он. – Человечеству следовало бы найти путь назад, домой…
Тут снова заговорил художник:
– Я смотрю в будущее, верю в него. Скоро начну верить и в человека – в завтрашнего человека, который покончит с войнами и прочими подобными глупостями, за исключением, конечно, борьбы за свободу.
– А я мечтаю, – тихо возразил священник Петер, – что вернусь в прежнюю обитель, но она будет более совершенной.
– Алеш! – воскликнул художник. – Создайте нового человека, создайте новый мир. В вас я еще верю… Ну, а сейчас дай мне черешневой наливки, я совсем запыхался, а, как утверждают альпинисты, водка на таком подъеме не рекомендуется.
Он вытащил бутылку из кожаной сумки священника, которую нес Алеш, и, вынув пробку, сделал несколько больших глотков, затем протянул бутылку Алешу.
– Надоело мне философствовать! Хочу отдать глаза свои и сердце красоте, которая буквально цепляется за ноги – вон какой тут пышный вереск и какие великолепные подснежники! И этот роскошный ковер простирается до величавых лиственниц. Мне кажется, нигде в мире нет такой красоты, как в окрестностях Урбана, да вот не удается мне закрепить ее на холсте – ловит ее только сердце.
Алеш вежливо предложил бутылку священнику, который с жадностью отхлебнул несколько глотков, потом выпил сам. Затем оба они окинули взглядом открывшийся вид – все это великолепие, опьянившее художника. Слева от проезжей дороги круто вздымался откос, поросший елями и лиственницами. Между деревьями тянулся к солнцу папоротник и другие травы, на полянках розовели вересковые подушки. А справа зеленые луга обрывались вниз, туда, где в ущелье шумела речушка; по другую ее сторону горный склон в зарослях елей, сосен и буков снова устремлялся ввысь. Яркое солнце щедро заливало луга.
– Когда ты станешь настоящим художником, – сказал Петер Заврх с какой-то набожностью, – все это заговорит с тобой, все превратится в песню: вереск и подснежники, луга и поля, осыпи и стога сена, лиственницы, в которых шумит ветер, и речушки, журчащие день и ночь, маленькая пчелка, пеночка, дрозд, голуби, синее небо, ветер и облака – и человек тоже, человек, Яка, прежде всего. Думаю, красоту просто срисовать нельзя. Во всем должен быть ты сам – в вереске, в цикламенах, в ветре, а в первую очередь – в человеке. Все это – часть тебя, твоего сердца, твоей веры, твоей красоты, твоего стремления к прекрасному, и все ты должен претворить и выносить в себе, все заново воссоздать…
Мудрствования старого священника поразили и Яку и Алеша. Захваченные его воодушевлением, они с удивлением смотрели на него. Наконец Яка сказал взволнованно:
– Ты говоришь так, будто всю жизнь только и делал, что ловил прекрасное полными горстями и сердцем.
– Да, ловил, – тихо ответил Петер Заврх и вскинул голову, – все время ловлю прекрасное – сердцем, не для картины.
– Мы все его ловим сердцем. А я хотел бы его не только поймать, но и запечатлеть на полотне, – сказал Якоб, – подарить эту красоту людям – всем, кто, глядя на нее, будет радоваться и находить в ней утешение.
При этом он невольно подумал о Минке. Ему показалось, что она убежала от него нарочно – только для того, чтобы отрезать ему все пути к прекрасному, о чем так вдохновенно говорил Петер Заврх и о чем громко и непрестанно твердило его сердце; может быть, Петер вообще ничего подобного и не говорил, потому что вдруг он изрек нечто прямо противоположное:
– Наивысшую красоту я нашел в боге.
– Оставь ты бога в покое, – сердито заворчал Яка, – особенно сейчас, когда все сказали свое слово – природа, человек и мое сердце! Бог – это составная часть минувшей истории, – добавил он решительно. – Вечен только человек, и вечна красота, что родилась вместе с ним и будет жить до конца его дней.
Священник свернул с проезжей дороги на узкую тропинку, ведущую мимо осыпей в котловину, со всех сторон окруженную лесом. Внизу, испещренные огромными рытвинами, раскинулись луга, кое-где поросшие кустами и деревьями – купами и поодиночке. Местами склоны были крутыми, почти отвесными, по ним струились ручьи, с веселым журчаньем перескакивавшие через камни, образовывая ступенчатые каскады водопадов. По берегам зеленели болотные травы, а где повыше – были высажены фруктовые деревья, которые уже вовсю цвели.
Путники прошли мимо осыпей. Теперь перед ними открывалась вся котловина.
Остановившись, они в изумлении засмотрелись вниз. Там стоял
ДОМ В ОКРУЖЕНИИ ЦВЕТУЩИХ ЧЕРЕШЕН,
усадьба двадцатидвухлетнего племянника Петера Заврха, Раковчева Виктора, всю свою жизнь прожившего здесь, на отдаленном хуторе, откуда до самых ближайших соседей полчаса ходьбы.
За год до окончания войны немцы убили его отца, случайно, когда тот заготовлял дрова в лесу, где шла облава на партизан. Отец его был человеком не робкого десятка и отнюдь не скупым – двери его дома, как и других домов под Урбаном, были открыты партизанам и днем и ночью. Только не удалось им уговорить его уйти с ними в леса. И все равно он погиб в лесу.
Мать Виктора умерла еще до войны, когда он был трехлетним мальчонкой. В дом взяли Марту, робкую четырнадцатилетнюю девочку, у которой было тяжелое детство, что навсегда наложило на нее болезненный отпечаток. А поскольку батрак Рок тоже был человеком со странностями, Виктор вырос в чудно́м окружении – среди молчаливых людей, открывавших рот лишь в том случае, когда необходимо было о чем-то спросить или что-то ответить. Рок и Марта срослись с этим домом, стали его неотторжимой частью, как и другие предметы, только были они предметы одушевленные.
Когда погиб отец, Виктору было почти двенадцать лет. Дядюшка Петер и тетка Мета, навязавшие ему свое опекунство и считавшие себя в какой-то мере совладельцами усадьбы в Раковице, хотели, чтобы мальчик взял в дом еще кого-нибудь, кто помогал бы в работе. «Кого-нибудь умного», – сказала тетка, уже подыскавшая для этой цели «умную женщину» по своему вкусу. «Среди придурковатых, – обратилась она к брату, – мальчик и сам станет придурком». А Виктору она попыталась дать совет: «Тебе нужна хозяйка в доме».
Виктор пожал плечами и ушел в хлев к Марте.
– Мне совсем не нравится, что он тут один с этой бабой. Вот станет постарше – как бы чего не случилось, – сказала Петеру Мета.
А Виктор тем временем разговаривал с Мартой:
– Они хотят, чтобы мы взяли еще работницу. Я пришел тебя спросить – если ты справишься одна, никого брать не станем.
Немного подумав, она коротко ответила:
– Справлюсь.
– Марта говорит, – сказал Виктор дядюшке с тетушкой, – что справится одна.
Родственники сердито попрощались и ушли. Усадьба, которая, по их мнению, больше принадлежала им, чем Виктору, уплывала у них из рук.
Никто не знал, что творилось в Раковице добрый десяток лет после войны. Соседи в дом не заходили, дядюшка с тетушкой, правда, бывали здесь, но из кратких ответов «да» или «нет» не могли себе уяснить положение, и хотя «всекрестьянская коллективизация» торговка Катра являлась сюда каждую неделю, ее сведения ограничивались тем, что она видела своими глазами. А видела она молчаливых людей, которые работали не покладая рук. Ни Марта, ни Рок не ходили к мессе, лишь Виктор изредка появлялся в селе. Иногда он бывал и в городе. Но чаще оказывался в Подлесе, пока там жила Яковчева Минка. Люди в горах не умеют выражать скрытые в сердце чувства. По вечерам тяжелые входные двери запираются на засов, а плотно завешенные окна глядят неподвижно в глухую ночь, словно глаза слепого.
Осенью дядюшка Петер пришел навестить Виктора. Священник в свое время не получил причитающейся ему здесь доли наследства и поэтому пытался присвоить себе хозяйские права в родной усадьбе. С Виктором он обращался как с арендатором. Всякий раз, оказавшись в Раковице, Петер Заврх становился совсем иным человеком. Это был уже не священник из церкви на Урбане. Он превращался в упрямого сельского хозяина, пререкался с племянником и вмешивался во все дела. Как только Виктор усадил гостя за стол, Марта принесла копченого мяса, ржаного хлеба, водки, молодого вина и сразу же вышла.
– Она что, немая? – спросил дядюшка Виктора.
Тот пожал плечами и нахмурился.
– Она не любит разговаривать с людьми, боится их, – ответил он.
– Я не кусаюсь, – сказал священник.
– Конечно, не кусаешься, – согласился Виктор.
Затем дядюшка подробно расспросил его обо всем, о каждой мелочи. Он осмотрел дом и хлев, то ругал, то хвалил скотину, сердился, решал, которого теленка следует откармливать, а которого продать, даже на дворе, где гуляли куры, он пытался распорядиться, каких оставить, а каких зарезать или отнести на рынок. Обошел он и сад, небольшой лесок, а затем и всю котловину с возделанными полосками земли и лугами, щедро залитыми солнцем. Каждый год он с воодушевлением говорил об участке, усеянном выветрившимися обломками скал, который следовало бы превратить в луг или даже в пахотную землю. Завершив обход, он наказывал племяннику:








