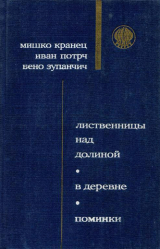
Текст книги "Лиственницы над долиной"
Автор книги: Мишко Кранец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Неожиданно – они уже остановились у дверей трактира – Петер Заврх вмешался в разговор и возразил художнику, который, как ему казалось, издевался надо всем:
– Искусству легко. Когда ему надоест жизнь или когда оно ее не понимает, оно призывает белые облака на небо и фальшивую печаль – в сердце. У политики есть управление внутренних дел и тюрьмы, одна только церковь и вера остаются с человеком.
Его ответ ничуть не задел художника, казалось, он уже ко всему притерпелся. Спокойно ответил он священнику:
– Не восхваляй церковь и не воображай себя спасителем человечества. Никто не проклял столько людей и не обрек их на вечный огонь, как всяческая религия. Надо заметить, Петер, что из тюрем, хотя я их ненавижу, еще можно вернуться, а вот из ада до сих пор никто не спасся. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь создал такую религию, где был бы только рай. Я говорю не о католическом, православном или мусульманском рае, а о самом обыкновенном краинском рае, в котором рабочие на фабриках получат зарплату немного выше нынешней, а у тех, кто все еще носит за плечами корзину, жизнь станет чуть полегче. Если это будет коммунизм, дорогой Петер, мы отвесим ему поклон оба, ты – от имени церкви, я – от имени искусства. А на сегодняшний день каждый выкручивается, как может. – И он побольнее уколол священника: – Я еще сегодня, Петер, увижу в Раковице твою щедрость…
Петер Заврх, урбанский священник и раковицкий крестьянин, выслушал нападки разочарованного художника, неестественно выпрямился, прикрыл глаза, словно взвешивая что-то в уме, но ответил покорно, смиренно:
– Мне пора в церковь – сегодня господний день. Если соберетесь к Урбану, думаю, вечером я уже буду дома. В церковь вас звать бессмысленно.
– Мы с Алешем выпьем по стаканчику неблагословенного напитка, по возможности сделанного в горах. Надеюсь, он там имеется, из трактира тянет самым глубоким, самым сырым оврагом из окрестностей Урбана. – И добавил: – К Урбану я вернусь за красками и холстом. Не знаю, понадобятся ли они мне. На всякий случай захвачу, может, когда-нибудь мне захочется излить на полотне боль своего сердца. Но кажется, сегодня утром я увидел, как искусство, красота и вера промчались мимо меня – в управление внутренних дел…
Петер Заврх увел безвольного племянника, а Яка затащил Алеша к Рибичу, где заспанная Тончка налила им водки. В церкви святой Едрты зазвонили колокола. Яка облокотился на стойку и загляделся в окно.
– Старая Яковчиха позавчера умерла, Алеш.
Алеш доставал кошелек из кармана, чтобы заплатить за водку. Он не оглянулся посмотреть, кто к нему обращается. Яка тоже не оглянулся. Оба онемели. Они смотрели куда-то мимо буфетчицы, которая принялась мыть посуду. Человек, стоявший у них за спиной, продолжал:
– Она умерла в пятницу вечером. Похороны будут в одиннадцать, после мессы у святой Едрты. – Потом обратился к буфетчице: – Тончка, налей-ка и мне стаканчик. Пока их нашел, обыскал весь город, – усмехнулся он и заговорил уже ни к кому не обращаясь: – Вечером она попрощалась с Фабиянкой. Приготовила детям ужин и уложила их спать. В одиннадцать опять зашла к Фабиянке… «Жжет у меня, Фабиянка, страшно жжет, – сказала она, – дай мне стаканчик черничной настойки, может, она получше. Взяла бы длинный кухонный нож да так и распорола бы себе живот. По крайней мере перестала бы пить, – усмехнулась она. – Да уж ладно, пусть остается как есть, – а то было бы уж очень некрасиво. Еще пару часов как-нибудь потерплю. – Уходя, она усмехнулась. Фабиянка говорит, что она все мешкала, так ей не хотелось домой. В дверях она спросила: – Надеюсь, Фабиянка, я тебе ничего не должна? Ведь государство не станет платить мои долги, а я не хочу их за собой оставлять. Думаю, мы теперь квиты – государство и я, да и ты и я – тоже? – И добавила: – Старших вы легко найдете. Хотелось бы, чтобы и Минка пришла на похороны, если вы ее разыщете, несчастную. И Алеш мог бы прийти, да и художник тоже, а, Фабиянка?..» Вот я вас и ищу. Может, вы знаете, где Минка. Вчера я сто раз стучался к ней в двери. Бог знает, где ее искать…
– Уехала она, – сухо ответил художник, потрясенный известием о смерти Яковчихи. Потом уточнил: – Алеш Луканц занимается политикой, он зайдет к секретарю. Пару часов они как-нибудь без нее обойдутся, Алеш, как ты думаешь?
– Я схожу, – удрученно сказал Алеш.
– А я поищу Петера Заврха. Ему, наверно, тоже надо прийти, – заметил Яка.
– Церковной панихиды не будет, – сказал незнакомец, – так решили партизаны.
– Ясно, – кивнул Яка, – но надеюсь, Петеру Заврху это не помешает.
– Это конечно, – человек усмехнулся.
Солнце уже стояло высоко. Люди высыпали из церкви и выстроились в две шеренги вдоль дороги: ожидали новобрачных – Кржишников женился на девушке из Брдо. К счастью, в Брдо вовремя узнали об отсутствии Петера Заврха и потому не мешкая отправились в долину, к святой Едрте. Кржишников заказал два автомобиля; рядом с разукрашенными автомобилями, ожидавшими пассажиров, стояли трое музыкантов, явно подражавших модному ансамблю.
Петер Заврх из окна в доме священника церкви святой Едрты смотрел на площадку перед церковью, на веселые свадебные хлопоты. Здесь же, в старом кресле, дремал его племянник. Священник не беспокоил своего собрата. Петер отслужил мессу утром, а сейчас хотел дождаться похорон старой Яковчихи. О ее смерти он узнал от священника, который добавил к этому известию несколько малоприятных замечаний о заблудших овцах пастыря Петера Заврха, утерявших свое религиозное рвение.
– Вполне возможно, что она даже не исповедалась, несчастная, знаю я ее! – возмущался местный священник, имея в виду Яковчиху.
Петер Заврх покраснел как ребенок и тихо сказал:
– Да нет, исповедалась и исповедь была длинная… – Ему хотелось что-то добавить, но показалось, что его хозяин этого не поймет. «Слишком он ревностен», – подумал Петер Заврх, и ему захотелось солгать своему коллеге. Ведь Яковчиха принадлежала к его миру, миру Урбана.
– Похоже, твои прихожане никуда не годятся, – заворчал священник.
Петер Заврх снова покраснел и так же тихо возразил:
– Да нет, они люди порядочные. Работают на фабрике, если дома не свести концы с концами, воспитывают детей, ходят к мессе и на исповедь, жертвуют на нужды прихода… – На этом Петер Заврх оборвал фразу – ему показалось, что для церкви всего этого слишком мало. Однако для обитателей Урбана этого было вполне достаточно и для Петера Заврха тоже. Тогда он подошел к окну и стал наблюдать за тем, что происходит перед церковью. Своего собрата он уже не слышал. Возле церкви собрались гости и музыканты заиграли веселый марш.
– Пойдем, – сказала невеста, – скоро начнутся похороны, чего доброго встретимся… – Она повернулась к Кржишникову со словами: – Вообще лучше всего было бы подождать, пока процессия пройдет. Дурная примета…
Жених взглянул на нее.
– Давай спрячемся, – сказал он, и так раздосадованный тем, что приходится венчаться в церкви. Зато дом они все-таки достроили. А разве он один смог бы справиться? С его-то жалованьем? И все же, не удержавшись, он подкусил ее: – Теперь ты и лампадку дома зажжешь?
Невеста растерянно посмотрела на него, и ее глаза наполнились слезами. Она прошептала пересохшими губами:
– Зажгу. Не жить же нам без лампадки?
– Ладно, пусть горит, – пробормотал он. Но ему показалось, что в его жизнь закралось что-то чужое, недоброе. Оглянувшись на невесту, он увидел, что она плачет. – Ну, перестань, – сказал он уступчивее, но все еще с раздражением.
– А лампадку я зажгу, ладно?
– Ладно, ладно, – пробормотал он, и они сели в машину, которая свернула в боковую улицу – переждать, пока пройдет похоронная процессия.
Богатое, роскошное солнце залило своим светом все вершины вокруг Урбана, все ущелья, склоны, цветущие деревья, засияло над лиственницами в Подлесе, когда партизаны поставили гроб на крестьянскую телегу. Пришел час, который наступает для каждого, и теперь
СТАРАЯ ЯКОВЧИХА ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ДОЛИНУ,
как это обещали ей все ее дети: пятеро, которые боролись и пали за свободу, и три подрастающие дочери. И вовсе не дети виноваты, что случилось это с таким запозданием. Все хорошее в жизни слишком часто приходит с запозданием. Было бы странно, если бы это миновало Яковчиху, пережившую столько бед и страданий. А сейчас ничто не мешает и ей отправиться в этот путь. Ее дети ушли в долину, в рай, о котором с малых лет мечтают все под Урбаном и который манит и притягивает, вот они и уходят один за другим – на фабрики, в школы, – за какой-то иной жизнью. Священник Петер Заврх утверждает, что даже мертвые и те не хотят оставаться возле Урбана. Теперь дом Яковчихи опустеет и только пять похоронок по-прежнему останутся висеть на стене, если их кто-нибудь снова не заменит иконами.
Обитатели Подлесы всхлипнули, увидев телегу с черным гробом, а вокруг нее столько партизан, когда-то охотно заходивших и в их дома; плач стал громче, когда кто-то сорвал ветку цветущей черешни и положил ее на гроб старой Яковчихи. Вот так же везли в долину ее сына Лойзе, только тогда за телегой оставался кровавый след. А теперь люди застыли в молчанье. И вдруг ожили леса вокруг Урбана, стали словно десять лет назад, ожили все одинокие домишки; казалось, кто-то пробудил людей, пробудил ушедшее время, разбудил прошедшие зимы и весны, весны надежды и веры. И раздался грохот пулеметов и автоматов, как в ту пору, когда каждый выстрел жгучей болью отзывался в сердце старой Яковчихи – не погиб ли от этого выстрела один из ее пяти детей, пока не стала она равно тревожиться за всех, кто был в партизанах.
Замолкли леса и наступил прекрасный весенний день, когда Яковчиха в первый и последний раз направилась в долину. Она покидала свою Подлесу. Корзина осталась в углу, мотыга повешена на крюк, очаг – мертв; если бы Минка сейчас возвращалась домой, она была бы разочарована – мать не ждала ее. А старая Яковчиха покидала Фабиянку и свое место в ее трактире. Она проезжала мимо цветущих садов, мимо зеленых лугов, мимо подлесских нив, распаханных, засеянных и засаженных, мимо обвалившихся скал над деревней, мимо знакомых лиственниц, Где ей теперь можно было и не останавливаться – люди только на мгновение замедлили шаг, проходя мимо распятия, поставленного в память о несчастном случае с ее покойным мужем Йоштом. Но останавливаться процессия не стала. Яковчихе не надо было прощаться с мужем.
Шествие спускалось по дороге, мимо двух деревень, мимо новых нив, новых лугов и новых сосновых и буковых лесов – до самой церкви, где повозка остановилась. Партизаны сняли гроб, поставили его на носилки и подняли на плечи. Впереди гроба несли много венков, за гробом их было еще больше, не забыли и ветку черешни из Яковчихиного сада.
Люди, которые были на мессе и встречали новобрачных, теперь ожидали Яковчиху. Ее ждали Алеш Луканц и художник Яка Эрбежник. И священник Петер Заврх со своим племянником тоже пришел сюда. Бедный Петер Заврх едва не рассорился со своими собратьями из церкви святой Едрты, которые даже слышать не желали о гражданской панихиде…
– Она была человеком, – не выдержал священник Петер, желая оправдать свое присутствие на похоронах. – Настоящим человеком.
– Да только о церкви слышать не хотела, – возразил капеллан; он говорил более резко, чем священник, поскольку был моложе его и не отличался склонностью к компромиссам, в чем – в глубине души – упрекал своего патрона.
– Это правда, – признал бедный Петер Заврх, – у Фабиянки она бывала охотнее, чем в церкви. И все же она была настоящим человеком. Она отдала за свободу пятерых детей, да еще сама, с тремя дочерьми, помогала борцам.
– Она отдала их за коммунизм, – возразил капеллан.
– О коммунизме она не думала. И дети, уходя в лес, не думали о коммунизме, – сказал Петер.
– А сейчас живут… Господи помилуй! Одна так совсем сбилась с пути, – ехидно заметил капеллан.
– Плохо от этого только им самим, – возразил Петер Заврх. – Что же до младшей, то – не судите, да не судимы будете – ей нужна большая любовь.
– Чего-чего, а любви ей хватает. Даже с избытком. Правда, не слишком чистой…
Петер Заврх в ответ пожал плечами и ушел опечаленный. И вот теперь он стоял в толпе, среди людей. Благостью переполнилось его сердце, когда рядом с сестрами Резкой и Анчкой он увидел Минку. Выпустили ее насовсем или только на время похорон?
Уже в темном платье, она плакала горько и безутешно о том, что навсегда лишилась материнской любви, чистой, все понимающей и все прощающей. Никогда больше не отправится она к Урбану, никогда больше с вершины горы не бросит взгляд на родной дом. Некому больше ее корить за неладную ее жизнь, и не с кем ей плакать над своим прошлым. Не меньше горевали Резка и Анчка. Все трое ощутили безнадежную пустоту, понимая, что со смертью матери кончилась часть их жизни.
Священника Петера Заврха смерть Яковчихи потрясла до глубины души, как ни одна другая. Ему показалось, что та старая крестьянская смерть, которая разгуливает вокруг и косит людей самой обыкновенной косой, подошла совсем близко и шепчет ему: «А теперь твоя очередь, Петер. Готовься». А еще были воспоминания, которые внезапно обрушились на него, воспоминания о давних годах, когда встретил он ее, свою настоящую и такую мимолетную любовь, единственную за всю жизнь. И наконец – эта встреча два дня назад, когда он предлагал ей святое причастие, а она вместо исповеди поведала ему о своей жизни… Сейчас он стоял на солнце с непокрытой головой, с длинными совершенно седыми волосами и растерянно смотрел на людей, как будто до сих пор никогда их не видел: обыкновенный человек – обыкновенных людей. Он обратился к крестьянину, который стоял рядом с ним и шепнул:
– Сходи к священнику, попроси у него кропильницу… Ведь Франца принадлежала не только партизанам, но и мне, и оба мы – им.
Затем его взгляд с нежностью остановился на Алеше. Ему показалось, именно Алеш, никто другой, должен сказать слова прощанья старой Яковчихе. Но прежде, чем Алеш заговорил, запел мужской хор. Пока хор пел, Алеш незаметно выискивал взглядом среди присутствующих Минку. Ему стало горько и больно, когда рядом с девушкой он увидел Мирко. Но он тут же позабыл о навязчивом парне, – он видел ее одну. Он смотрел на нее из-под полуопущенных ресниц и ему казалось, что она меняется у него на глазах. Разве это не та маленькая девочка в короткой юбчонке и рваной кофточке, которую он увидел впервые в тот февральский день, когда вошел в их дом? Вот она бежит по глубокому снегу к бункеру, босая, в плохонькой одежонке, по колено проваливаясь в сугробы. Но ее путь к нему начинался тогда, когда он впервые вошел в их дом и ее огромные карие детские глаза остановились на нем с восхищением; с тех пор он видел на себе этот неотрывный взгляд. Тогда это началось, а кончается здесь, сейчас, когда бог знает какими сложными непонятными путями пришла она к этому парню из управления.
– Давай, Алеш, – шепнул кто-то. Он не заметил, что хор уже кончил. Алеш вздрогнул и заговорил поспешно, быстро, словно кого-то хотел догнать, может быть, маму Яковчиху, которая сейчас ускользает от всего человеческого. Он заговорил, и людям показалось, что заговорили леса вокруг Урбана, запели свою величественную песню, которая через ущелья и вершины доносится сюда, в долину, прямо на кладбище, где старая Яковчиха в последний раз обращается ко всем им: «Ну, прощайте, дети, и поберегите себя. А захотите есть, помните, что у Яковчевых всегда для вас что-нибудь найдется. Хотя бы пара яиц. Куры и те знают, что надо прилежно нестись!» И еще людям показалось, что старая Франца Яковчева встала из гроба в черном платье, заранее приготовленном для такого случая несколько лет назад, стоит рядом с Алешем и обращается к ним. При жизни Яковчиха говорила скупо, немногословно, как и все ее земляки. А сейчас она заговорила – о родных краях, в которые враг принес убийства и пожары; заговорила о людях, которые ушли в леса, и в конце – она не могла умолчать об этом – о своих пятерых детях, в память о которых на стене в родном доме висят похоронки. Четыре года страха и забот, три года надежды и веры, беспокойства за детей и три года ожидания: когда же наступит конец. И он наступил, а Яковчиха оставалась в Подлесе, в своем доме; как и прежде, у нее была корзина, которую приходилось – как и прежде – таскать за спиной, особенно после того, как ее дочери отправились в долину, на фабрику, а она осталась здесь. Сама она теперь не могла уйти в долину, упустила время, в конце концов не могла расстаться со своим домом и родными краями под Урбаном… вплоть до сегодняшнего дня. А теперь и она может отправиться за своими детьми: отложила корзину, погасила огонь в очаге, заперла двери, а ключ спрятала на окне, за цветочными горшками, на тот случай, если ее дочери, или кто из бывших партизан, или вообще кто-нибудь захочет войти в дом. И вот она здесь, среди них, и ей уже не ходить в горы, разве что в тихие ночи, в мечтах, которые она будет вынашивать в одиночестве, – она всегда жила в одиночестве; и вот она перед ними – как память, как совесть, как пример всем будущим матерям; пусть и они – если придется – отдадут своих детей во имя родины, человечества, будущего, во имя спасения других… Такие будут жить вечно, даже если умрут молодыми.
Хор готовился запеть последнюю песню, когда на место Алеша неожиданно встал священник Петер Заврх. Он заговорил, и голос его слегка дрожал, что еще больше усиливало общее волнение:
– Разреши и мне, дорогая Франца, попрощаться с тобой, а также от имени своих прихожан, собравшихся здесь. Я хочу обратиться к тебе как человек к человеку, настоящему человеку, каким ты была в жизни. Оглянись, на свете столько знаменитых мужей, столько великих людей – политиков, ученых, спортсменов, тех, чьи имена наши дети произносят с уважением, о ком они мечтают. Мне всегда казалось, что наши бедные, хотя и очень красивые края, не дали ни одного человека, которого можно поставить в ряд со значительными и славными людьми. Но мы забыли – матери живут по всему свету. Время испытаний, которое наступило и для нас, возвысило наших матерей. Ты стала великой, Франца. Не потому, что родила восьмерых детей, но потому, что сумела отдать их миру, человеку. Жизнь сделала тебя твердой. – Похоже, Петер Заврх вспоминал об их последней встрече. Той Яковчихи, которая отказалась от причастия, он хвалить не мог, наоборот, он должен был ее порицать, и все-таки он явственно чувствовал, что Яковчиха возвысилась над ним, над всеми. Петер Заврх потерял нить своей речи и поспешил закончить, пообещав, что память о ней будет жить вечно. Он судорожно схватился за медную луковку кропильницы, которую кто-то уже протягивал ему, и со словами: – Я покроплю тебя и прочитаю для тебя «Отче наш» и «Ave Maria», – покропил всех присутствующих, затем громко помолился, как и обещал, и отошел в сторону.
Запел мужской хор: о весне, о птицах; и впрямь всюду, вплоть до самого Урбана, царила роскошная весна и везде, – вплоть до самого Урбана, пели птицы в лесах, в кустах, на нивах, по лугам и осыпям, пели звонче, чем когда-либо, пели прощальную песню для матери Яковчихи.
Боль и обида переполняли Алеша и все-таки он не удержался, подошел к Минке. Он заглянул ей в глаза и, почти не разжимая губ, сказал, так тихо, что даже стоящие рядом с Минкой сестры едва ли слышали его:
– Минка, я буду тебя ждать. Я пойду все объясню им, они поймут.
Она не шевельнулась, помолчала, опустив покрасневшие, заплаканные глаза, и произнесла:
– А понимать нечего, Алеш. И ждать не надо. Некого.
– Я приду за тобой, где бы ты ни была.
– Не приходи, ты меня не найдешь, Алеш.
Резка взяла Алеша под руку. Незаметно отвела его в самый конец кладбища, к каменной стене, к заброшенным могилам. Здесь никто не мог видеть их, никто не мог слышать. Резка подняла к нему заплаканное, в красных пятнах лицо.
– Алеш, я скажу тебе, только тебе: этот ребенок не Минкин.
Алеш вздрогнул, заморгал глазами и изумленно уставился на Резку, на мгновение он почувствовал облегчение: выходит, Минка не виновата. Но это облегчение ничего не меняло. Он спросил:
– Чей он?
– Какая разница, Алеш?
– Я никому не скажу. Но я хочу знать.
Заплаканные глаза вперились в него. Она рассказывала, но говорила без слов, говорила ее душа. А сама Резка прошептала, чуть слышно, с мольбой:
– Я не могу, Алеш. – Ее грудь вздымалась, губы беззвучно шевелились, она молила о пощаде. – Не ее, – повторила она; потом у нее вырвалось: – Пойди и выдай нас, мы все три знаем об этом, все три виноваты. – И она страстно, слово в слово повторила слова, сказанные той страшной ночью Минкой: – «Сама я никогда не рожу, никогда не буду кормить, никогда не буду укачивать, так пусть я усыновлю его, хотя бы мертвого; он будет здесь, под окном. Посмотрю вниз, а он будет здороваться со мной, весь в цветах, в зелени». – И опять упрямо повторила: – Пойди и выдай нас, мы все виноваты. Если хочешь, мы с Анчкой пойдем и заявим. Ребенок наш, Алеш, всех трех. Но Минка не хочет, чтобы это сделали мы. Говорит, ей терять нечего, а у нас – дети. И что ей, так или иначе, надо искупать свои грехи. Скажи, Алеш, чего ты теперь хочешь от нас?
Словно от боли исказилось лицо Алеша, он повторял имена всех трех, потом тряхнул головой и прошептал, словно убеждая самого себя:
– Поступайте, как знаете. – И хотел уйти.
Она схватила его за руку. Воскликнула взволнованно, страстно:
– Мы будем ждать тебя, Алеш, все три. До самой смерти.
Они вернулись к людям. Он еще раз пожал всем трем руки, еще раз выразил свое сочувствие и еще раз встретился с Минкиным взглядом. Потом отошел к партизанам. Появилась Фабиянка:
– Она мне наказала пригласить вас, выпить в память о ней по стаканчику. Идем! – и, взяв Алеша за руку, пошла рядом с ним. Трактир был битком набит людьми, среди которых уже сидел Петер Заврх со своим племянником. Минке тоже разрешили зайти к Фабиянке. Художник Яка нашел ее в углу передней комнаты.
– Минч! – в голосе был упрек и боль. – Зачем ты это сделала? Для чего тебе это? Мы же с тобой договорились, что уедем отсюда.
Она молчала, спокойная, со следами слез на лице, в черном платье, подчеркивавшем ее красоту. Его боль была непритворной: начиная с пятницы, бедный художник с каждой минутой чувствовал себя все более потерянным, пока окончательно не впал в отчаяние, там, под окном. С крохотной надеждой, пробудившейся в сердце при взгляде на нее, он повторял в печали, называя ее детским именем:
– Зачем ты это сделала, Минч, зачем? Сейчас мы бы уже были далеко отсюда, и все было бы иначе. Почему ты не позвала меня в Подлесу? Почему ушла с Виктором?
Ответ был спокойный, но слова злые, жестокие:
– Ты стар, Якоб. Слишком стар для меня. – И с холодной насмешкой, словно для того, чтобы навсегда уничтожить его, добавила: – Найди себе вдову, которая будет готовить тебе и ухаживать за тобой. А мне нравятся молодые парни! – У Якоба в душе что-то оборвалось. Больнее она не могла его ранить. А она издевалась, словно мстила за что-то непоправимое, непростительное: – И нарисовать ничего порядочного ты уже никогда не сможешь, Якоб, будешь нахлебником у священника Петера. Ты же ничего не умеешь да и не хочешь. – Казалось, чтобы растоптать его, убить его душу, она добавила сурово: – А я вовсе не мадонна, Якоб. И не девушка с гор; мне совсем не хочется надевать на спину корзину. И фабрика тоже не для меня. Слишком маленький заработок, на него не проживешь по-человечески. И еще, Яка, – заключила она, – ты же видел сегодня утром, из окна… Я убила ребенка! Неужели тебе этого мало, Яка?!
Якобу этого было более чем достаточно. И все же он чего-то ждал, на что-то надеялся. Что она изменится? Что все, что она говорит, – неправда? Она слегка отстранилась, когда он неожиданно протянул к ней руки.
– Не вздумай меня целовать, еще размажешь губную помаду!
Он почувствовал в этих ее словах юмор висельника, которого у него самого было с избытком, однако слышать такое от Минки было жутко. И все-таки у Яки хватило сил спросить:
– Чей это ребенок, Минч? Я не могу поверить…
Она презрительно скривила губы и беспощадно ответила:
– Пусть это тебя не волнует, разумеется, он мой. Не стала бы я убивать чужого. – Судорожно протянув ему руку, она неожиданно сказала: – Если хочешь чего-нибудь добиться – вернись в город, Якоб. Твой дом в городе, не в горах. А обо мне не думай. Когда вернусь из тюрьмы, пройдут годы. Тогда и я буду старая. Богатства у меня и сейчас нет, а к тому времени и красоты не будет. А одной любви, Якоб, сдается мне, для жизни слишком мало. Одной любовью не проживешь. – Он пытался отнять у Минки руку, хотел еще поговорить с ней, но она, пожимая ему руку, прошептала: – Прощай, навсегда, Якоб! – Повернулась и пошла к людям.
А Мирко увел Алеша в заднюю комнату трактира.
– Хочу поговорить с тобой начистоту, Алеш, – заявил он.
– Наконец-то, – усмехнулся Алеш, – после того, как ты так долго играл в прятки, «жених».
Мирко, этот красавец из управления внутренних дел, сердито прикусил губу:
– Ты-то должен понять, что я при исполнении служебных обязанностей. Я и так позволил вам веселиться всю ночь.
– Какое великодушие! – воскликнул Алеш. – А ведь ничего другого тебе не оставалось; не будь нас там, Минка была бы арестована, но и сегодня ты знал бы ровно столько, сколько вчера.
Мирко кусал губы: Алеш был прав, и это злило его. Едва сдерживая гнев, он заявил:
– Ты пойдешь со мной, Луканц!
Алеш удивленно посмотрел на него.
– Не именем закона, надеюсь?!
– Именем правды, если хочешь. Ты нужен нам. Ты многое знаешь. Ребенок не Минки. Если она тебе дорога и ты хочешь, чтобы она скорее вернулась… Ведь ты ее любишь, а она тебя любит… Ты придешь к нам и все расскажешь, Луканц.
– Ты занимаешься и расследованием любви? – усмехнулся Алеш. Он не ждал ответа, зная, что не получит его, и потому продолжал решительно: – Хватит с вас и того, что вы знаете. Все равно, вы кого-то осудите. Даже если бы я знал все, тебе я бы ничего не сказал. – Он придвинулся ближе к Мирко и доверительно сказал: – Да, я люблю ее и буду ждать. Но спасать – не буду, по крайней мере такой ценой – не стану.
Тогда Мирко швырнул ему в лицо свой последний довод:
– Ты коммунист и не станешь прикрывать чужих преступлений. Ты придешь к нам и поможешь, как это положено члену партии, Луканц!
Алеш едва удержался, чтобы не кинуться на парня с кулаками.
– Знаешь что, – гневно ответил он, – у меня другое представление о некоторых преступлениях, чем у тебя, вернее, о некоторых преступниках. Я сказал: хватит с вас того, что вы знаете и что она вам сама скажет. Судите ее. А я приду на суд защищать человека, а не преступление. – Он повернулся и пошел к людям; все разговаривали только о Франце Яковчихе.
На Урбан возвращались под звуки пьяной песни, однако певца не было видно, – его скрывали частые повороты дороги. Но, прислушавшись, Яка догадался и сказал шедшему впереди Петеру Заврху:
– Это Рок,
НЕРЕШЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС
нашего времени и наших краев, о котором мы, честно говоря, совершенно позабыли. – Этим он хотел задеть Алеша Луканца и потому говорил едко и громко.
Виктору не надо было называть певца: он слишком хорошо знал голос своего батрака, который даже дома охотнее пел, – разумеется, в пьяном виде, – чем говорил. В Викторе пробуждалось странное ощущение, которое начало его беспокоить: мир словно бы проносился мимо него, оставляя после себя лишь чувство полной беспомощности.
Яка ускорил шаги, желая догнать Луканца, который явно хотел побыть в одиночестве: у него было над чем поразмыслить. Взяв его за руку, словно девушка парня, Якоб начал изливать свою тоску в горьких словах:
– Проклятье, похоже, всем этим происшествиям и несчастьям, которые начались в пятницу, и конца не видно. Вот и пение Рока свидетельствует о том, что у нас будет еще не один повод для неудовольствия. По правде говоря, Луканц, я и без того зол. – Он не нашел выражения, более точно характеризующего его настроение. Яка никак не мог забыть слов Минки о том, что он слишком стар и уже не напишет ничего стоящего, хотя и понимал, что она говорила это в момент глубокого отчаяния. – Солнце уже клонится к Урбану, – продолжал он. – А я собирался разлечься на травке, заложив руки под голову, и призвать печаль в сердце и белые облака на небо! – Он захохотал нарочито громко и ожесточенно, так что священник невольно оглянулся на него. Алеша удивил его смех. А Яка добавил: – С облаками мне теперь советоваться не придется.
– Мог бы с людьми посоветоваться, – запальчиво ответил ему Алеш, – если тебе так нужны советы.
– Минка уже дала мне весьма полезные советы, – воскликнул художник.
– Уже дала? – повторил Алеш, не глядя в его сторону.
– Она любит тебя, – с завистью и горечью произнес художник, – тебя и ваши воспоминания, они сильнее тех, что связаны со мной. Честно говоря, Алеш, мне кажется, я или сломался, или переродился. Стану гуманистом!
– Коли уж ты выбираешь, – в тон ему язвительно ответил Алеш, – желаю тебе переродиться. Если это возможно для тебя, разумеется. А вообще-то нам всем следовало бы переродиться, – проворчал он, освобождаясь от руки Якоба.
Тот утвердительно кивнул. Слова Алеша задели его, и у него вырвалось отчаянное:
– Она мне сказала, что я слишком стар для нее, мне, мол, надо поискать себе вдову. А ее не ждать. – Алеш стал вслушиваться; Яка продолжал: – И все-таки я вернусь сюда, когда под Урбаном зацветут черешни. Она будет на свободе и станет думать иначе. От пустоты в душе и отчаянья человек иногда делает глупости – почему бы ей не прийти ко мне? Если ее не будет летом, вернусь будущей весной. Стану приезжать каждую весну, Алеш. Времени хватит, мне уже нечего терять на этом божьем свете. – И опять у него вырвались слова, которые потрясли Алеша: – Знаешь, эти убийства детей матерями… Здесь нужно судить кого-то другого или что-то другое, не знаю что. Скорее бы я осудил отца, который убивает ребенка уже тем, что отказывается от него; а над судьбой матери можно рыдать. Когда вернешься к политике, Алеш, скажи вашим людям, вашему социализму, пусть они сделают ключик, самый обыкновенный, которым можно будет открыть дверь в такую жизнь, где женщины вообще перестанут думать о чем-то подобном. Иначе им лучше вовсе не рожать. Искусство уже не сможет сделать такого ключика. Оно, дорогой Алеш, – да и то в редких случаях – превратилось всего-навсего в платочек, которым мы вытираем заплаканные глаза. Ключи к жизни можете делать вы, конечно, если захотите. И скажу тебе, Алеш, понадобится чертовски много ключиков. Вот, и для таких людей, как этот Рок, тоже надо найти калитку в жизнь, – и Яка кивнул в сторону долговязого, сухощавого батрака Рока, который, не переставая горланить, маячил перед ними, – пиджак накинут на плечи, шляпа сдвинута на затылок.








